ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


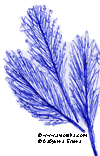
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ганина Майя 1966
1. — Поляны светились лимонным светом... — сказал Юс. — Это мое! Чур, не воровать.
— Положим, раз я тебя сюда привела, тут все мое, — возразила я. — Если мне надо будет, возьму. Но для стихов этого не надо, это проза — и не очень хорошая.
Юс ничего не ответил, но я поняла, о чем он молчит. Он был уже достаточно известным писателем, вокруг его рассказов шли споры, ругня, а кто слышал обо мне? Юс снисходительно считал меня талантливой, но талантливой где-то внизу, в трюме: сам же он ходил по палубе.
Он был прав, но не в том смысле, что мне недоставало таланта, а в том, что я невезучая, — это хуже, чем неталантливая. Когда везучий человек делает в искусстве бизнес, его все, в общем, уважают. Понимают, что он делает бизнес, не претендуя ни на что другое, всем нравится, что он делает его красиво, а главное, всем нравится его успех, который вообще неизвестно отчего зависит — просто король-случай. Если есть успех — это все, тут даже умные люди начинают в конце концов думать: я, наверное, ошибаюсь, раз всем нравится. Наверное, это просто не в моем вкусе, а на самом деле все-таки талантливо.
Неудачника, покуда еще неизвестно, что он неудачник, все любят, говорят ласковые слова о его таланте, потом начинают жалеть, а потом, когда окончательно выясняется что он неудачник, к нему чувствуют брезгливость, пока наконец просто не забывают, что он живет на свете.
В своей личной судьбе я, в общем, удачлива. Прекрасно могла бы я сорваться с трамвая и разбиться, когда он несся через Каменный мост, а я висела на подножке и у меня совсем онемели руки. Или могли спихнуть с поезда, когда я ездила за грибами на Столбовую, а после цеплялась за состав, обсыпанный людьми, точно вшами. Или тот солдат из хозчасти мог меня встретить не в поле, а в лесу... Да господи! В три года я помирала от скарлатины — если бы не приехал отец и не дал мне кровь для переливания... Впрочем, все началось гораздо даже раньше: я была нежеланным внебрачным ребенком, и мать серьезно намеревалась сделать аборт. Помог король-случай, необыкновенное мое везение...
Хотя, с другой стороны, все могло бы идти на ином, более спокойном и сытом уровне — и тогда то, в чем мне везло, просто не происходило бы.
Но Юс пока еще не знал, что я неудачница, он просто считал, что я гораздо менее талантлива, чем он, и общественного внимания ко мне поэтому, естественно, неизмеримо меньше. Юс даже пытался передавать мне свой опыт, хотя мы и работали в разных жанрах.
— Понимаешь, старуха, — говорил он, — я хитрый татарин и из нашего долгого учения в этом институте вынес «мыслю»: остается простое: Шекспир... Чехов, Бунин... Всякая шантрапа, которая выпендривалась почудней, чтобы привлечь к себе внимание, забыта. Они просто были малоталантливы, старуха, потому и делали кульбиты. Так что, главное, не мудри, как... — Тут он называл несколько фамилий известных уже молодых поэтов. — Пиши просто. Я вот пишу просто.
Оставалось действительно главным образом простое, потому что, в общем, конечно, самое сложное поразить людей простотой, к тому же в простом не скроешь отсутствие мыслей и отсутствие своего отношения к жизни. Только у каждого из великих была своя простота, к которой они приходили через сложность, через поиски. А у Юса простота была не своя. Талантливая, но не своя. Нельзя обманывать судьбу, ее не перехитришь.
Ну, ладно, не в том дело.
Мы были в лесу, ночью, это я позвала Юса пойти по моему кольцу на лыжах после обеда. Стояли на лыжне, смотрели вокруг, каждый подмечал свое. Глаза у Юса были хорошие, ничего не скажешь, детали он видел, как никто.
Юс перестал глазеть на лес, оперся грудью о скрещенные палки — был он тогда уже грузноват, выглядел старше своих тридцати трех лет — и принялся разглядывать меня. Я никогда не была особенно хороша собой, но поэтессе это прощается, если она пишет любовную лирику на высоком уровне. Я писала всякое и такие стихи тоже, хотя читала их редко.
— А ты ничего... — сказал Юс и улыбнулся. — Давай поцелуемся.
— Не хочу. — Мне правда не хотелось с ним целоваться, потому что он никогда не вызывал у меня эмоций такого рода.
Юс не обиделся, он привык, что я со странностями. Они с Викой даже говорили, что я их заставила поверить «в возможность дружбы между мальчиком и девочкой», хотя с самой школьной скамьи они относились к этому скептически. Юс помолчал, еще раз поглядел вокруг и на небо, чтобы запомнить, как именно сверкает снег, светятся поляны, выпечатываются на небе черными вершинами сосны и ели. Положил это в свою кладовку, чтобы вытащить после, когда надо.
— А ты сумасшедшая, Верка, — уверенно сказал он. — Зачем это мы сейчас в лесу? И до Малеевки еще топать и топать час. Могли бы сидеть, пить коньяк, ты бы читала свои симпатичные стихи и играла на гитаре. А вдруг волки? Иди вперед.
— Волки обычно нападают сзади, — сказала я, хотя не знала, откуда нападают волки.
— Тогда иди сзади.
Про коньяк и сидение в комнате Юс говорил не всерьез, хотя, может быть, ему, правда, стало скучно со мной и захотелось поскорее очутиться в тепле, поужинать, сходить в кино или сыграть в бильярд. Но вообще-то его тоже мотало за впечатлениями по северу, югу и центральной полосе. Он тоже был ушибленный, иначе он не мог бы так писать. Но насчет волков — это правда. Юс был не рыцарь и не скрывал этого, считая, что талант надо беречь. Впрочем, сейчас очень многие поняли, что жить хорошо и благородные слова того не стоят, чтобы из-за них лишаться самого дорогого.
Юс побежал впереди по лыжне, я следом. Он оглянулся, сильно ли я отстала, и повторил еще раз:
— Нет, ты сумасшедшая. И зовут тебя как-то по-дурацки: Вера. Так женщин не зовут, разве что у Чернышевского. Любимых женщин, старуха, так не зовут.
Положим, его имя тоже не ласкало слух: Юсуп. Но он был прав: я сумасшедшая, хотя тогда я еще об этом не знала. Догадывалась, что я какая-то не совсем такая, как все, но мне казалось, что это из-за плохого характера: мне с детства отец, а особенно мачеха внушали, что у меня плохой характер и что жить мне поэтому будет трудно. Мне и на самом деле трудно жить, но не из-за характера, а из-за того, что я не как все. Не то чтобы я лучше или хуже, просто совсем другое измерение.
— А некоторым очень нравится мое имя, — сказала я. — И мне тоже иногда нравится. Иногда не нравится.
Один человек говорил мне: «Господи, как тебя прекрасно зовут: Вера... Вера!.. И как твое имя тебе подходит!.. В тебе тайна есть, непонятное, хрупкое что-то, неуловимое... Ведь верить можно только в то, что до конца не понимаешь, не представляешь ясно, в то, что выше тебя... Едва ты что-то до конца понял — оно уже рядом с тобой, это вещь из твоего обихода. Как верить в нее? Или любить?.. Поэтому сейчас нет любви, нет веры: почти все уже понятно, поставлено рядом. Все обыденно...»
Вот такие слова я выслушивала однажды. Мне они были приятны, но человек, который их говорил, был мне не нужен. Мне был нужен другой человек, которому была не нужна я. Теперь я понимаю, что виновато мое иное измерение: тем мужчинам, которые мне нравятся, трудно со мной. Другим не трудно, а этим трудно. Впрочем, другим тоже было бы трудно, но они не чувствуют этого, а те чувствуют сразу. Им нужны нормальные женщины, потому что сами они нормальные люди.
Но опять-таки это я сейчас понимаю, а тогда не понимала и старалась приспособиться. Я всю жизнь старалась приспособиться, стать нормальным человеком, пока не поняла, что ничего все равно не выйдет.
— Ладно, — сказала я Юсу. — Иди не оглядывайся, не то на ужин опоздаем.
2. Хотя я честно пыталась одарить Юса тем, что увидела сама, но одна в лесу ночью — это вовсе не то, что вдвоем. Я вообще люблю гулять одна. Люблю быть одна.
Не всегда, конечно, — можно, наверное, повеситься, если вечно быть одной. Иногда мне просто необходимы люди, шум, разного рода кульбиты, вроде даже выпить водки и повалять дурака. Но если люди, шум и кульбиты длятся дольше трех дней подряд, меня начинает томить черная хандра, мизантропия — и тут уж я ищу одиночества любым способом. Однажды, устав от тесного дружеского общения в Малеевке, я сказала, что уезжаю в город. Заперлась у себя в комнате и целый день провалялась, заткнув уши ватой, не пила, не ела. Все было хорошо, но мои добрые друзья вечером взяли у гардеробщицы ключ, чтобы поставить мне в комнату ужин. В комнате они нашли меня, им было странно, мне неловко, но если бы я не отдышалась чуть-чуть вот так, боюсь, что я начала бы кусаться...
Теперь я понимаю, что причиной подобных странностей было мое воспитание. Мама, которую папа убедил-таки аборта не делать, родив, быстро препоручила заботы о дальнейшей моей судьбе папе. Тот тогда был холост.
Я росла таким образом: иногда у меня были няньки, раза два я начинала ходить в детский сад, но чаще всего отец меня оставлял одну дома, заперев на ключ. Помню, что, проснувшись и поиграв немного во что-нибудь для очистки совести, отец строго наказывал мне не скучать и играть в игрушки, — я садилась возле двери и смотрела в замочную скважину, кто поднимается по лестнице. Ждала отца. Случалось, он приходил очень поздно: у него все-таки была какая-то личная жизнь; тогда, не дождавшись, я так у порога и засыпала. Мне влетало, конечно.
Гости, вообще какие-то люди у нас бывали редко, я думаю, из-за того, что отец не любил убирать за ними. У нас была, как теперь бы сказали, однокомнатная квартира, а на самом деле просто келья высшего разряда в бывшем монастырском доме. Двери большинства келий выходили прямо в коридор — нашу от коридора отделяла небольшая кухня, где, кроме водопровода и дровяной плиты, никаких других удобств не было.
Помню, что у нас всегда было очень чисто и красиво, но, наверное, мрачно.
Отцу, когда я родилась, было уже сорок лет, и он начал приобретать привычки холостяка: любил чистоту и порядок, но, поскольку няньки у нас дома долго не задерживались, думаю, из-за того, что каждая быстро начинала претендовать на роль хозяйки, отец делал все сам.
У нас был паркет, уложенный большими квадратами, отец натирал его темно-вишневой мастикой, и я пачкала пятки, когда бегала по нему босиком. Пятки, чулки или следики фетровых валенок, в которых я ходила дома зимой, были у меня всегда оранжевые. Обои в комнате были темно-красные, в мелкую сеточку, а сверху по ним шел очень широкий бордюр с мишками в лесу, я любила его разглядывать, валяясь на кровати.
Вечером, вернувшись с работы, отец топил голландку, я садилась перед раскрытой дверцей и глядела в огонь; по-моему, он меня гипнотизировал: не помню, чтобы я думала или представляла что-то занятное, глядя в огонь, однако оттащить меня от печки и уложить спать было достаточно трудно.
Одевали меня дома в байковые длинные штаны и тоненький бежевый свитер. Как-то, поперхнувшись, я облила его рыбьим жиром; после, несмотря на стирки, он противно пах, но обновки мне покупали редко, этот свитер существовал даже тогда, когда я пошла в школу.
Отец хорошо готовил. С тех пор я, пожалуй, не едала ничего такого вкусно: драчену, например— блюдо из муки и яиц, запеченное в печке. Или форшмак из селедки, мяса, яиц и белого хлеба. Помню, что отец даже пек куличи и запекал в той же голландке окорок в ржаном тесте.
Отец был атеистом, но устраивал мне тайно на рождество елку — тогда это считалось почти преступлением. Отец меня любил, конечно.
Как все человеческие детеныши, я жаждала общества, но с каждым годом мне становилось все труднее с детьми и со взрослыми.
Как-то приехала моя тетка по матери и жила у нас с неделю. Мне хотелось ее развлечь, но я не знала как и врала ей, что у нас живет мышь, которая, если тихо, выходит из норы и играет со мной. Тетка, желая сделать мне приятное, сидела не шевелясь, ожидала выхода мыши, но та, конечно, не показывалась. Тетка разговаривала со мной, как со старушкой: почтительно и терпеливо.
Мышь у нас жила, но выходила только в сумерках, если не горел свет. Тогда мне бывало страшно. Мышей я не боялась, но мне казалось, что это шуршит и тихонько топочет не мышь, а что-то еще. Если вдруг, обманутая тишиной, мышь выбегала днем, то я бросала ей кусок булки, и она улепетывала в свою дыру, словно от камня; а отец после ругался, что я разбрасываю хлеб и сорю.
Трудно мне приходилось и с моими одногодками: они нюхом определяли на мне печать отверженности и играть со мной не желали, только дразнили. Если же я находила девочку, которая, как и я, была одна, то игры у нас все равно не получалось: я не умела играть.
Однажды я и еще какая-то девочка остались после закрытия детского сада: мой отец и ее мать запаздывали. Воспитательница одела нас и оставила во дворе. Мы забрались на какие-то задворки и сели на груде железного лома. Поговорили на тему о том, кто твой папа и где ты была летом, потом девочка предложила играть в дочки-матери. Я, естественно, была отцом, она матерью, детей у нас пока не было, дальше моей фантазии хватило лишь на то, чтобы сказать, что я пойду на работу, а ты сиди дома. Но как и зачем ходят на работу, я не знала, подошла к железному прутку, торчащему из груды лома, и стала его трясти. Трясла я его долго, девочке стало скучно, она сказала: «Ну тебя, ты дура!» — и убежала к воротам. Я же осталась на задворках, пойти за ней мне было стыдно.
Правда, когда мне исполнилось пять лет, я стала вдруг свободно читать и читала «Маугли», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Ребята и зверята», «Рассказы о животных» Э. Сетона-Томпсона, «Приключения барона Мюнхгаузена», «Гулливера» и прочие детские книги, журналы «Еж», «Чиж» и «Пионер», печатавшийся тогда на плохой бумаге формата газетного листа. Не думаю, что сильно изменилось содержание моего домашнего сидения: какие-то грезы, какие-то видения во мне шли всегда, теперь они стали просто идти на сюжеты прочитанных мною книг, особенно Маугли. Но зато, выходя на улицу, я уже могла предложить ребятам поиграть в Маугли, рассказывала, что и как надо делать, распределяла между ними роли Багиры, Каа, Шер-Хана, братьев-волчат. Всем нравилось играть во что-то необычное, и хотя печать отверженности с меня смыта не была, я ее стала чувствовать гораздо меньше, забывала о ней. Дети бессознательно хотят быть, как все, не выделяясь ни прической, ни одеждой, ни языком. Я тоже хотела быть, как все; увы, мне это никогда не удавалось.
Лирическое отступление порядком затянулось, но мне просто хотелось, чтобы было понятно, откуда взялись у меня некоторые странности в характере. Ничего ведь не бывает просто так.
Так вот, мои ночные путешествия по лесу начались, в общем, случайно. Я вышла после обеда на свое кольцо, думая, что успею пройти по нему до наступления сумерек. Неделю назад я ходила в лес после обеда и как раз к сумеркам вернулась в дом. Однако я забыла, как быстро сокращается световой день в это время года. Когда я вошла в лес, стало смеркаться, я прибавила скорость, но чем скорее я шла, тем быстрее темнело: дальше в лесу деревья были все гуще и все выше. Тогда я решила не торопиться, а наоборот, пойти тише. Я еще никогда не была в лесу ночью, если не считать, что девчонкой во время войны ездила с ночевкой за грибами, но ночевала я на станции под лавкой, а не в лесу. Выходила рано, едва начинало светать, но те мои ночные походы не считаются: ума не было, страха не было. Да и глаз не было. Сейчас у меня есть глаза, правда, есть и страх. Но страх я умею подавлять.
Я шла по своему кольцу: пятнадцать километров, ежедневная норма вместо зарядки — привычное, примелькавшееся до того, что днем я даже не глядела по сторонам. Если я иду гулять по прямой, то мне сразу же хочется вернуться: почему бы не вернуться с этого места, зачем идти дальше? А в кольце есть центробежная удерживающая сила: если уж вышел на орбиту, несись по ней, хотя бы до того момента, когда точка выхода на орбиту не сомкнется с точкой схода с нее. В общем, мы ведь все время совершаем какие-то замкнутые круги: уходя на работу — возвращаясь с нее, улетая в командировку — и прилетая. Можно, конечно, сказать, что это движение по прямой: туда — и обратно, по линии движения исходная и обратная никогда не совпадают, не совпадают и психологические линии, это всегда вытянутый эллипс — окружность, а не прямая. Полный психологический цикл человеческой жизни — тоже эллипс.
3. Короче говоря, я шла по своему кольцу, шла медленней и медленней, потому что вокруг все было ново для глаза. Ново не только тем, что днем светло и солнце, а ночью темно и луна. Ново было содержание окружавшего меня.
Я очень люблю день и солнце — при солнце мне покойно и весело, а сейчас было как-то странно, но странно по-хорошему. Я подумала, что, вероятно, ночью из-за отсутствия солнечной радиации меняется состав атмосферы — точнее, ее электрический состав. Я человек необычайно нервный, сильно реагирующий на малейшие изменения в окружающей обстановке, а тут у меня еще был особый, почти радарный настрой, и я вдруг почувствовала: наконец-то!.. Вот оно, мое время, время звереныша, выращенного взаперти.
Я ощущала себя необычайно легко — так легко мне еще ни разу не бывало днем, когда присутствие непривычного для моего организма элемента, вероятно, подавляло меня. Мне было воздушно бежать: палки вскидывались сами и, втыкаясь в снег, почти подбрасывали тело в воздух. Поле было синее, с каким-то чуть розоватым отливом и нереальное, как нереальна была легкость моих движений и тот внутренний подпор — у горла стояла гениальность. Я понимала, что вот в таком состоянии всходят на костер и не чувствуют боли.
Я бежала, касаясь кольцом палки своей коротенькой синей тени, и вдруг подумала: как странно — тень?.. Об этом задумывались и до меня бесконечно, я прочла, наверное, почти все написанное на эту тему, прочла, но не думала, а тут, видно, пришел мой час, и я удивилась: тень?.. Я бежала и следила за ней краем глаза — она менялась в движенье, становилась длинней, голова была узкой, стертой, словно это было какое-то животное с острова доктора Моро. Потом тень укоротилась так, что, казалось, пропала вовсе. Я представила себя где-нибудь в Узбекистане: там земля бела и суха, солнце сжигающе-бело, а тени резки и черны, представила себя среди всего этого без тени, точно потерявшую земное притяжение, точно язык пламени, который тает в свете дня и улетает к небу.
Я вышла к сожженной деревне, вернее, деревни давно не было, ничего не было, только ветлы, идущие двумя рядами, как бы через улицу, как бы перед домами, которых давно нет. Это было зловеще: выбеленные луной ветлы на черном тугом небе и рядом, на взгорке, две пирамидки со звездочками.
Я постояла, глядя на эти ветлы, на эти деревянные пирамидки, чувствовала в себе этот страшный внутренний подпор, граничащий уже с истерией, со слезой, я еле сдерживалась, чтобы не закричать, не заплакать, не покатиться по снегу: «Встаньте... встаньте! Господи, зачем это было, как это могло-о быть!..»
Я заставила себя двинуться дальше, скоро лыжня завернула в лес, у меня пошли стихи. Я вообще пишу странные стихи; может, плохие, но мне они нравятся. Некоторые удивляются им, другие смеются, а некоторым они нравятся. Юсу и Вике, например.
Я, словно ослепленная, бежала по лесу, боясь потерять стихи, которые шли, как огонь горит: вскинется пламя — оторвется, а новое возникает на тоньшающих сучьях — и опадает, не в силах оторваться, синеет — и дым.
Хорошо, что все-таки я вспомнила, что где-то в этом месте должен быть сворот на лыжню, которая ведет к дому. У сосен были тут сомкнуты вершины — ни черта не видно, но я сто тридцать третьим чувством слышала, что это именно здесь. Присела на корточки и, щупая лыжню, шаг за шагом нашла место, где ее пересекала другая лыжня.
Ну вот, на следующий день я позвала с собой Юса, думая, что он испытает то же самое. Но он не испытал, а когда я стала растолковывать ему, что со мной было, он сказал, что я истеричка и психопатка и что, если бы я была подобрей с ним и с другими мужчинами, ничего бы такого не происходило. Насчет других мужчин он был просто плохо информирован, но рациональное зерно в его рассуждениях, конечно, присутствовало. Религиозный экстаз, поэтическое озарение всегда на грани безумия, такое состояние любили и умели вызывать в себе древние — жизнью в ските, длительными голодовками, половым воздержанием. Древние знали цену взлету духа, Юс в этом ни черта не понимал. Впрочем, и здесь он пытался перехитрить природу: чего-то похожего он достигал при помощи бутылки коньяка. Но это было лишь жалкое подобие.
4. Впрочем, к Юсу и Вике я относилась очень хорошо, теплее, пожалуй, чем ко всем остальным моим знакомым из этой полубогемной среды. Они и утомляли меня гораздо меньше, чем все прочие, и хотя к ним я тоже как-то приспосабливалась, но не в такой степени, с ними я была почти самой собой. Я чувствовала, что им со мной интересно именно потому, что я не похожа на других знакомых женского пола, что пожалуй, за эту не деланную непохожесть они уважают меня. Даже Юс, который на всех взирал с высоты своего таланта и растущей известности, внутренним чувством смотрел на меня снизу вверх, с любопытством, с удивлением. Такой парадокс: презирал и почтительно удивлялся. Но в то же время, конечно, им было не просто со мной, оттого трудно, — я думаю, они рады бывали отдохнуть от моего общества среди нормальных, к тому же красивых женщин.
Как-то я приехала в Ленинград и остановилась у Вики. Он был скульптор, жил с матерью и братом-близнецом в неуютной, довольно населенной квартире, каких тогда было много и в Москве, и в Ленинграде. Пришел Юс и еще один, теперь известный драматург с женой, его мы тогда запросто звали Олежкой. Викина мама уехала в гости к сестре, мы же решили устроить веселый вечер: начистили и сварили картошки, лук и хлеб был, скинулись на бутылку водки. Были мы тогда еще сравнительно молоды, равно бедны и, в общем, думаю, равно счастливы.
Картошка сварилась, мы вывалили ее в общую тарелку, нарезали крупно лук и хлеб, насыпали прямо на клеенку соль, разлили поровну водку, выпили, и было нам хоть не очень пьяно, но хорошо.
Обсуждали Викины последние работы, говорили о его большом будущем (это сбылось), потом разговором завладел Юс и сказал, что он хочет написать рассказ, как приезжают двое в чужой город: она, рыжая, яркая, крупная; он очень хочет остаться с ней наедине, но не везет. В гостиницах нет мест, друзей нет дома; целый день эти двое мыкаются по городу, наконец берут такси, едут куда-то, остаются вдвоем, но они уже устали от всего — возвращаются в город, он провожает ее на вокзал, ей и ему хочется, чтобы поезд скорее отошел, хочется скорее расстаться.
— Здорово? — спросил Юс, победно оглядел нас, сожмурился хитро и погладил свой большой бритый череп.
Вика сказал, что здорово, Олежка и его жена смущенно промолчали, а я спросила, зачем это надо писать. Тут Юс заорал и возмутился, Викин брат тоже возмутился и стал объяснять, чем грешит наша литература, с литературы мы свернули на политику, — в общем, был крик и несерьезное озлобление друг на друга. Вика кричал, что, ребята, это хорошо, это прекрасно, раз все мы по-разному думаем, а Юс резонно возражал, что ничего прекрасного тут нет, коли мы расходимся во взглядах на вещи принципиальные. Пришла Викина мама — и мы угомонились.
Мне очень нравилась Викина мама. Интеллигентная, седая, добрая, несчастная, верит в бога. Когда Вика уезжает куда-нибудь в командировку, она дает ему образок, который он, хоть и чертыхаясь, все-таки кладет в маленький карман в брюках и возит везде с собой. Мне почему-то всегда хотелось поцеловать у ней руку, — может быть, потому, что у меня не было матери, а это нужно человеку, иначе получается такая однобокость. Однажды, когда мы разговаривали о чем-то откровенном, я едва не поцеловала ей руку, но она испугалась и удержала меня. По-моему, она думает, что я Викина любовница, но я ей нравлюсь. Вика говорил мне: «Старуха, ты первая баба, которую я привожу в дом. Может быть, именно потому, что я не сплю с тобой». Вика любил такой «интеллигентский» жаргон, но малый он был хороший, была у него в душе доброта и тоскливая неуспокоенность человека незаурядного.
Мы пообщались с Викиной мамой, потом драматург с женой ушли, и мы перебрались в крохотную комнатку без окна, тоже принадлежавшую Викиному семейству.
Большая Викина комната была, наверное, метров сорока квадратных, какая-то пятистенная. Впереди, на свету, было устроено нечто вроде Викиной мастерской, там он и спал. От остальной комнаты мастерскую отделял книжный шкаф и буфет, дальше была как бы столовая, дальше, уже за платяным шкафом, стояла кровать Викиной мамы. Зоря, Викин брат, спал в том чулане, где сегодня должна была спать я.
Ну вот, мы ушли в этот чулан, тут было тепло, потому что одна стена была печкой, зеркало и затоп выходили в другую квартиру. Наверно, топили недавно, потому что стена была горячей.
Я легла на раскладушку, Вика сел у меня в ногах, Зоря сел на корточки, а Юс прислонился к теплой стене и стал петь. Пел он очень хорошо русские и татарские песни: отец у него был татарин, мать русская. Потом он стал петь песни Светлова. Я глядела на него снизу и очень его тогда любила.
— Ну, ладно, — сказал Юс, вдруг перестав петь, видно он все время об этом думал. — А о чем же, ты считаешь, надо писать?
— Я не знаю, о чем надо писать рассказы. Я знаю только, о чем надо писать стихи.
— Хорошо, о чем надо писать стихи?
— По-моему, стихи — это то, что нельзя пересказать. Стихи — это...
Я вспомнила тут, как однажды, еще девочкой, купалась в лесном озере: отец взял меня с собой на кордон. Наступила на что-то круглое и твердое в иле, подняла — это было грязное, я опустила ладонь в воду, чтобы омыть, и вдруг в нем, яйцевидном, сверкнуло солнце и отразилось что-то такое удивительное, непонятное — у меня застряло «ах» в горле, я разжала ладонь, это упало. Потом я час, наверное, лазила по дну, но найти не смогла. Возможно, то было просто хрустальное пасхальное яйцо, но у меня с тех пор осталось ощущение бывшего у меня в руках чего-то прекрасного, прозрачного, потрясающего — я все время вспоминаю это ощущение.
— Стихи... — повторила я и пошевелила пальцами. Не могла же я им рассказывать байки про яйцо. — И рассказ, по-моему, тоже должен быть таким, чтобы его нельзя было пересказать... Чтобы он был... что-то круглое... волшебное... Но в детском, конечно, смысле...
— В моих рассказах есть волшебное, — сказал Юс.
Он был прав, только волшебного пока там было чуть-чуть. Забегая вперед, скажу, что с каждым годом его становится меньше. Мастерства больше, волшебного меньше.
— Правильно! — сказал Вика. — В искусстве обязательно должно быть «волшебное»... Я вот тоже пытаюсь влепить его в гипс, волшебное. Не получается ни хрена.
Мы стали уговаривать Вику, что у него как раз получается, Зоря кричал, что беда нашего искусства именно в детскости, в выжимании из себя этого «волшебного». Я кричала ему, что он ни черта не понял, я как раз против «сю-сю» и красивостей, потому что жизнь жестока, но... В общем, я сама еще не могла сформулировать, чего я хочу, я только ощущала это, знала, что я права, но что самой-то мне вряд ли долезть туда, куда я стараюсь долезть. И ребятам тоже не долезть. В лучших стихах Блока, Ахматовой, Цветаевой есть то, о чем я толкую.
— Ладно, старуха, — сказал Юс. — Как выяснилось, теоретик ты хреновый. Давай-ка читай стихи. Потуши свет, Зорька.
Я читала стихи, а они слушали неподвижно, истово, как дети. Это было самое прекрасное время в моей жизни, дальше все быстро покатилось под горку.
5. Наши дорожки разошлись резко и навсегда. Собственно, для того не было никаких особых внутренних и внешних причин, просто вдруг быстро потекли наши жизненные дороги в три разные стороны: у Юса в свою, у Вики в свою, а у меня, естественно, в свою...
Юсу, наконец, надоела смена впечатлений, он женился, к тому же он становился все известней, и теперь его окружали на всяких там приемах и представительствах крупные писатели, писатели из молодых — известные, как и он, — и, общаясь с ними на представительствах, он привык встречаться с ними уже и в свободное от работы время. Когда он видел меня в клубе, спрашивал: «Старуха, ну как?..» Я отвечала: «Шестнадцать...»
И все...
Вика стал сильно пить, а когда он бывал трезв, у него в мастерской торчали разные польские и итальянские скульпторы, разговаривали о чем-то таком, о чем я не имела понятия. Однажды, приехав в Ленинград, я пришла к Вике, но быстро почувствовала себя серой, никому не интересной дурой, которая неизвестно почему сидит тут. Больше я не приходила.
Это, наверное, естественно, ничего странного и страшного тут нет, только я вдруг переменилась. Теперь я даже гулять одна почти не могла — что-то со мной произошло, томил меня какой-то страх и желание быть на людях.
Мои новые знакомые были все народ интересный, и разговоры велись интересные, я уходила из гостей с сознанием, что присутствовала при чем-то значительном, но просыпалась утром с ощущением пустоты и зря потерянного времени. Однако вечером снова шла в гости или звала гостей к себе.
Были у меня и романы, но, начав роман, мне вскоре хотелось его кончить, потому что все равно было одиноко, грустно, оставалось опять ощущение ненужности, необязательности происходящего.
Однажды я вспомнила Викину маленькую комнату, Юса в коричневом свитере и цветных носках, прижавшегося к теплой стенке, Вику, уткнувшегося лицом в ладони, и эту сладкую теплоту общего нашего присутствия, связанности чем-то внутренним. Никому из нас ничего друг от друга не было нужно, было просто хорошо, что все мы есть в этой комнате — и молчим. Может, то же самое испытывала стая наших предков возле общего костра: ты человек, я человек, он человек. Нам хорошо...
Я подумала, что, может быть, Юс и Вика были люди одной со мной породы, — бывает же, наверное, у людей, как и у собак, своя, близкая тебе порода. Больше я свою породу не встречаю, может быть, совсем не встречу, может быть, и они бессознательно чувствуют тоску по плечу или локтю своей породы, но задавливают это и мирятся на том, что окружает их, на их взгляд, порода более высокая, чем они, сенбернары например. И эти сенбернары делают вид, что мои Вика и Юс тоже сенбернары. А они дворняжки, только почему-то стесняются этого. Я, например, дворняжка, — а что такого?
Я продолжала писать стихи, но их почти не печатали — изредка и почему-то самые плохие. Я уже приходилась, примелькалась по редакциям, и когда я входила к заведующему отделом поэзии, он скучно отводил глаза и говорил со мной так, будто я просила у него его личные деньги.
Так все и шло, я привыкла к тому, что все идет так, но однажды тем не менее случилось то, что должно было со мной случиться. В одном из журналов сменился главный редактор, и я почему-то решила пойти со своими стихами прямо к нему. Дальше все было, как во сне: я сидела, он читал, изредка на меня взглядывая, потом спросил: «Это вы написали?.. Почему же вы сидели с этим?..»
Вечером у меня собрались гости: был мой день рождения. Пели, смеялись, пили, я была пьяна и весела, смотрела на всех веселыми и пьяными глазами: «Чужие люди, до коих же пор вы будете окружать меня, чужие люди?..»
Они ушли, а я не стала убираться, не стала мыть посуду, а посмеявшись еще, легла и приняла столько снотворного, что утром проснулась уже мертвой... Провожали меня до моего последнего пристанища тоже чужие люди.
Вика когда-то сказал, что продаст последние кальсоны, но принесет мне на могилу цветов, если, конечно, я помру раньше. Юс тоже обещал привезти мне огромный венок и уронить на холмик слезу. Что-то они не торопятся... Впрочем, они забыли про меня, а когда о человеке забывают, кажется, что он жив.
Вот так как-то нелепо, начерно прожила я свою жизнь от начала до конца. Зачем, спрашивается, все это было?.. Нужно ли было мне вообще жить?... Или все же ждало меня «предназначение высокое», и просто где-то произошла ошибка по моей или чьей-то вине?..
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





