ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна
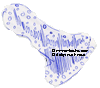

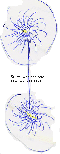
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Николаева Галина 1983
Нынче сказка за былью гонится, поэтому я хоть и бабка, а сказок не сказываю. Зато о правдашних чудесах у меня сто побасок и все без прикрасок.
Чудеса бывают разные.
Как сердца космонавтов бьются меж неботёчных светил, я и через датчики не слышала. Рассказать не смогу!
Жалко, да ведь не плакать же.
Видно, каждому свое.
О высокой выси — орел клегчет.
О дальней дали — лебедь кичет.
Далеко до них немудреной пичуге — овсянке, а послушаешь, как зазвенит она к ростепели:
— Сходит снег! Скоро сев! С весной! С весной!
Худо ли?! Плохо ли?!
Тому дивится и радуется, что взгляду обычно и сердцу близко. На орлов и лебедей мне смешно и равняться, а овсянкина песня еще по мне!
Выйду на крыльцо, погляжу на три стороны — все вокруг само просится в овсянкину ли песню, в мою ли побаску.
Прямо взгляну — река вольно течет. А началась она на далеком верховье с малой водоточины. Родник к роднику — заструилась речка. На ней еще не волна, а только так, пáволна, зыбь-чистоплеск. Речка к речке, и вот уже река потекла державно. На ней не зыбь-чистоплеск, а накатная волна-белогривка. В середине быстрина с водокрутами, в берега бьет высок взводень.
И на всех волнах — от малого чистоплеска до возведень-волны — свое солнце! Поплещется, поплещется и вглубь нырнет. А на его место, глядишь, новое набежало.
...Залегли по омутам, крутоярам тысячи солнц...
Пришли люди, понастроили плотин, послала река из самой глуби в каждый дом по солнцу.
Направо взгляну — поднялась крепь лесная.
Бор крупняк, кондóвый, рудóвый бор с золотым надкорьем, с древесиной, смолистой, чистой, красноватой.
Из всего кондовья наилучший бор — кремневик, бор-беломошник, что высоко поднимается на песчаных мхах.
От корня и комля до хвойного кома растет он стройно. Будто у самого солнца красен луч оторвался да и врос в песок. Качает вершинами, подгребает ветвями, плывет да плывет в высокой синеве.
То бор корабельный — людям на долгий счастливый путь!
То бор хоромный — людям на долгую счастливую жизнь!
Хоть сложи из него хоромину, хоть морской строй корабль, хоть надзвездный — засмолит все изъяны, отгонит все невзгоды ядреный смолистый дух.
Налево взгляну — пораскинулась пойма. Давно ли была там буга с оскарником, кочкарь да болотина? Жил на мокродоле кулик-болотник долгоносый. Ночевала в кочкарнике лиса-болотница, шатущая, безнорая. Ползали по оболонью змеи-болотянки.
Пришли люди, пораскинули умом и пошли ломать целину да непашь. Ломают да приговаривают:
— Нива, нива, взрасти нашу силу!
Над пашней уже не кулик-долгоносик, а жаворонок, напольная пташка, взмыл в небо.
Отошло пролетье. Отсветил июль-светозарник, макушка лета.
Настал август, месяц-щедротник, месяц-прибериха.
И вот уже золотое вёдро хлеба колосит.
И стоит нива, взрастив нашу силу.
В чистом поле
На четыре воли
Стоят столы точеные,
Головки золоченые...
В каждом чуде не без человека. А в каждом человеке не без чуда.
У кого их побольше, у кого поменьше, а что до меня, так в мою жизнь диво по диву, как по стежке, бежит.
Для кого ж о них рассказывать? Только те и нужны побаски, какие сердца ворошат. Ворохни с умом — полыхнет огнем.
А неворошен жар под пеплом лежит.
«А ТЫ НЕ ВОР?»
I
Гостила я далеко от родной Унжи — у среднего сына в совхозе у лукоморья.
Жили беспечально: виноградники растили, рыбу ловили. Тут и застигла война.
Из одиннадцати детей семерых в то же лето проводила на фронт, а сама не ко времени слегла на операцию и в больнице получаю известие о меньшем сыне моем, о Сереже-стриже, о летчике: ранен в хребет, недвижимый, в тисовом корсете, едет домой.
С наклейкой на животе убегом ушла из больницы.
Кинулась на вокзал — поезда не ходят. Одна дорога к сыну — через море.
Ночью добралась до пристани.
В осеннее ненастье семь непогод: сверху льет, снизу метет, посередке и крутит, и мутит, и рвет, и хлещет, и с ног валит.
В порту затемнение. В черноте море ревет за молом. Фонари брезжат синью, и в синем памороке люди — кипят, колышутся, словно бурей их взмыло со дна морского.
В народе, что в туче, — в грозу все наружу.
Жены бойцов провожают, и поют, и молчат, и воют.
Моряки идут литым строем, ленты бескозырок плещут.
Санитары носят раненых на носилках. Вынырнут из пучины, пара за парой, пробегут споро, нырнут в черноту, и на их месте уже другие.
Ходячие раненые проходят чередой — белые гипсовые руки грозно держат наотмашь.
И вдруг грянула за спиною та давняя, с которой еще муж мой покойный Тимофей Алексеевич воевал:
Никто пути пройденного
У нас не отберет...
Оглянусь — и глаза в глаза его увижу. Из какой глуби он поднялся, из какой дали пронес свой голос?
А песня все перехлестнула. И тревожна она, и победна, и кипит под нею вся пристань в синем свете на лютом моряном ветре.
Пробилась я в ту залу, где кассы. Стою в очереди, людьми зажата, а в руках у меня без числа пакетов: фрукты свежие, фрукты сухие, вино лечебное, мед особый из целебных трав.
Стою, об одном думаю: хоть по уши плыть, да у сына быть! Семь сыновей взрастила да четверо дочек, а не было в моей жизни материнского часа главней, чем этот.
Болели мои дети, так ведь дитя телом болеет, душа в нем еще не вызрела, судьба не определилась!
Сережу стрижом прозвали за полет быстрый, точный, будто он острокрыл родился. У него не хребет — судьба перебита.
Где силы ему взять, на кого опереться?
Жены не поспел завести. Товарищи — в небе. Мать и та мотается где не надо...
Стою в очереди, что вокруг меня творится — не примечаю, сама себя не чую, все жизнь Сережину перебираю в уме.
И все почему-то стоит в памяти один случай. Принесла я от соседски индюшкино яичко. Сергунька-пятилеток собирал из яиц коллекцию.
Что ему мерещилось в том яйце? Какой ждал от него радости? Сперва охрип, а потом и совсем слова растерял. Уже не голосом просит — одними глазами!..
Много ль надо было малому для счастья?.. Индюшкино яичко!.. И хватило бы радости до неба! И в одних моих руках была та радость. А я не дала. Покорыстничала.
Теперь не индюшкино яичко — свою седую голову отдала б за одну за его улыбку. Да кому нужна моя голова?
Стою, казню себя за каждый сыновний необрадованный час.
И все думаю: из семи моих сыновей он и есть наилучший! Почему ж раньше не приметила?
За год до Сережи родила я двойню, парнишки квелые, их выхаживала; после Сережи родила первую девочку, долгожданную, Аграфену, с нею носилась. А как Сергуня меж ними проскочил — не заметила.
Теперь вот стою, вспоминаю: не было у меня дитяти деловитей, покладливей, незлобивей.
Двор мести — он первый с метлой. Огород копать — он первый с лопатой. Повзрослел, встал в летный строй — и в строю он первый: ведущий. В семье ли, в классе ли, в полете ли — так он и был на деле ведущим, а по скромности неприметным...
Я, мать, и та спохватилась, приметила после времени...
У такой-то вот худой головы, как моя, всю жизнь этак: та и раздойна корова, какую волк загрыз!..
Как бы мне тот разум наперед, который после приходит!
Сынóвья радость теперь не в моей воле. Хоть бы забота моя ему пригодилась!
Только бы мне доплыть до него! Не дам мошке сесть, пылинке лечь.
II
Вдруг кто-то меня в спину толк! Оглянулась. Это теща нашего совхозного директора. Под манто конструкция вроде башенного крана, нос — что стрела. Качает она этим носом:
— Я вас жду, жду, жду. Мне по телефону позвонили из совхоза. Захватите для племянницы чемодан. Здесь вещи большой ценности. Но я вполне полагаюсь на вашу порядочность.
Племянница у нее уехала с весны в наши места, да там и зазимовала.
У меня полны руки. Мне ее чемодан и прихватить нечем.
Распотрошила она его, нацепила мне под кофту выше локтя два браслета, на плечи натянула котиковую шубу. Поверх нее повязала меня до пояса моею шалью.
Залезла я в эту одежду, как в скафандр. Только стеклянного забрала не хватает, а то хоть в космос! При невесомости, может, и хорошо, а на земле стоять тяжковато. А она мне все долбит:
— Это шуба драгоценного неподдельного котика. Ради бога, будьте осторожны! Нынче честный народ весь на фронте, а по тылам ворье. И самый разбой на кораблях. Заманят в каюту, опоят сонными порошками да ночью сонного и столкнут за борт.
Я ее не слушаю, едва дышу в своем скафандре да думаю про Сережу.
Только она ушла, как качнется народ вокруг, как зашумит. Объявляют по радио, что вместо шести пароходов пойдет один, и тот последний...
Люди, как безумные, кинулись кто куда. Рванулась и я. А куда бежать?
Сдавили меня так, что озвездило. Наклейка на животе поотстала, потекла сукровица. Люстра надо мной ходит кругами. Вот-вот упаду, стопчут. Поседелая головушка по себе не тужит. А как Сережа?! Если водой до сына не доплыть, пешком дойду, на карачках доползу.
Терпи голова, в кости скована!
Протискиваюсь я к дверям и вижу — из дальнего угла неотрывно глядят на меня глазищи. Глядят-горят черные, в пол-лица, а лицо дурное, испитое, щеки ввалились, заросли махровой щетиной.
Что за человек, я не знаю. Почему он глядит на меня в упор, я понять не могу. Только зовет меня неотрывный взгляд.
И, мыслями не раскинув, будто не своей волей, повернулась я и стала к нему пробиваться.
Все люди к дверям, я одна от дверей. Свертки мои за людей цепляются, вокруг меня ругань:
— Куда ты, старая поперечница, вилы тебе в бок?!
А я неведомо зачем пробиваюсь, да еще и тороплюсь что есть силы к тем глазищам.
Сирена завыла. Половина лампочек погасла. И до этого было темновато, а тут все затянуло синим паволоком. Я думаю об одном: не потерять бы в темноте тех черных глаз.
И смотрю — они тоже сдвинулись!
Тот незнакомый человек взгляда от меня не отводит и сам пробивается ко мне.
Люди плачут и мечутся, сирена воет, а мы глаз от глаз не отрывая, молча, не переводя духу, рвемся друг к другу сквозь толпу. Добралась я до него, он говорит:
— Есть лишний билет. Скорей! — И бегом к выходу.
Я за ним впритруску.
Тощей лошаденке и хвост в тягость. Свой недоштопанный живот дай бог донести, а тут еще «скафандр» да пакеты. Запыхавшись, добралась до мола.
Темь — хоть око на сук. Только слышно — гремит, грохочет, бьется рядом о камни черная заверть, обдает лицо просоленной мгой. Взошли на пароход, а его качает, как лодчонку-каючку.
Идем самым низом, железным полом, узкими переходами. От машин жар да дрожь. Добралась до махонькой каютки, в углу на отшибе. Две койки: поперечная внизу, продольная наверху.
Я как упала на нижнюю, шевельнуться не в силах. Кружится, зыбится все вокруг — то ли хворь, то ли море меня качает?
Сквозь гул слышу голос моего спасителя.
— Спите, — говорит, — отчалили!
Прыгнул он на верхнюю койку, погасил свет. А меня качает-закачивает. Наклейка на животе напрочь отлетела. Голова горит, сама зябну. Закинулась и шалью, и своей шубейкой, и чужой шубой, а в старых костях все согрева нет. Знобит, мутит, подташнивает. Эх, думаю, море — рыбачье поле, что ж ты вытворяешь?
Я из больницы порошок прихватила от боли. Сглотнула его и как в омут провалилась.
III
Очнулась среди ночи.
Море ли мысли смешало, горе ли ударило в голову, хворь ли ум полонила, только гляжу вокруг и ничего не понимаю.
Синий ночник мерцает. Стены округ меня железного, вороненого цвета. Под потолком казематное оконце — с пятачок. Браслеты сползли, болтаются на моих костях, горят, переливаются в синеве, подмигивают лучеметными камнями. Драгоценная шуба льнет к лицу, обдает тонким чужеродным запахом. Койка подо мною качается. Рана на животе палом палит, а руки-ноги как не мои.
И сама себе я очужела. Сама себя не раз припоминаю.
Как я сюда попала? Почему я в мехах, в золоте? И кто это глядит на меня с верхней койки?!
А оттуда свесилась голова арестантская, голая. Щетинистые щеки провалились, скулы торчат. Над скулами чернущие глазищи так и маячат — зырк на шубу, зырк на меня... Зырк на шубу, зырк на меня...
Припомнила я, что это он меня привел сюда, чудно все показалось мне и жутко.
А пол подо мною качается, а море ревет, а ветер воет пуще прежнего. Обо что он бьется, чью жизнь отпевает? И слышу, он выговаривает: «Не доедешь, старая, до Сережи... Пропадешь».
И тут только вздумалось мне: почему этот темен человек выбрал меня из тысячи?
Ну, была бы я молода и пригожа, понятно бы было: приглянулась.
Ну, стояли б мы рядом, разговорились, тоже понятно: посочувствовал.
Так ведь не было ничего этого! Почему же он изо всех меня позвал? Что во мне ото всех на отличку?
Раздумалась я, шевельнулась, шуба с меня скользнула, как живая, заиграла, залоснилась. И тут меня осенило: шуба! Шуба моя ото всех на отличку! Второй такой шубы на всем вокзале не было...
А если он на шубу позарился, значит... вор?
Тут вспомнилось все сразу: и поглядка его острая, воровская, и то, что каюта эта темная, железная, ото всех на отшибе — кричи, не докричишься! И то, что все он тишком да молчком. Недаром говорят, что опасны людям собака-молчун да тихий омут.
Чуть приоткрыла я глаза да из-под век гляжу на него. А он о подушку облокотился, голову подпер рукою и опять глазищами зырк на шубу... зырк на меня... Зырк на шубу... зырк на меня...
Лицо узкое, темное, ощетинилось небритою бородою. Вылитый ухорез! Зажмурилась я. А сверху скрипит голос. Он меня проверяет:
— Не спите?
— Нет, — говорю.
— Может, дать вам сонного порошка?
Вот оно! В точности те слова...
В старину по рекам разбойники ходили запасливы — в рукаве кистень, в голенище засапожник. А нынче у них запас мудреней — сонного зелья порошок. Даст, а там — в море. В море упал — сгинул да пропал.
— Нет, — говорю, — батюшка, мне твоих сонных порошков наотрез не надо.
А он не то грозит, не то уговаривает:
— Примите... Лучше будет!
И глядит на меня сверху, глядит, как волк на теля.
«Эх шуба — моя пагуба», — думаю.
Неистовы огонь да вода, а неистовей их лют человек. Прижалась я к стенке, зажмурилась, будто сплю.
Чуток приоткрою одно веко, исподтиха взгляну наверх, а он глядит на меня, глядит неотрывно. Шубу, браслеты так и ест глазами.
Опять зажмурюсь. Ветер над морем совсем разбушевался. Шипит да дует — что-то будет?
От качки мутит меня, от раны да от жару все тело печет. И так мне худо, что и смерть не страшна.
Смертный час — неминучий путь!
А как без меня Сережа?
Может, объяснить этому ухорезу напрямик: мол, в чужой обиде разживы нет! Мол, чужое золото не впрок, не в корысть! А коли уж ты привык жать, где не сеял, брать, где не клал, — все возьми, только отпусти меня живую! Не ради меня, ради сына. Кто ему теперь пособит, кроме матери?
Этак, лежучи, подбираю слово к слову, что в дедовской в коляде.
В добрый час молвить, в худой промолчать!
Открываю глаза, а он все смотрит на меня так пристально да так ненавистно, что я всю свою заготовленную коляду сразу позабыла. Только и сноровилась вымолвить:
— Батюшка... а ты не вор?..
Приподнялся он на локте, шею вытянул. Глядел-глядел на меня да как... плюнет!
Подумал, будто что-то хотел сказать. Ничего не сказал, а вдругорядь плюнул.
Отплевавшись, повернулся спиной и утих.
И я пошевелиться не смею, не то со стыда, не то со страха. Одним себя успокаиваю: как ни грозна ночь, а утро не минет.
Лежала, лежала и заснула.
IV
Просыпаюсь. За оконцем обутрело. Море стихло. Тучи над ним каймятся тусклым томленым золотом. Далеко до краснопогодья, а все не ночь!
Белый день, обыденный свет...
Гляжу перед собой — стена как стена. Окно как окно. Насмелилась повернуть голову. Стоит у дверей человек как человек!
Бритый, мытый, пояс аккуратно затягивает, надевает шинель. Со щетиной вся чернота сошла со щек. Лицо тонкое, бледное, взор твердый. Ни вида разбойничьего, ни поглядки воровской... Губы бескровные — одна прорезь. После раны человек или после болезни?
Села я. Глядеть на него не смею.
— Твой меч, моя голова...
Не отвечает.
Обиделся, что за его же ко мне доброту я вором его обозвала.
Выпалишь пулю — не поймаешь, вымолвишь слово — не воротишь!
Я чуть не в слезы.
— Прости старую дуру. Я понять не могла, из-за чего ты среди тысяч выбрал меня. Думала, из-за шубы.
Затянулся он поясом, пошел, у самых дверей обернулся, усмехнулся злобно:
— Из-за чего выбрал? Из-за дурости моей. С тоски, что ли, показалось мне... там... на пристани... что матери моей очи, прощаясь со мной, так же плакали... Расстреляли ее фашисты... Вот о ком я, дурак, глядя на тебя, вспомнил, тетка! А шубу твою и золото я только в каюте и заметил. Все глядел ночью и удивлялся. Сразу видно, что не с твоих плеч. Видно, кому война, а кому разжива! Выдает это барахло твою спекулянтскую душу... а лицо у тебя обманчиво! По лицу пакостных дел за тобой не заподозришь. И поганых слов от тебя не станешь ждать.
В третий раз сплюнул он и ушел. И объяснить я ему ничего не поспела.
Искала я его по всему кораблю. Искала и не нашла.
Отчего же свои побаски начинаю я с этого случая?
Ведь в тот час на вокзале сыновья печаль и материнское горе молча издали опознали друг друга.
В толпе, в тесноте, в тревоге сыновье сердце и материнское издали без слов перекликнулись, рванулись навстречу, заспешили, пробились...
KB и УКВ, радиосвязь из космоса — это диво большое, праздник разума.
А тут не в космосе, в привокзальной сутолоке, а ведь тоже диво!
Поверила бы я в него, был бы у меня, кроме своих семерых, восьмой нечаянный сын, у детей моих — восьмой нечаянный брат.
А я, мухортая старуха, смельтешила умом. Человек ко мне, как сын к матери, а я ему: «Ты не вор?»
И вот расплевались да разошлись.
На час ума не стало — век не огоревать дурости.
Может, умолчать бы мне о старушечьей оплошке?
Мои побаски — не сказки. Жив человек не без промаха, нагольная правда, не без горчины.
Подслащивать не хочу!
Что сладко да пресно, то тлеет, тухнет, а с соли да перца хоть терпнет, да крепнет!
С изнороком, с умыслом начинаю я свои побаски с моей окаянной спотычки. Кого за пример брала? Век прожила, умудрилась, знаю: свинья неба не видит!
А и доведется свинье на небо взглянуть, так она и небо сочтет за свою помойку.
Недоверы, слепогляды, малодушники чуда распознать не умеют.
А кто чуда не примечает, тому оно и в руки не дается, у того и жизнь протекает скудно, мозгло, без сердечного привета, без алого цвета; тот ни смолоду молодец, ни под старость старик: живет — не человек, умрет — не покойник.
ПЛЯШУТ СЕРЫЕ ВОЛКИ ...
I
Крута гора, да забывчива, лиха беда, да избывчива.
Выходила я Сергуню и как из ямы выскочила — гляжу на землю и на радостях словно впервые ее вижу.
Весна всегда обнадежлива, а весна сорок четвертого года была поворотная, победная.
Назначили Сережу начальником аэродрома, а я побоялась его покинуть, за ним увязалась.
Городок пять дней как из-под немцев.
Устраиваюсь на новоселье, а в дверях — трое птенцов, соседкины дети, солдатские сироты.
Двое совсем гнездари, вместо волосьев еще пух. А третий уже взлеток — мальчонка лет двенадцати. Сам хилый, шея что ниточка, голова огромная, на шее не держится, так вперед лбом и клонится, а уши оттопыренные, прозрачные на свету.
Того и гляди, хлопнет он ушами, как крыльями, да и взовьется в небо — долго ли ему такому?
На московском аэродроме показывал мне Сережа машину-вертолет. Хвост тоненький, впереди кабина большим пузырем, что голова у головастика, а винты-лопасти и того больше — в точности как этот мальчонка.
Засмеялась я и спрашиваю:
— Как тебя звать, Уши-Вертолет?
На улыбку не отвечает. Называет полное имя:
— Пантелеем Устюжиным. Отца так же звали.
У меня с полкило хлеба оставалось. Все трое глядят на него неотрывно. Разделили на три ломтя.
— Мать-то скоро ль придет?
— Она до утра на работе.
— Ну, слава богу, нынче и я не без доли: хлеба нету, так дети есть! Ешьте! Что ж вы тут при фашистах делали?
— Ночью копали прошлогоднюю картошку. Днем прятались. Читали книжку «Как закалялась сталь».
Говорит и твердо, а странно — будто спросонок. Глядит, разинув глаза без смысла, не то старичком, не то Иванушкой-дурачком.
— Вы в этом доме всю войну жили?
— Мы под домом жили... В яме... И над домом жили... На чердаке.
Стала я печь затоплять, а он заторопился девчонок увести. Я его спрашиваю:
— Ты чего, Пантелей Устюжин, их уводишь?
— Они пугаются.
— Или не видели, как дрова жгут?
— Мы на той неделе видели, как людей жгут.
«Ах ты, думаю, малец-бывалец, солдатская сирота! Что ж из тебя из такого получится?»
II
Пошли мы в магазин отоваривать карточки, получили пачку папирос да вместо хлеба муку с отрубями — пекарни еще не работали.
— Вот и ладно, — говорю. — «Невеян хлеб — не голод, посконная рубаха — не нагота!» И в старину, бывало, люди мудро говорили.
Идем, разговариваем о том о сем, а солнце веселит. На подходе март — подточи порог. С холмов вода, рыба с гор! Уж щука хвостом наст разбивает, уж медведь встает, черногузка прилетает, уж курочки на улочке. Скоро пчел нести из омшаника.
В тени еще кусты в куржевине, а на солнечной стороне — капель-водоклев. Все каплет, звенит, поблескивает, весь воздух в алмазной нанизи. Все призывно, все мне знакомо — пятьдесят восьмую весну я встречаю, мало ли?!
Иду по знакомой земле, а земли не узнаю. Белый свет вывернут наизнанку.
В домах ни стен, ни крыш не видно, а внутренний обиход — кровати, столы, стулья — все на виду.
Потолочные железные балки скручены жгутом, как тряпичные, а на столах стаканы блестят целешеньки.
Деревья мертвы, одна обгорелая голомень без ветвей; на ветру и шевельнуть нечем. А железо по всей улице дрожит, как живое, скрючено, скорчено, дребезжит, цепляется за подол.
И люди попадаются непонятные: старики бормочут, улыбаются, как малые, а дети молчат, морщин не расправляют, глядят стариками.
А над всем этим капель-водоклев, весенний звон.
И доносится песня, какой за всю жизнь не слыхала. И не в том суть, что поют на чужом языке, а сам напев чужого чужее.
Мерно, мутно, мрачно, монотонно, булыжник за булыжником, катится слово за словом. Будто люди сами себя отпевают и по своей воле в свой гроб забивают гвоздь за гвоздем... И что всего страшней — нет в той песне человечьей печали. Будто те, кто сходит в могилу, сами себе не милы и жизнь прошли такую паскудную, что в смертный час им встосковать не о чем...
Мерно, монотонно, слово за словом... гвоздь за гвоздем... гвоздь за гвоздем...
Из-за угла на белый снег выползает черной, дряблой, недобитой гадюкой шеренга пленных фашистов. Уж и не солдаты — наброд с приволокой. Сели на кирпичи, дожидаются своего транспорта. Проходящий народ оглядывается.
Тут, будто прямо из весенней просини, наш капитан авиации. Молодой, голубые петлицы на нем, серебро на пилотке. Стал возле своей машины закуривать, увидал пленных, бросил им пачку папирос и умчался.
Пошел говор. И я, конечно, вступила:
— Добр человек! Их бы огнем пожечь, мечом посечь, конским хвостом пепел ихний разметать. А он им папиросы.
Мне возражают:
— Чего уж теперь?
Я горяча, да отходчива.
— И вправду, — говорю. — Орел за комарами не гонится.
Гляжу, мой малец-бывалец заелозился.
Вынимает из кармана папиросы, берет сестренок за руки, и идут три ходячих немощи оделять пленных.
Один из них сидел в стороне, на груде горелого кирпича. Мундир на нем на отличку. Щеки обвисли, а кожа белей сахара. Нос выгнутый, ястребиный, пальцы тонкие. По всему видно — холеная порода, выкормлена на петушьих гребешках да на щучьих щечках. Сидит, не шевелится, одно брюхо вздрагивает, как зажорное болото. Водянистый взгляд идет поверху — меж землей и небом.
Гляди, выкормыш, округ себя, гляди на горькую нашу землю! Твоим старанием она горем засеяна, слезами полита. Не уводи глаз своих — гляди на нее!
Не глядит.
Гляди, выкормыш, на небо! Проси у неба смерти! Хватишься за ум — помрешь, хоть стыда не будет на живой голове! Не уводи глаз своих, гляди на небо!
Не глядит и на небо.
Не глядит ни на землю, ни на небо, промеж землей и небом уводит зенки.
Пока вела я с ним бессловесную беседу, гнездарь мой, девчонка-оборвыш, шасть к нему! Протянула грязную ладошку с мятою папиросой. Он шарахнулся, как черт от ладана, и такими глазами на нее глянул, что она зашлась.
Трясется и кричит:
— Этот! Этот! Этот!
Народ кругом разволновался:
— Узнала того, который дома жег...
— Бывают солдаты подневольные, а этот коренной фашист...
А у фашиста из гляделок высочились слезы. Зубы разжал, прихватил мокроту губами, всхлипнул, как маленький.
И снова пошел говор:
— Не вовсе кат, если плачет.
— Кат не кат, а кату брат!
— Бить его, а не приласкивать... Тоже добряки нашлись.
И тут, нá тебе! Вступается мой ушастик и говорит:
— Победители не мстят...
Уши алые, как заря, а головенка вскинута.
— Эх ты, — говорю, — Уши-Вертолет... «Победитель»!..
...На талой дороге у горелых кирпичей свела судьба матерого выкормыша с птенцом-заморышем.
Выкормыш плачет, заморыш грехи отпускает.
Не чудно ли?
Кто ты, Уши-Вертолет, «победитель», солдатская сирота? Сколько лет скитался по чердакам и подвалам с отцовым именем да с книжкой в руках, не хлебом выкормлен — тоской. Откуда ж в тебе сила дарить, укрощать и миловать? Что из тебя такого вырастет?
И кто ты, слезливый выкормыш? Вовсе кат или не вовсе? Хоть слезы-то у тебя человечьи?
III
Я загадки загадываю, девчонка плачет, а брат ее уговаривает:
— Не плачь. Пойдем посмотрим, как волки пляшут.
Я думаю, он ей из сказки говорит, утешает.
Идем дальше. Кругом звон-перезвон, а следом за нами тянется та песня, монотонная, мутная, замогильная.
Подошли к вокзалу — он перерезан напополам, как коврига ножом, а люди в нем бегают, на машинках стучат, крутят телефоны. Сосульки на солнцепеке обламываются прямо на канцелярские столы.
Завернули за угол, пошли садом. Ведут меня птенцы к поросшему кустарником овражку. Обогнула я кусты — и шарахнулась: ринулась нам навстречу волчья стая!
Трясясь от радости, подскакивая, всею хребетиной ластясь и виляя, дыбятся серые, мышастые, матерые...
Пять клеток установлено в кустах, за барьером. Как войдешь в тень с весеннего блеска, не сразу разглядишь меж ветвями железные прутья.
Дыбятся волки, поднимают когтистые лапы, качают большими головами, ласково повизгивают, подзывают. Лучшая собака так не кидается навстречу хозяину.
И чем мы ближе, тем старательней волчьи пляски.
Тощий щенок-облезлыш то припадет на спину, то взметнется к потолку, то сует в решетку лапы, не по-щенячьи большие.
Молодой волк-пролеток выбивает дробь передними лапами, ровно барабанщик.
Сзади дыбится старый порыскучий волчище. С телка ростом, от древности выжелтел, уж не серый, а с боков рудо-желтый, с темным ремнем по хребетине. Поднялся на задние лапы и покачивает большой головищей.
И у всех у них пасти приоткрыты, белые зубы поблескивают, да не в рыке, не в злом ощере.
В умилении, в радости, в просьбе, в трепете улыбаются в лицо нам белозубые волчьи пасти...
Возле клеток на скамейке сидел старичок. Я к нему:
— Что за невидаль? Цирковые они, что ли?
— Зачем цирковые?.. Обыкновенные... Из брошенного зверинца.
— Кто ж этих волков научил ласкам-пляскам?
— Небось сами выучились.
— Что ж их так дивно выучило?!
— Голод да железо...
Разговорились мы со старичком, и стало мне все попятно.
В волчьей колке готовой пищи нету, да зато и железа нет: свобода для зубов — нападай да терзай!
В зверинце кругом железо, свободы зубам нету, зато пища готова: дождись, и дадут.
А в брошенном зверинце ни свободы зубам, ни пищи. Голод да железо! И не одолеешь их ни грызней, ни жданкой... Только лаской-пляской и промыслишь мосол.
Из привокзальной немецкой столовой стали носить для забавы волкам кости.
Поначалу бросались волки навстречу с рыком. Однако кто с рыком, тому костей не перепадает, тому подыхать с голоду. А какой волк поласковей, позабавней, тот, глядишь, спроворил мосол и не подох, уберегся.
И зимы не прошло — обласкались, обсобачились. Научились и хребетиной вилять, и пастью умильно щериться, и на задних лапах ходить, и к потолку прыгать! Сами собой превзошли все ласки-пляски, да еще и скоростным методом.
Голод да железо за месяц обучили тому, чему не выучат и за сто лет оба Дуровых.
IV
Стали мы с ребятами наведываться к волкам. Наберем оглодышей в привокзальной столовой и пойдем поглядеть на волчьи пляски.
Однажды сижу на скамейке и вижу: мой Уши-Вертолет встал у самой клетки.
Всегда мы кости волкам бросали из-за барьера, а тут он доверился волкам. Протягивает руку, а навстречу из-за прутьев просунула морду молодая мышастая волчица.
Я вся обмякла от страху. Что делать? Побежать? Не поспею. Крикнуть? Парень упрямый. Только поторопится сделать, что задумано! Его криком не остановишь, волчицу осердишь. Гляжу — не дышу. Все ближе да ближе ладошка.
Прижалась волчица брюхом к полу, лежит, не двинется, не шелохнется. Морда чернеет меж прутьями. Хоп! Блеснула зубами, ухватила кость. Я дух перевела, а она бросила кость и снова — шасть к прутьям.
И кровь, кровь, кровь по снегу.
Сообразила она, значит, что кость — оглодыш, а тут, возле самой морды, не кость, живое мясо.
Скатилась я кубарем, вытащила ушастика из-за барьера. Молчит, крепится, понимает — сам виноват. На руке у него, на среднем пальце, суставчик как срезан.
Волчица в угол забилась, лежит недвижимо, только шерсть стоит на загривке да глаза облудели, пеленою покрылись, туском.
Свела я мальчонку к доктору. Веду оттуда домой, ругаю что есть силы:
— Обласкался волк, а ведь зубы-то у него все те же! Об чем ты, уши безголовые, думал?
— Я думал, как Дуров. Мама рассказывала.
— Не Дуров ты, а Иванушка-дурачок или сам Лутоня-махоня.
— А это кто — Лутоня-махоня?
— Умный, прежде чем выстрелит, прицел берет, расчет ведет, а Лутоня-махоня на трех сваях держится — авось, небось да как-нибудь.
— Я на эту волчицу прицелился и по дням считал. Каждый день на сантиметр ближе. У меня и расчет и прицел был.
— Гляди, — говорю, — какой меткий стрелок, попадешь в чисто поле, как в копеечку!
Да с досады щелк его по лбу!
Только ушами пошевелил:
— За что ты меня?
— Не будь оплошен, будь начеку! Что конь леченый, что недруг замиренный, что волк кормленый... Нету в них правды и не будет.
Поглядел на меня, покачал головой:
— Неправильно говоришь.
С досады я его еще крепче стукнула:
— Ах ты, волчья снедь! Туда же еще, спорить! Ходи всю жизнь без пальца, раз глуп да упрям, Лутоня-махоня, Уши-Вертолет!
V
Вскоре я уехала. Много минуло лет. Много испытала и радости и горя, много повидала чудес, а все не позабылись те волчьи пляски. Сама ли увижу фальшивую ласку, в газете ли прочту про облыжные, льстивые речи — сразу вспомню.
И бывает, прибредится в тревожном сне все, как тогда: вокзал, перерезанный пополам, капель-водоклев, а вдали монотонная вражья песня, под которую впору грешникам заколачивать гвозди в свои гробы.
И под эту похоронную, под весеннюю капель-перезвон, щерясь волчьими улыбками, кругом, цугом, пляшут-скачут серые, мышастые, клыкастые, матерые...
Пляшут серые волки...
А того чаще вспоминала я про мальчонку, что, сидючи в подвале, надумался, начитался, натосковался, а вылез из подвала — и с доброй ладонью в волчью пасть.
И чем-то утешал меня, дурочку, Иванушка-дурачок... Настигнет ли беда, наткнусь ли на лихого человека — вспомню про него, да и подумаю: а ведь русский Иванушка-дурачок хоть не сразу, да одолел всех хитрецов. И не дурачок он. Он умен, да не умничает, силен, да не петушится. Отдает разум и силу не пустой похвальбишке, а правому делу.
И захотелось мне узнать про Иванушку-дурачка, «волчью снедь». Разыскала концы, послала письмо. В ответ получаю телеграмму: «Еду пароходом двадцатого Приходите пристань повидать Уши-Вертолет».
Встречает он меня на пристани — сам щуплый, волосы раскудрявились, лбина огромная, уши поуменьшились, а все на свету розовеют. Повел он меня к себе в каюту, рассказал: кончает зоологическое отделение, едет на практику с экспедицией.
Я спрашиваю:
— Помнишь ли волчьи пляски и как ты, несмышленыш, со мной спорил?
Он не ответил, а тихонько свистнул.
Из-под стола вышла овчарка. Только гляжу, лапы больно когтисто стучат по полу, да хребетина остра, да загривок могуч, да голова крупна не по-собачьи, да хвост палкой.
— Волк?! — отодвигаюсь и бранюсь со страху: — Ах ты, волчья снедь, Лутоня-махоня, Уши-Вертолет! Видно, мало с тебя одного пальца! Покуда тебе все десять не отгрызут, не наберешься ни острастки, ни разума!
А он улыбается и сует в волчью пасть ладонь да перебирает пальцами меж волчьими зубами. У меня и сердце захолонуло от страха и от надежды.
— Милый... — говорю, — неужто добром добился? Неужто совсем без железа?
Улыбнулся Уши-Вертолет грустновато:
— Врать не хочу...
Вынул из кармана левую руку. Пол-ладони недостает, а та половина, что осталась, вся в рубцах. Этой рукой приоткрыл чемодан, а в нем намордник, да ошейник со сторожкими шипами, да револьвер аккуратный вороненого цвета. Железо на железе.
— Держу под рукой, — говорит.
Прощаться ли с надеждой моей, с Иванушкой-дурачком, что столько лет утешал мне сердце? Нет.
Пусть оно лежит под рукой — каленое, граненое, вороненое! Пусть лежит, да не под всякой рукой! Лишь под такой вот, что сама себя не пожалела для доброй воли.
Под такой рукой и огонь осторожен, и пуля праведна, и железо надежно. Пусть лежит оно, надежное, под доброй рукой.
И пусть пляшут вокруг той руки серые волки.
Один волчий век пропляшут, второй волчий век пропляшут, а на третий век, может, и допляшутся до края людской души?..
ИЩИ НА ОРЛЕ, НА ПРАВОМ КРЫЛЕ...
I
Семь сынов родила, а восьмой — долгожданную дочь Аграфену, Гранюшку-улыбушку, золотые волосики.
Тимоша, муж мой, спросит:
— Ты хоть расскажи мне, мать, как она плачет?
А я и разу того не видела!
Ни с одним дитем я так не носилась, как с нею.
Помню, первой ее весной, схоронюсь с ней в дальний угол сада. На березах только лист бросился, яблони цветут купно, сильно. Тихий белый цвет опадает, кружится над дочкой. Мотыльки над ней вьются. Она тянется к ним, лепечет по-своему. А вокруг синь да тишь.
Где-то о край сада жук пролетит — и того слышно.
Я притихну и у неба ли, у земли ли одного беззвучно прошу: чтоб лист над ней не шелохнулся, чтоб само время остановилось!.. Чтоб не скользнул взгляд завистный, не обронилось неосторожное лишнее слово...
И идут часы над нами, солнечными лучами неслышно по травам переступают.
Подойдет Тимоша, остановится. Тихо скажет:
— Что за дивное дитя у нас народилось?
А я боюсь счастье вспугнуть:
— Тс... Молчи, отец...
Бывало, ночью в июль-грозник вспыхнет небо далекой белокальной грозой. Я мальчишек укрою, а дочь перетащу на свою постель, наклонюсь над ней и прошу кого-то:
— Пронеси калинники мороком... Разойдись, гроза, тихими облаками...
Почему я из всех своих детей за нее больше всех дрожала?
Почему для нее просила у судьбы тишины и безгрозья?
Или у матери вещее сердце?
Дрожать я над ней дрожала, а наваживать ее не наваживала. С пяти лет усажу ее носки штопать на всю нашу ораву и приговариваю:
— На нас с тобой, на двух старшѝх женщин, целая ватага.
Росла и в труде и в ласке, выросла помощницей матери, а в школе верховодкой. После того как погиб мой Тимоша от кулацкого обреза, переехала я со всем своим выводком к Матвею, к старшему сыну — забойщику, в шахтерский поселок. Граня и там впереди других умом, характером, красотой.
У нас кроме нее три дочки, у них подружки, у сынов ухажерки — в доме девушек-красавушек целый хоровод!
А войдет моя Аграфена — она одна лебедь, кругом серы утицы!
По отдельности разбирать — и лицо темновато, и скулы широковаты, и глаза узковаты, и нету в ней никакой особенной красоты. А вся стать ее, повадка такая, что не наглядеться. Глаза и узковаты и посажены глубоко, а взгляд синий, лучеметный. Лицо смугло, а гладкие волосы светлого медового цвета. Чело ясное, широкое, и вольно пораскинулись на нем золотистые брови.
В пасмурный день войдет она в комнату, и все вокруг посветлеет — золот луч лег на лоб, запутался в волосах, в бровях, в ресницах, да и прижился там, приручился.
И легка, и крепка, и округла, и длинновата, как лодка на волне.
Приезжал из Москвы композитор, увидел одну ее походку — из машины вылез, бросился догонять.
Оттого, что нрав у нее уж очень открытый, ни зависти вокруг ее красоты, ни пересуда. Ей пятнадцать лет только стукнуло, а уж к нам прибегали соседки:
— Мой с пути сбивается, выпивать начал. Власовна, скажи своей Гране, чтоб с ним поговорила.
Говорит она, бывало, с шуткой, с пересмешкой, а поселковые архаровцы ее слушают, как бóльшую.
Голос у нее низкий, переливчатый, смеющийся, так жизнью и плещет. К моим словам и прибауткам она переимчивее всех моих ребят. Речью она в меня, да еще тем в меня, что усмешлива и над людьми и над собой. Только у меня для людей насмешки хлеще, а Граня усмехается веселее, да и то чаще над собой, чем над другими.
Не дочка выросла — заискрился в доме алмаз-самогранник, алмаз-истовик, без подделки, без изъяна.
Композитор, который к Гранечке женихался, говорил, что написано им полсотни песен. Во все душа вложена, все ему дороги, а всё только прикидка да примерка. Изо всех одна есть, та самая, ради которой на свет родился, после которой и умирать не так боязно.
Так и у нас с Тимошей. Одиннадцать детей вырастили, все милы, все хороши, а средь всех одна, как тот напев у песенника.
Пойду, бывало, под выходной в парк, поглядеть на молодежь. Увижу, как наша Граня в баскетбол играет, как танцует, как в круг плясать выйдет: «Берегись, ожгу!»
Вспомню своего Тимошу да подумаю: не зря мы с тобой жизнь жили, друг дружку любили.
Видно, все то лучшее, что за тысячи лет накопилось и в моем и в Тимошином роду, все в ней собралось и отчеканилось. И хватит этого накопленного на тысячи лет вперед — на детей ее, внуков и правнуков.
Из веков все лучшее она в себе собрала, чтоб векам передать!
Спели и мы с Тимошей свою песню, пой не пой — лучше не пропоешь.
II
Женихи Граню ждут у каждой калитки, ступить девке некуда.
И ведь бывает так в жизни — кто живет на реке, водой не дорожится, кто живет на лугах — за травой не гонится. Моя Граня по женихам ходит — женихов не замечает.
Сперва я радовалась: молода, мол, еще, не из дома, в дом глядит. Да ведь годы идут!
Одна из сестер замуж вышла, две других заневестились, а наша красавица не то что не замужем, а еще и разу не целована ходит.
Увидит, как сестренка весь вечер сидит с женихом на лавочке, так еще и дивится:
— Весь вечер обнимались? Неужели не скучно?!
...А я уж не знаю, что мне об ней и думать. То радуюсь, что она до сих пор при мне, то страх возьмет — с чего она у меня такая?
Бабий-то ум что коромысло — и криво, и косо, и на два конца!
То себя самое вспоминаю.
Я в шестнадцать лет увидела своего Тимошу и приклеилась к нему до самой смерти. Бывало, уедет, так я ему в письмах стихами пишу:
Без тебя, мой друг, постель холодна,
Одеялочко заиндевело.
Младшие девчонки в меня — времени не теряют. А эта будто другой породы. Начну ее уговаривать:
— Я в твои годы трех ребят люлькала. Изгаснет молодость-то.
Она только смеется:
— Было бы счастье, а дни впереди! А счастье будет. Я счастливая — разве по мне не заметно?
Приметила, что мне не по сердцу ее смешки, обвилась вокруг меня:
— Ой, мама, мама, все мои женихи хороши! Я бы за всех разом вышла, если б с ними можно было, как дома с братьями... Если б они до меня не докасались.
Видали вы такую? Выйдет замуж, так муж еще и не докоснись до нее!
— Не из снегу сделана! Не растаешь, коль и докоснется.
— Сердце не допустит.
— Гляди-ка ты — «сердце не допустит»! Так что ж теперь, всему роду человеческому перевестись — твоего сердца слушать? Живое на жизнь родится! Жизнь, она вон какая щедрая! А ты сама попользовалась, и все?! Я этих нерожих баб смерть не люблю! Моя б воля — я б каждый год по двойне носила. Живите!
Она прильнет ко мне да укоряет:
— Что вы меня гоните от себя, мама!
И, видно, Граня отроду такая — как будто и не спорит, а верх берет! И уж все мысли повернулись в тебе другим концом. Шелк не мнется, булат не гнется, красное золото не ржавеет, честная девушка до срока не повянет!
А главное, кого из женихов я к ней ни прикину, — все хороши, а ей ровни нет!
Видно, Гранюшка лучше меня чует, что ей надо: своей пары ждет, своей судьбы дожидается.
Училась она на историческом факультете, а читать любила про первых коммунистов да про гражданскую войну.
Вечером затеет читать вслух письма Дзержинского или песню заведет про матроса Железняка. А я заслушаюсь про дивных людей, загляжусь на свою несравненную дочь и размечтаюсь.
Прилетит, думаю, к моей орлице большекрылый орел с высоченных гор. Тогда и свершится ее судьба...
III
В первые месяцы войны она, а за ней и третья моя дочь, Клавдюшка, кончили курсы медсестер. Легко и безбоязненно уходила на фронт. Выросла в тишине, в мире, ни кровавых дней не видела, ни лихих людей. Малое дите волка в лесу за собаку примет!
Перечила я, в ноги кидалась. Граня оборвала меня:
— Возьми наши головы с плеч да спрячь за пазуху! Сохранней будут.
Ушли обе.
Клавдюшка за три года на фронте двух женихов сменила, за третьего там же вышла. Приезжает ко мне майорша, пузо на носу, рожать собралась.
И рассказывает она мне:
— Наша Аграфена тоже жениха завела.
Я так и села:
— Что за человек?
— Простой лейтенант. Сам командир дивизии вокруг Грани вился, дала поворот. А тут...
Я криком на нее:
— Каков человек, говори!
— Работал механиком в МТС. А каков человек... Сама Аграфена того не знает. Всего двое суток знакомы.
Растревожилась я, хоть и не больно тем словам поверила. Я свою Кланьку знаю — девчонка хорошая, да язык у нее мягок: что хочет, то и лопочет, чего не хочет — и то лопочет!
Вскорости получаю от Грани веселое письмо, пишет про наступленье, про победы, а потом вдруг такие строки: «Читаете вы, милая мама, мое письмо, а того и не знаете, что пишет вам девчонка-сговоренка».
И дальше описывает, как при временном отступлении выносила она с поля раненого, подвернула ногу, задержалась и попала в открытом поле под обстрел, под прожекторы. Тут, откуда ни возьмись, лейтенант. Стал ей помогать.
И как начнут стрелять, так он и ее и раненого загораживает собой. Пишет она мне: «Никому б я не созналась, мама, только вам. Помните, я говорила: «Сердце не допустит». А тут... Я еще и лица его не разглядела. Ночь. Раненый стонет. Стрельба. А как он наклонится надо мной, сердце само просит, чтоб он еще поближе ко мне склонился».
С непривычки она испугалась сама себя и, как добрались до своих, уехала, не простившись. Да и затосковала. «Каждый день об одном о нем думаю, а не знаю ни имени, ни фамилии».
Через месяц он ее разыскал. Провели они вместе полтора суток и договорились после войны жениться.
Вскорости появился и сам жених. Летел в командировку на танковый завод и завернул на единый час — познакомиться.
Взглянула я на него раз, а второй и глядеть не на что. Худощавый, тихий, лицо узкое. Не на механика — на учителя похож. Передал привет от Грани и умолк. Стала угощать. В еде, гляжу, догадлив: на масляную кашу и пояс догадался на одну дырку поосвободить. Поел старательно, но опять молча. Поест и взглянет. Подбавлю, опять съест, а просить не попросит. Как пришел, так и попрощался, молчун молчуном.
Бывает, молчат от сердечной скупости: скажешь красно, по людям пошло, а смолчится, себе сгодится! Бывает, молчат из трусости: крепкое молчание ни в чем не ответ.
А этот чем скупится, какого ответа боится? Почему молчит? Расстроилась я. Он это заметил и уж на пороге заговорил:
— Вы, Василиса Власьевна, не бойтесь.
— А мне-то чего бояться? Ты бы не испугался.
— Я в хвосте у Грани не поплетусь. Вровень пойдем.
С тем и ушел.
Не лучше он, а хуже ее прежних женихов. Как Гранины зоркие очи того не углядели?
По-своему, попросту, по-житейски прикидываю. Ночь да война — край жизни! Чего не случается! По годам моей Гране давно бы в бабах ходить. Стекло да девку береги до Изъяну. Верно, не убереглась дочка, а там по своему характеру не захотела идти на попятный. Раз, мол, случилось, то так тому и быть — ровня не ровня, а муж. А какой этот молчун ей муж?
Не скот в скоте коза, не зверь в зверях еж, не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь, не муж в мужьях, кто жене по колено!
Как бы не война, слезами б ревела. А война научила разуму. Об одном думаешь — девкой ли, бабой ли придет, лишь бы пришла! Жива будет — разглядит, даст поворот тому молчуну.
Дождется своей судьбы...
IV
В последний военный год получаю письмо от врача из госпиталя — тяжко ранена моя Граня. Приезжаю. Приглашают меня к начальнику госпиталя, говорят: отняты у Гранюшки руки-ноги. Сначала отбило у меня понятие. Ни слезы, ни крика. Сижу тихо. Объясняют — слушаю тихо. Повели меня к Гране — иду тихо.
Ввели в палату.
Лежит на белой подушке красота неописанная. Личико похудело, щеки пламенеют, глаза длиннющие шире раскрылись, и от боли, от горя ли синева их ударила в прозелень.
Зеленеют горько-соленой морской волной и горят, горят, огнем бьют в лицо.
Бросилась я к ней, да как увидела, что ниже колен, где стопам ее быть, гладкое место, да как вскинулись мне навстречу вместо белых рук две марлевые культи, — отлетело от меня дыхание.
А она мне улыбается и ровным, сильным своим голосом говорит:
— Вот ты и приехала, мама моя милая. Познакомься с медицинской сестричкой Верочкой. Знаешь, какой она молодец? На ее дежурстве ни один раненый не умирает. Проведет через самый краешек, а упасть не дает.
И говорит, говорит мне про сестру, чтобы, значит, дать мне опомниться. И голос у нее сильный, веселый, только дивно ровный... без того, без Гранина перелива... На одной-разъединой ноте...
Слушаю я, а в глазах все кружится, все колышется — стены, окна, двери наплывают друг на друга, и все пробивает и жжет огнем взгляд ее горько-соленый, синий с прозеленью.
Лежит она передо мной, гордость и радость моя, дочка, для которой все ждала я небывалой судьбы.
Лежит передо мной без рук, без ног...
Свершилась судьба ее.
Вывели меня в госпитальный двор. Лекарствами поят, обмахивают газетами.
Летят серые тучи по небу, ветер, пыль, да пески переметные, да бумажки какие-то гонит по земле. Куда гонит? Зачем?
Думала, дочка моя, орлица, красавица, пронесет нашу с Тимошей плоть-кровь через тысячу лет. А она и себя нести не в силах.
Бренна, скудельна жизнь... Все от земли, от праха...
Одиннадцать раз в муках рожала. Одиннадцать раз сквозь кровь и слезы радовалась — в мире дите мое народилось...
Зачем рожала? Чему радовалась?..
Мне б еще с полвека назад пасть под заступ в могилку да закрыться глухою дернинкой...
Через час опомнилась. Рванулась к ней — кто, кроме меня, теперь отдаст ей сердце? Кто, кроме меня, пособит вытерпеть беду?
Побежала в палату. Граня меня встречает тихим укором:
— Мама, у меня рук-ног нету, зато голова цела. А сколько людей головы сложили? Или вы, мама, хотите, чтобы я руки-ноги сохранила, головы лишилась? Хотите вы этого, мама?
Обняла я Граню.
— Как ты могла про такое вздумать? Ты жива, моя доченька. Ты с войны вернулась! А остальное притерпится.
Стала ходить к ней каждый день. Начали мы обдумывать нашу жизнь.
— Все я могу вынести, мама, — говорит мне Граня. — Только не под силу мне вернуться в наш поселок, где все меня помнят прежней. И еще не под силу мне увидеть его... Степу...
Очи прикрыла, отвернулась, говорит в сторону:
— Он каждым моим шагом любовался. Все радовался мне. Вы думаете, он меня теперь бросит? Нет... Сватать будет... Не из любви... Любовь — это счастье. Какое уж тут счастье! Горе со мной обручилось... Он из жалости, по совести станет уговаривать. А в душе, может, тайно понадеется: авось, мол, она умная, авось, мол, она откажет...
Представила я себе, как тот тщедушный мужичонка сватает из жалости мою орлицу, и говорю ей:
— Отруби напрочь.
Написали мы ему письмо в полстраницы.
«Дорогой Степан! Мы слишком мало знали друг друга и поторопились с нашим уговором. В госпитале я встретила и полюбила другого и выхожу за него замуж. Это к лучшему для нас обоих. Не горюй, не жалей, не сердись и не ищи со мной встречи. Желаю тебе большого счастья».
— Не печалься, — говорю я ей. — Стоит ли он еще твоей печали?
— Вы не знаете... Все в нем было по мне. Что ни скажет, что ни сделает — как раз как я ждала. Да зачем теперь думать? Лучше меня найдет — позабудет, хуже — вспомнит.
V
На свету — не на клину — место будет.
Продала я дом в родном поселке, купила домик с садом в теплом краю, в зеленом районном городке. Начали мы с Граней жить наново. У нее пенсия, у меня пенсия, братья помогают, ей бы жить отдыхаючи, а она не соглашается:
— Лежач камень и тот мохом обрастает.
В райкоме отнеслись к ней сердечно: подобрали хорошую работу — в школе рабочей молодежи преподавать историю и в детском доме наладить самодеятельность.
Из райкома сообщили по комсомольской линии, что, мол, поселилась девушка без рук, без ног, со старухой матерью. Появились у нас ребята-тимуровцы. Граня обрадовалась, засмеялась:
— Вот и руки-ноги к нам пришли!
Затеяла она с ними собирать музей о героях нашего края. Откопала старика дирижера и сколотила при клубе хор советской песни.
Полгода не прошло, как приехали, а у нас в доме уже толчея. В дупле нашли ларчик с партизанскими письмами — тащат к нам. У парня богатый голос, а его из колхоза учиться не отпускают — он к Гране. В детдоме ребятишки гриппом болеют — ее кличут.
Чужая печаль мою дочку с ума свела, по своей и потужить некогда...
Пришла победа.
От людей война отошла, а в нашем доме прижилась, притаившись.
Не сразу ее и углядишь.
Граня глядит весело, еще и смеется чаще прежнего.
— На мои руки-ноги печально взглянуть. Если у меня еще и лицо будет унылое, как же смотреть на меня?
Всегда ровна, всегда улыбчива, только вдруг ни с того ни с сего да еще в самый развеселый час усмехнется над собой не своей усмешкой, а со злою тоской.
Так бывает — пока течет речка ровно, и не узнать, что у ней на дне. А разыгравшись, выплеснет невзначай со дна тяжкий горючий камень...
По вечерам у нас стали собираться песнелюбы. Сойдутся в саду, запоют — вся улица слушает. А посреди песни она, моя красавица. Гляжу на нее и думаю: как ни сохни море, а все луже не брат!
Сидит она в кресле. Руки шелковой шалью закинуты, с лица еще милее, чем раньше, голос сильный, глубокий, хватает за сердце. Плечи, стан, круглая шея ее — все налитое, как яблоко в самой своей золотой зрелости. Искрометный взгляд, улыбка жизнью плещут.
А руки свои — клешни, что ей хирурги сделали, — прячет она от людского взгляда. Я на них глядеть не боюсь. Я бы каждый шрам обласкала. Живут в моей памяти все десять пальцев ее проворных. А людям они не памятны. Боязно людям глянуть на ее увечье. И прячет она свою беду, чтоб не испортить песни, не затуманить вечера.
Сидят, поют наши гости, а как припозднится — разойдутся парами по семьям, по теплым гнездам. Жены с мужьями уйдут — мужья к женам потянутся. На что уж дряхлый старик дирижер и тот задребезжит, заскрипит:
— За-жда-лась меня моя ста-руха!
Холостые ребята простятся с Граней уважительно да и заторопятся от нее к своим зазнобам. Зазнобы эти красотой, сердцем, разумом Гране и в подметки б не сгодились... да у ней и подметок нет!.. А они все рукастые, ногастые...
И останемся мы вдвоем в опустелом саду.
Мне затоскуется, а Граня все меня веселит.
Только раз вечером запирала я за гостями калитку и глянула из сада в окно. Сидит моя красавица в пустынном доме нашем одна-одинешенька перед зеркалом и смотрит в него так пристально, так недоуменно, так упорно, словно хочет вымолвить: «Судьба ты моя, судьбина! Выдь ты ко мне! Погляди на меня: кого обижаешь?!»
Одна она у меня, однушка... Одна, как синь-порох в глазу... Одна, как месяц в небе...
VI
Дивные цветы развела для нее в саду. Горенку ее украшаю, как могу. И все стараюсь так предусмотреть, чтобы не вспомнила она лишний раз свое увечье. Да еще и так сноровлюсь, чтоб не заметила моих стараний. Она сядет заниматься, я рядом устроюсь, будто с вязаньем. А сама слежу за ней тайно и неуклонно!
Вижу, кляксу сделала, а пресс-папье на другом конце стола. Подойду будто в окно поглядеть да и подвину к ней пресс-папье.
Вижу, шаль с плеч соскальзывает. Упадет — ей трудно поднять. Подойду, обниму: «Не хочешь ли, Гранечка, чайку с вареньем?« А сама незаметно шаль поправлю.
Гляжу, она глаза щурит. Я уж смекаю: ей свет от лампы в глаза бьет. «Что-то, — говорю, — мне свет мешает», —да и переставлю лампу.
Так весь день и слежу за ней неотступно, неусыпно и тайно. Каждый помысел ее угадываю.
Одного добиваюсь — чтоб хоть вдвоем-то со мной позабыла она свое увечье. И вся моя радость в том, что она скажет:
— Люблю, когда у нас люди. Но почему-то только с вами вдвоем, мама, мне совсем легко... Как будто и я такая, как все. Такая, как до войны...
Днем позабудешься за хлопотишками. А спать ляжешь и все слушаешь: заснула ли, нет ли? Слышу — не спит. Не плачет ли?
Иногда присядешь к ней, споешь ей тихонько, как маленькой певала:
Приди, сон,
Из семи сел.
Приди, лень,
Из семи деревень.
Уснет ли она, притворится ли, что заснула?
Ляжешь в постель, а сердце у тебя непереможенным горем горит, не перегорает. И не заспать твою кручину ни на какой перине.
И слышу, выползает в темноте из подвальных углов войнища, обезглавлена, обескровлена, а как змея подколодная живуча. Из других домов она ушла, а у нас прижилась, притаилась.
Днем подпольно лежит, не шелохнется, а ночью не стукнет, не брякнет, а к самому изголовью подползет и шипит тебе в ухо: жива, мол, я еще, не добита.
Живет войнища в увечье моей красавицы, в безысходном женском ее одиночестве, в беде нашей неизбывной, неминучей, в тоске неусыпной, неутолимой...
И как ее, недобитую, одолеть?
Когда она открыто бушует, выходят на нее ратью.
А на такую, как у нас, подколодную, надо, как на мину, выходить — один на один.
Только для мины отвага нужна на час, на срок, а для нашей беды нужна отвага бессрочная. На всю жизнь.
И не одолеешь ее одной отвагой.
Руки-ноги — полчеловека захоронено, и не дано забыть той могилы. Сколько же надо сердечной стойкости, чтоб век вековать над могильным холмом?
Тут и Илья Муромец дрогнет, и Добрыня Никитич заколеблется, и Садко со своими веселыми гуслями шарахнется вспять.
Вот и прижилась недобитая войнища в нашем подполье, и тянет она оттуда в глухую полночь когтистые липы.
Спрашивают меня, почему над моей кроватью меж портретами детей моих да внуков висит портрет большого человека, которого я в глаза не видела и не увижу? Спроста ли это?
Тот, чье сердце больше других ратует против войны, тот мне роднее брата.
А про всяких никсонов да аденауэров, лежа этак без сна ночами, думаешь: «Ведь есть же и у них матери? Не от гадюк же они родились?!»
VII
Однажды под вечер Грани не было дома. Постучали в калитку. Открыла, а за порогом Степан. Я так и кинулась па него:
— Что тебя принесло? Не былб нам печали!
— Я, — говорит, — Граниного письма не мог понять. Или она не она, или письмо не ее. — Шагает нахально в сад и садится на скамью без приглашения. — Как демобилизовался, так стал разыскивать. Едва разыскал. Гоните не гоните, пока не пойму, до тех пор не уйду.
Открыла я ему все как есть.
— Мы к своей беде кое-как применились. Жалостью твоей не нуждаемся. Если есть в тебе хоть капля понятия — не береди ей сердца. И без тебя живет, как над пропастью идет. Вспугнешь — пошатнет ее, разобьется. Уходи!
Он как сел сиднем, так и сидит, не может опомниться. А я издали слышу: дребезжит ее колясочка-самокат. Ей только что сделали новую рабочие-железнодорожники. Слышу, едет...
— Я ее терзать не дам! — говорю. — Уходи, бестолковый, скорее! Чтоб как не было тебя! Чтоб и духом твоим не пахло!
Не идет. А Граня все ближе. Рядом кол лежал. Я им клуню подпирала, где куры ночевали. Как схватила я этот кол, как замахнулась:
— Не слышишь, подъезжает? Ступай, недотепа, в клуню.
Загнала я его в клуню, в далекий угол под насест, и говорю:
— Как уйдет в дом, тогда выходи потиху. Если нос высунешь при ней, пришибу на месте!
Закрыла клуню и еще дверь колом приперла, что хватило сил.
Въезжает в калитку моя Гранюшка. Въезжает, смеется.
— Такой мотор ребята сделали — восемьдесят километров в час тянет! Я теперь хожу в десять раз скорее, чем ходила ногами. — Отдает мне ребячьи тетрадки, берет свои палочки, встает и все рассказывает переливчатым сильным своим голосом: — А у меня нынче радость, мама, милая! Добились мы! Те дачи, что я вам говорила, отдали детскому дому! Ребята весь день пляшут от радости. — Вспомнила, видно, их пляски, засмеялась и тут же перебила смех новой злой над собой насмешкой: — Сама б я с ними весь день плясала, да вот ходить мочи нет!
… Взмыло со дна горюч-камень, мелькнул он на волне, да и вглубь ушел.
А Граня моя опять смеется легко, переливчато.
— Я вас туда свожу, мама. Вы ребятишек обучите сады растить.
И вдруг слышу за спиной скрип. Обернулась — гляжу, кол сдвинулся, дверь приоткрылась, а из щели торчит голова в курином пуху. «Сгинь! — думаю. — Нет на тебя пропасти!» Так бы и огрела колом. А Степан лезет из щели, ровно таракан. Сам весь красный, на лбу дуля: видно, о насест стукнулся. Не глянув на меня, идет он к Гране, обнимает ее, целует:
— Отыскал... Не уйдешь... И в коляске своей не укатишь. И восемьдесят километров тебе не помогут!
Помертвела моя Граня. Лицо изжелта-прозрачное, восковое, губы побелели, будто стерло их с лица, веки черные, а голову вскинула гордо.
Оттолкнула Степана, опустилась на садовую скамейку и отрезала:
— Уезжай. Нет прежней Грани. Ничего нашего прежнего больше нет.
— Где же оно?
Усмехнулась, а восковые губы кривятся той новой, горько-злой над собой усмешкой:
— Ищи на орле, на правом крыле...
А он берет ее руки и целует в корявые шрамы. Она их вырывает.
— Тебе не противно?
— Где ты кончаешься, где я начинаюсь — не знаю. И руки твои для меня живы. Знаешь, как бывает: жена уж состарилась, а муж все ее ласкает. Все живет ее красота у него в сердце! Так и руки твои, все десять пальцев твоих для меня живы!
Как сказал он те мои слова, какие я себе каждую ночь повторяю, тихо пошла я за угол дома.
Боюсь веткой хрустнуть, травой шелохнуть, чтоб речей его жизненосных не перебить.
Завернула за угол дома, а дальше ноги не несут — обмякли. Плюхнулась на скамью под яблоней. Сижу, воздух ртом хватаю.
А там за углом от минуты к минуте, от слова к слову переворачивается вся Гранина судьба.
Долетает смех его молодой, долетают слова:
— Не отворачивайся. Что ж ты заплакала? Улыбнись.
Слышу, голос ее мечется, меня кличет:
— Мама моя... мама!..
Я к скамье прижимаюсь, боюсь сшевельнуться.
Он смеется.
— Помешать нам боится золотая твоя мама. Самый счастливый день нынче.
Она не своим, сиплым голосом спрашивает:
— Для нас с ней... А для тебя?..
— Умная ты, а совсем дурочка! Час назад я думал, что нет и никогда не будет у меня ни жены, ни семьи, ни любви, потому что, кроме тебя, я никого не полюблю. Думал, что жить мне до старости одиноко. И вот все сразу появилось: любовь, жена, семья! А ты спрашиваешь: счастлив ли?!
Подходит то, о чем и думать было заказано.
Сердце в груди ударит и замрет, дожидается: жизнь ли, смерть ли?
Горе оно вынесло, а радости не осиливает. Кровь в сердце спекается. Все в глазах кружится: яблоки, листья, солнце меж ними. И тонкий, высокий-высокий звон стоит в голове.
Граня маленькая любила сказку про то, как орел змея казнил.
Полетел орел к солнцу в горнило калить на крыльях железные перья. До облаков стрелой летел — выше облаков кругами. Кверху летел — правым крылом к солнцу кружил, книзу — левым. Закалил оба крыла и ринулся на змеиную голову.
Кружит, звенит что-то в самом зените, в синеве...
Ух, высоко, высоко!
— У тебя в волосах куриный пух. Как ты в клуне очутился?
Он как засмеется:
— Мама колом загнала...
… Узнаю смех, голоса, обыкновенные слова про клуню, про кол, про куриный пух. А долетают те слова до меня с немыслимой высоты. Долетают сквозь тонкий зенитный звон.
— В тот раз у нас с твоей мамой вышла неувязка. Она ждала рассказов, как я с тобой сравняюсь. А об этом не словами надо... Делом! — И опять как захохочет: — Ах, хороша старуха! Как она с колом на меня кинулась!
Слышу, и Граня засмеялась:
— Не думала, что ты кола побоишься!
Он ей хитрым шепотом:
— В клуне-то оконце... Я посмотреть хотел: ты или не ты. Боялся...
— Чего ты боялся?
— Бывает, в беде теряют себя... Слабнут...
— А если бы я ослабела? Не вышел бы из клуни?
— Вышел бы. И сватал бы. А счастья вот такого не было бы.
Не обманули Граню соколиные очи, углядела человека вровень себе.
Поднял он ее на руки, пронес в дом мимо меня, только косы ее разметались да платье прошелестело...
Ветер в ветвях прошумел, голову мою обвеял родниковой прохладой. Легко мне вздохнулось. Звон ушел, и затихли слова. Оглянулась.
Качаются надо мной яблоки винного, сквозного налива, от зрелости сами светятся.
А вокруг и мир, и тишь, и синева.
Зачем — сама не знаю, тихо пошла я к дому, к Граниным дверям прильнула. Слышу ее голос:
— Ты детей любишь...
А он отвечает:
— И будут у нас дети. Ты же красавица, ты же силачка, ты же одна на земле такая! От тебя и в тебя у нас будут дети.
Как я вышла в сад, не помню.
Только помню, надо мной небо мирной, нетронутой синевы, а я стою под яблоней на коленях и родной земле своей кланяюсь. Она таких людей вырастила. Она войнищу придавила. Она даже тех, кто войной наполовину сожжен, подняла к счастью.
Бью я лбом о землю, а рядом яблоки падают с тихим стуком, словно и яблоня бьет челом родной стороне вместе со мной.
ТАЛАНТ
I
Вышла я замуж шестнадцати лет и пошла детьми сыпать! Бывало, спросят меня: куда, мол, тебе их с только?
А мне все смехи:
— Были б коваль да ковалиха, будет и этого лиха.
Вечерами «Акульку в люльку, Оленку в пеленку» — рассовала и отправилась с Тимошей на посиделки. Смолоду квас и тот играет, а мне и всего-то двадцать с хвостиком. Только раз бегут за нами — соседская девчонка уронила моего Гераську, повредила ему ногу.
Рос мальчишечка крепкий, как грибочек, шустрый, как живчик, а стал Гераська Оброныш. Сильной боли в ноге нет, а ходить не велит.
Источила нас с Тимошей совесть — сына прогуляли! С того и пошло.
Для других детей снято молочко, для Герочки — сливочки-переливочки. Семья у нас дружная. Ребята видят, что мы с Тимошей ради Геры из кожи лезем, и они равняются по отцу с матерью. Старшие Геру нянькают, младшие у него на послуге. И растет наш выкормыш сам статный, лицо холеное, глаза девичьи, с поволокой.
Пока ему двенадцать лет не минуло, мы с отцом только радовались, а тут начали чесать затылки. Глядит он так, будто не одни мы с отцом, а весь белый свет перед ним в долгу. К тому времени нога зажила, ходи куда хочешь, а у него все на побегушках. Сам с гирями упражняется, а младшими командует:
— Ныряйте под лавку, принесите мне тапки!
Спать днем ляжет, Сергуньке дает приказ:
— Становись возле меня, мух отгоняй.
И все ему не так! Известно: на паршивого и баней не угодишь — то ему жарко, то не парко.
Говорят: извадится овца не хуже козы. Сами не заметили, как изноровили мы его. Растет наваженый, что наряженый, — блажит, как по наряду.
Видим мы с Тимошей: ногу парню выпрямили, а нрав скривили. А я и ругать его не могу, все думаю: наша в нем вина.
Ко всему он был переимчив. Еще говорить толком не научился, а уж все мои присловья перенял. Учиться пошел, глянул в учебник вполглаза — в голове как отпечаталось. Из всех моих одиннадцати самый способный. Сельскую школу закончил, отправили мы его к Матвею в поселок кончать девятилетку.
Приезжаю навестить, показывает мне учительница его тетрадку. До половины задача решена, в конце написано: «И т. д.».
Спрашиваю его:
— Что это еще за «и т. д.» такое?
Он бровями пошевелил, свои синие очи с поволокой чуть повел.
— «И так далее», — объясняет. — Самое трудное я решил. А дальше мне неинтересно. Вот я и написал: «И т. д.».
И чем старше становится, тем больше у него этого «и т. д.».
Приехал домой на каникулы, взялся травы собирать для аптеки. Две недели из лесу не выходил, через две недели, гляжу, уж валяется в саду под яблоней.
— Я все травы лучше аптекаря изучил. Надоело.
Взялся сам детекторный приемник мастерить и добился — на пять минут услышали дальний голос. На том и кончилось. Все детали порастерял и опять на спину под яблоню.
Валяется лень — с прихворкой. Позевота да потягота, гляди, со свету сживут парня!
Отец к нему то лаской, то строгостью, а он угроз не боится, лаской не нуждается.
Я плачусь мужу:
— Эка облень по избе шатается! Не те отец-мать, кто родил, вскормил, а те, кто уму научил. Как его такого научить?!
Тимоша руками разводит.
— Не научили мы его, пока поперек лавки укладывался, а как во всю вытянулся, видно, не научишь.
К семнадцати годам вымахал выше всех в деревне. В поясе тоньше осы, плечи широкие, голову вскидывает, как конь. Глаза свои девичьи открывать не снисходит, глядит на все вполглаза. Брови густущие, левая бровь ниже, правая выше. И привык он этими бровями с людьми разговаривать. С братьями и сестрами словами говорить совсем отучился, только бровью указывает: подай, принеси, убери! Да еще и гневается, если не враз с бровей прочитают.
И то в одну сторону его заносит, то в другую — дорога ему открыта на все стороны. Парень способный, да сын председателя первой на всю губернию коммуны, да и сам для форса с полгода поработал на шахте. Характеристику ему дали отменную. Себя показать он может. На полгода его хватило. Все пути ему открыты, и все не по нему. За год две специальности забраковал.
Пошел в медицинский институт — в мертвецах разочаровался. Пахнут! В актеры шагнул — не понравилось! Несолидно.
Пошел в авиационный. Авиационный институт он окончил. Уехал на юг, поступил на завод, и пришло мне время дивиться — не нахвалятся на заводе Обронышем! Даже в газете мелькнуло: «Ценное предложение внес инженер Добрынин — сын того самого геройски погибшего председателя коммуны».
Прошло несколько лет, и вот узнаю — Гера Оброныш всех перегораздил. В тридцать лет стал директором завода и женился на писаной красавице.
II
Снарядилась я к Гере в гости — поехала порадоваться на сына.
Вышла из вагона — вижу, идет женщина, и не то что пассажиры — носильщики на нее заглядываются, багаж грузить забывают. Сама узкая, длинная, поджарая, в черном платье. Маленькая головка будто черным лаком покрыта, глазищи тоже черные, мохнатые. Что, думаю, за фря, за червонна краля? И вижу, выплыл к ней на орбиту и мой Герасим. В плечах еще поширел, а в поясе тонок. Брови так разрослись, что и глаз не видно, волос на голове русый, волнистый. Плывут, будто Марс с Венерой, только с нынешним стиляжьим уклоном. И вышагивает возле них собака борзой породы. Ноги высокие, морда шилом, все ребра наружу.
Люди на них оглядываются, переговариваются:
— Кто из всех самый чистопородный?
Подошли ко мне. Гера меня знакомит:
— Жена моя Ия. Собака Джюльетта.
Особняк у него в два этажа. И каждый день накатные гости. Коктейли да танцы.
Шуму много, а хорошего разговора нет. Оброныша моего прямо в глаза захваливают — и талантлив, и умен, и то, и се... А он уши развесил, будто не знает: от кого чают, того и величают!
Жена, Ия эта самая, — слов нет, красива. А копнись-ка в ней! С первым мужем характером не сошлась, оба друг дружку побросали. Второго она бросила: не богат, не знаменит. Третий и богат и знаменит, да сам ее бросил.
Если уж с такой красотой да столько лет судьбы не найти, видно, негодь. С личика — яичко, внутри — болтун. До полудня она в постели — все стонет: днем, вишь, ей не спится, ночью не естся! Болеет!
С полудня переберется с постели на тахту и начинает шипеть на портних да на парикмахеров. Шипит и шипит до вечера. У нее ровно у гусака — сердце маленькое, а печенка большая!
Как вечером гости в дом — враз поправилась, заегозила, завертелась пестом в ступе, в нее не угодишь.
И где только Оброныш такую высмотрел?.. Или шел не дорогой, встретил не путем?..
Многие вкруг них придворничали, а больше других заводской бухгалтер. Он и около меня вился. Поклончив, покорлив, а в глазах искра. Сразу видно ту породу, какая спереди ноги лижет, сзади за пятки хватает.
Я, бывало, шикну на него:
— Сгинь с глаз, поползень!
А он только засмеется:
— Ползком, Василиса Власовна, в люди выходят.
Услышишь такое, плюнешь да и уйдешь в сад с Шкилетой — я ту стиляжью Джюльетту на Шкилету перекроила.
Сидим вдвоем со Шкилетой в саду до полуночи, только что на луну не воем!
Неподалеку, в рабочем поселке, познакомилась я со стариком мастером. Решила с ним доверительно поговорить.
— Как, — спрашиваю, — мой-то на заводе?
Тот сразу глаза в сторону.
— Пока в замах ходил, лучше его не было.
— Тонок обиняк, да сквозит! На вожжах и лошадь умна! Ты говори, как сейчас правит?
Как ни мялся старик, а я поняла: правит мой Оброныш, как медведь в лесу. Дуги гнет — не парит, переломит— не тужит!
Из замов в директора — обыденна честь, и ту не сумел снесть.
Одно я старику на прощание сказала:
— Не я полынь-траву садила, сама, окаянная, уродилась.
III
Вижу я — Оброныш в умники попал, а из дурней не вышел.
Стала к нему приступать:
— Вскичился не в меру — закичишься до беды. Откуда у тебя хоромы в два этажа?
Он отмахивается.
— Три заводских поселка строил...
— В старину говорили: «Дай на прокорм казенного воробья, прокормлю и свое гусиное стадо».
Крякнул он с досады:
— Звал я тебя, мать, чтоб пожила ты в холе, в покое. А ты? Сама покоя не знаешь и мне не даешь. Я не вор.
— Не один вор ворует, а и поноровщик.
— Да возьми ты в толк: дом это не мой — заводской. И такие же дома у замов моих, у главбуха.
— У поползня, значит? Бывает и так — рука руку моет, обе белы живут.
Он руками замахал и от меня в другую комнату. Я за ним.
— Ох, боюсь, посадил ты волка в пастухи, лису — в птичницы, свинью — в огородницы.
Он отмахивается, а я не отступаюсь:
— Коктейли эти тоже у тебя казенные? Не лаписто ли живешь?
— По плечу, — говорит, — и лапы! Да что ты, надсада, ко мне прицепилась? Я большие дела заворачиваю, а ты рюмки считаешь! Мелочи все это...
— Случается и такое, сынок: корье на малье, а дуба не стало.
И как напророчила! Стали вызывать сына то в партком, то в райком по персональному вопросу. Дошло и до обкома. Берут кота поперек живота. Над родным сыном гроза, а я и жалею и... совестно сказать... радуюсь!
Гостей из дому как вымело. Сын ходит набычившись, крутоярый, крутобровый и тем возмущается, что поползень к нему ни шагу. Тут я не выдержала:
— Эко диво, что у свиньи пятаком рыло! По всему видно, какой породы вокруг тебя люди: пили да ели — кудрявчиком звали; попили-поели — прощай, шелудяк!
Он как зыкнет на меня:
— Не мать ты, а крапивное зелье! — Походил по комнате, волосы поерошил. — Я, — говорит, — им не поддамся! Либо петля надвое, либо шея прочь!
Удача нахрап любит. Отбился мой Оброныш. Поставили ему на вид да велели хоромы эти отдать под родильный дом. Возвратился орел орлом, кричит с порога:
— Эй, мать! Не гляди на меня комом, гляди россыпью! А квартиру отдам! Не жалко!
Вечером снова гости. И поползень тут же. Сперва Гера на него чуть не с кулаками. Да ведь у хитрой лисы три отнорка. Со скандала началось, а я и не заметила, как перешло в гульбу. В доме опять дым столбом, пыль коромыслом, не то от тоски, не то от пляски. Все беды ко дну, пузыри кверху! Гера тост поднимает: жизнь, мол, — копейка, голова — дело наживное, а все же выпьем за такую голову...
И пошел хвалиться своей головой!
Распалилась я, раскалилась:
— Все кузни ты обошел, а не кован возвратился!
А он стукнет по столу:
— Надокучила ты мне, мать, что пигалица на болоте.
На другой день я уехала. И как уехала — опять растревожилась.
Всегда у меня так с моим Обронышем: не вижу — душа мрет, увижу — с души прет.
Полгода терпела — ни я ему не писала, ни он мне. Через полгода звоню ему по телефону, будто по делу. Дело обговорила и спрашиваю:
— Как жена Ия? Как Шкилета?
— Выгнал, — говорит.
— Кого выгнал?! Шкилету?!
— Зачем Шкилету? Шкилета — пес добрый. Жену Ию выгнал.
Вскорости сообщает: опять женюсь! А еще года через полтора донеслись до меня слухи, что опять открылась у него старая болезнь в ноге и уходит он с завода будто бы по болезни на пенсию, а на самом деле по наущению новой его жены. Опять, думаю, у Гераськи-Оброныша «и т. д.» пошли.
Черного кобеля не отмоешь добела!
Помчалась без предупреждения, чтобы застать всю картину как она есть.
IV
Три раза человек дивен бывает — родится, женится, помирает.
Как открыла мне двери новая Обронышева жена — махонькая, немудрященькая, в штапельном платьишке, — так и онемела я на пороге.
Моему ли вельможе да после той прожженной крали такая простушка? А он еще и знакомит меня с ней такими словами:
— Это Лялька. Была Лялька-машинистка, стала Лялька-жена. Хочу — с кашей ем, хочу — масло пахтаю!
Она смеется.
Личико кукольное, только куклы щекасты, а эта похудее. Носик тоненький, глаза — две черные пуговицы, глядят и не мигают. Кудряшки как у овцы, и румянец будто наведенный. Одно слово— Лялька. Иначе и не назовешь! А у самой уж двое сынов-близнецов, таращатся этакими же пуговичными глазами.
Познакомилась я с невесткой, налюбовалась на внучат, приступила к своему Обронышу:
— Серьезно ли болен?
— Да нет, так. Бумажку все же дали.
— Что ж завод покидаешь? Опять «и т. д.» началися?
Лялька вступилась:
— Тяжело ему, переутомляется.
— Знакомое дело, — говорю. — Ходит гусь по воде, лапки, горемыка, промочил, головушку простудил.
Думала, Оброныш осердится, а он смеется да спрашивает:
— Мать, скажи, кому легче: птице летать или рыбе плавать?
— Ясное дело, птице!
— А вот и нет! Птица устает, отдыхать садится. А рыба... рыба плывет, как живет, и сама того не замечая. Задумал я такой самолет — по рыбьему принципу. Без крыльев, без пропеллера.
Лялька подхватывает:
— Каждую ночь над ним сидит. А тут инвалидность... Мы даже обрадовались. Целый год — делай что хочешь.
— На что жить-то вчетвером будете? — спрашиваю.
Лялька только хохочет:
— Сыновей в ясли, сама на работу! Я машинистка-стенографистка. Я два языка знаю, меня наразрыв приглашают.
— Эка маленькая, не прокормишь большого верблюда да двух верблюжат!
Опять хохочет бабенка:
— А вот и прокормлю!
И мой, гляжу, подхватывает:
— Хлеб да вода — богатырская еда. А на хлеб да на воду Лялька заработает.
Я опять остерегаю:
— С квартиры сгонят.
Опять хохочет бабенка, что ты с ней будешь делать:
— Четыре комнаты отберут, две дадут. Я что верба — куда ни ткни, там я и принялась! Только бы рядом с Герой.
То ли, думаю, совсем глуповата баба, то ли уж до того умна, что ее ума и постигнуть не могу.
А мне одно понятно — надоело моему обленю изо дня в день ходить на работу. Старая погудка на новый лад! Раньше братьев да сестер запрягал себя возить. А теперь нашел бабеху-дуреху.
Тут и открылся мне секрет Обронышевой женитьбы. На такой жене, как та Ия, не поездишь: та сама кого хочешь загонит. А эта Лялька-простофиля начнет лялькать да вконец и залялькает мужика.
Мне невесело. Оброныш глядит вполглаза. Одна эта Лялька не поет — так свищет; не свищет — так прищелкивает. Увидала мое беспокойство, улыбнулась.
Одно мне в то время в ней и помаячило: улыбка. Уголки губ тоненько обрисованы, улыбнется — и открыто, и по-ребячьи, а в уголках будто что-то затаилось. Печаль не печаль, терпенье не терпенье? Не поймешь, не выскажешь что. Только улыбнулась и поумнела. Не Лялькина у нее улыбка.
Улыбнулась и говорит секретно:
— Не тревожьтесь, мама. Все к хорошему. Ночью я вам покажу одну вещь.
Заснула я рано, а часа в два ночи просыпаюсь и вижу — стоит надо мной Лялька в ночной пижаме и грозится пальцем:
— Тсс... Пойдемте. Чтоб он не услышал.
Крадемся мы коридором к кабинету. Дверь открыта, на столе бумага, разный чертежный инструмент, а за столом мой Гераська. Не то чертит, не то считает, а сам и приговаривает, и подсвистывает. До того смешно глядеть! Я чуть было не заклохтала от смеха, а Лялька шепчет:
— Смотрите, какое у него лицо.
А лицо у него такое, как бывает у доброго человека после первой рюмки. Брови разомкнулись, и глаза проглянули голубые, ребячьи. Складки на лице размягчились. Губы сами себе улыбаются, сами себе шепчут.
И снова бы мне рассмеяться, я смешлива родилась, смешлива и помру! Да глянула на ее, на Лялькино, лицо и осеклась.
Помню, девчонкой еще, привезли меня в первый раз к морю. Просыпаюсь утром — от пола до потолка солнечные блики скользят, переливаются. Моря еще и не видно и не слышно, а по этой переливчатой зыби поняла: рядом оно! Повернула голову к окну и ахнула: огромное, лежит тихо, а в каждом всплеске солнце!
Глядя на Лялькино лицо, почему-то вспомнила я то утро.
Смотрит она на моего Оброныша, а улыбка то вспыхнет, то пригасится, глаза то блеснут, то притуманятся. Все лицо и трепещет, и отсвечивает чем-то; тем, чего и не видимо и не слышимо, а вот тут оно, рядом.
Неловко мне стало глядеть на нее. Пошла я в постель, а она скользнула за мной, присела и шепчет:
— Видали, мама? Вот такое лицо у Геры до тех пор, пока он сидит над своим самолетом! А раньше я его таким только раз и видела: в роддоме, когда он взял на руки сыновей.
А я его лицо не больно и разглядывала! Ее, Лялькино, лицо приковало взгляд. Удивила меня Лялька, да не убедила. Не первый год я знаю Оброныша. Мое исчадье!
Оседлает он эту бабенку-несмышленку и начнет, как прежде, с утра гадать, чем день занять: не то сидя просидеть, не то стоя простоять, не то лежа пролежать.
Каков в колыбельку — таков и в могилку.
С горьким сердцем я от них уезжала.
V
Встретиться пришлось в дни войны, когда пробиралась и с юга домой к раненому Сереже. С моря пересела на поезд. Поезд шел с пересадкой. Во время пересадки и задержалась я на сутки у Геры. Жили они в рабочем поселке, в двух маленьких комнатах. Когда я пришла к ним, едва обутрело, а у Ляльки уже в кухне обед варится, в прихожей сохнет белье, а сама за машинкой — спешит с расшифровкой. Ни кукольного румянца на лице, ни белизны, ни веселья. Ручки-ножки-— как веточки. Скоро рожать. Только улыбка да глаза-пуговицы и остались от прежней. Не успели перемолвиться, как она сгребла свои расшифровки, забрала ребятишек — вести в детский сад. Остались мы вдвоем с Герой. У меня одна Сережина беда на уме, я и не спрошу Геру, как его рыба-самолет.
Он сам мне говорит:
— В решительный день ты приехала. Пять раз разбирали мою конструкцию. Сегодня разбирают на особой комиссии с представителем из Москвы. Либо в стремя ногой, либо в пень головой...
Ходит молчаливый, и по одному лицу его я вижу: под кем лед трещит, а под ним ломится.
К вечеру возвратился, прошел молчком в свою комнату. Заглянула в дверь — люто полосует свои чертежи. Рвет и приговаривает:
— Пристыдили меня, мать. Говорят — война, а ты в бирюльки играешь. Свяжись с младенцем — и сам оребячишься.
Это он про жену. Знала я за ним в детстве лиху привычку — за свои неудачи винить кого-нибудь.
— Эх! — говорю. — Ума в тебе три гумна, да сверху не покрыты.
Пнул ногой со злости изодранные бумаги, крикнул дворничиху:
— Уберите на помойку, чтоб глаза не мозолили!
Пошел на завод, с порога бросил:
— До утра не ждите.
Вечером потемну прибежала Лялька с детьми. Она уже но телефону все узнала и только об одном спросила меня:
— Где чертежи?
— На помойке...
Не успела я объяснить, как заскулила над городом сирена. Отвела невестка меня с детьми в бомбоубежище, а сама исчезла. Сижу и слышу — люди переговариваются:
— Какая-то сумасшедшая, в бомбежку ночью копается в помойке.
Пошла я на розыск.
На дворе уж зазимье. Вьюжно. Вдалеке темнота огнем занялась — за рекою пожары. То там, то здесь ухают бомбы. Прожекторы щупают небо, и в белесом отсвете ходит по мерзлой земле снежная поползуха. Куделится снег на пустынном дворе. Вдруг в углу мигнул синий свет.
Кое-как добрела я до угла наперерез ветру по наследу. Вижу, бугрится что-то. Так и есть — она. Нагнулась, отдирает от наледи облитые помоями, примерзшие бумаги. И кряхтит и сопит — живот ей, видно, мешает.
— Разродишься еще тут, на помойке! — говорю. — Пойдем.
Не идет.
После отбоя вернулись мы домой, уложила она меня с ребятами, а сама к бумагам. Чистит их тряпочкой, склеивает обрывок к обрывку, сушит у плиты, разглаживает утюгом и все просит меня:
— Гере не говорите. Он с досады не только бумаги, он нас растерзает.
Среди ночи опять пальто на пузо натягивает:
— Главной бумаги нет... с расчетами...
В глухую ночь опять потащилась на помойку.
В другой час я бы хоть поговорила с ней, а тогда все мимо меня шло: одна Сережина беда была в голове.
Прошло еще с полгода. Гляжу однажды в окошко — идет женщина, сразу видно — из беженок, много их тогда шло. Обтрепанная, едва тащится — лишь бы нога ногу миновала. Одно дите на руках, двое держатся за юбку. За спиной под мешковиной торчит что-то длинное, круглое, вроде дула, не то от ружья, не то от пулемета.
Я б их и не узнала, если б не глаза у ребятишек — как увидела четыре черные пуговицы глядят, не мигают, так ноги сами вынесли меня за калитку.
Оказалось, Гера ушел на фронт, а они эвакуировались с заводом. Поезд, которым они ехали, разбомбило, полустанок захватили немцы. Две недели Лялька с ребятами пробиралась оврагами, на третью неделю немцев поотогнали.
Взялась я мыть нежданных гостей. Внучата, как морозобитные травинки, — головенки на шеях так и никнут, а у матери кости сухой кожей покрыты, живот к хребту прирос, лицо с кукиш, глазищи с кулачищи. Черные кудри отросли, а в них безвременная седина не вроссыпь, а ручьями. Сама мою ее, сама чуть не плачу. Что войнища над людьми делает:
Пораскинулась печаль
По плечам,
Распустила сухоту
По животу.
Вымылись они, а переодеться не во что. Взяла я ее заплечную ношу — там пеленки для меньшого, для старших смена белья, а для самой ни рубашонки, ни кофтенки. В серединке мешка торчок вроде дула перевязан, в три перевязи.
Спрашиваю ее:
— Что это ты за пулемет тянула на спине?
Глазищи опустила, не отвечает. Стала я раскручивать сверток — гляжу: в нем бумаги трубкой. Насмелилась она, взмахнула ресницами, усмехнулась чуток:
— Это... те... чертежи... Вы, мама, не смейтесь. В них Герино сердце. Никто этого не понимает. Даже он сам не понимает.
И мелькнуло у меня в голове: «Никогда умом крепка не была, а с войной, видно, вовсе тронулась. Платьишка для ребят не донесла, а рваные бумаги с помойки тянет на себе».
VI
Протекли еще годы. Отшумела победа. Пришла мне необходимость ради дочки Грани порвать все со старым гнездом, купить для нас с ней новый дом, в новом месте.
К тому времени Герин завод возвратился с эвакуации. Лялька давно переехала к мужу. Места там теплые, щедрые, и решила я поискать новое пристанище возле них, по районам да пригородам.
Пока искала, поселилась у Геры. Жили они в заводском стандартном доме, скромненько, тихонько. Он работал инженером, она — стенографисткой. Ребятишки все ростом пошли в отца — большие, плечистые, а мать их, Лялька, стала еще меньше. Ходит по дому подросточек глазастенький, бледненький, тощенький. На пальцах суставы раздулись от машинки. Ох и дорого стоил ей мой Оброныш! Была липка, стала лутоха. И не поймешь, откуда в ней силы берутся? Работает с утра до ночи, а в доме порядок. Никогда слова срыва никому не обронит. Правда, очи уже изгасли и стала молчалива — ни песни, ни свисту. Хохотать разучилась, разве улыбнется изредка, да и улыбка не та. Раньше, бывало, в ее улыбке с каравай всякой радости, с полприкуса печали. Теперь наоборот. Невесела улыбка. Только в тоненьких, в умненьких уголочках угнездилось веселье, взлетать не взлетает, но и уходить не уходит. Придремало наготове.
Дети растут не изваженные, а мой Оброныш хуже малого ребенка. Пока он дома, только и слышишь:
— Лялька, где мой галстук? Приготовь рубашку. Куда дела бумаги! Напомни позвонить в дирекцию.
И хоть бы сам замечал, как она вьется вокруг него. Редко-редко, когда у нее пироги уж очень хороши, похлопает ее по спине да примолвит:
— Люблю серка за обычай — кряхтит да везет...
Похваля да в сóху. А она и этому рада.
Оброныш мой правит службу мало-помалу. Ни задора, ни атаманской повадки. Только над семьей и воеводит — в подпечье и помело большак.
Одно «и т. д.» идет, сплошь, без перемежки... Где смолоду прореха, под старость — дыра.
Чертежный инструмент на шкафу валяется темен, пылен. Ржавый меч потуск...
VII
Однако настал такой день. Приходит Герасим на себя непохож:
— Помнишь, мать, мою рыбу-самолет? Специальное бюро создают — будут разрабатывать сходный принцип. Вспомнили и меня. Вызывают для разговоров в Москву. С чем поеду? Заводские архивы сгорели. Свои чертежи сам порвал.
Ходит, за голову хватается:
— Два года работы... И какой работы!.. Два года вдохновения псу под хвост...
Тогда и достает Лялька из чулана те бумаги. Думаете, мой Оброныш обрадовался? Сперва оттолкнул:
— Это что за грязь?!
Потом свои брови густущие стянул, наярился, принялся сверток раскручивать, разглядывать. Да как крикнет на жену:
— Главное-то, главное где?! Где лист с расчетами?
Подает она ему и этот лист. Цифры поразмокли, поистерлись. Но все можно разглядеть. Впился он в них.
А я к тому времени крепко к невестке привязалась и укорила за нее сына:
— Хоть бы ненароком обмолвился спасибом. Выковыривала твои бумаги из помойки ночью, под бомбами, брюхатая, через фронт волокла на себе! А ты...
Думаете, он меня слушал? Только злым глазом своим косился: не мешай, мол. Сгреб бумаги и потащил в свою комнату. Сам тащит, а сам косится.
Был у меня смолоду этакий злобный, неразумный пес. Дам ему добрый мосол с мясом, он схватит и поволочет в дальний угол. Сам тащит да сам на тебя же рычит — попробуй, мол, отними!
В точности Гера Оброныш.
Мне за него перед женой неловко, а она начищает ему чертежный инструмент и его же оправдывает:
— Растерялся от неожиданности.
Припал день к вечеру. Поумолкла денная тревога. Дети заснули. А Герасим все сидит как припаянный. Ужин подала — не прикасается.
Легли и мы с Лялей спать. А спали мы с детьми в столовой, он один в кабинете. Ночью просыпаюсь. Дверь в кабинет распахнута, оттуда к нам в спальню льется свет. II вижу: Герасим мой стоит на коленях у тахты, где спала жена, пальцы ей целует. Даже Ие, прожженной крале, ни разу рук не целовал. А тут обласкал все распухшие суставчики.
А она волосы его перебирает, светит над ним глазами своими, как мать над ребенком, как большая над малым. Как женщина над мужчиной.
Слышу, шепчет он:
— Лялюшка... друг большой... жена...
Слава богу, думаю! Десять лет с ней прожил, трех детей нажил, на одиннадцатом году догадался, что у него жена есть!
Бывает в человеке душа, что в кремне огонь, не добьешься — не заискрится. Добилась Лялька. Достучалась. Заискрило.
Бывает перечасье дороже года. До войны не было еще ни подходящего топлива, ни нужных материалов для Гериной конструкции, а к этому времени научились делать и то и другое.
Пришла пора, Гера своего часа не прозевал.
Самолет задумал без крыльев, а самого окрылило.
К делу стал лют, а к людям простодушен. Определился человек на свое место, отыскал самого себя. Надо сказать, что на новой работе товарищи не чета поползню. Герасима и похвалят и проберут, когда надо. Без перевясла и сноп солома, а тут весь человек подобрался, подтянулся. Спрашиваю его:
— Гера, а не выскочит из тебя «и т. д.», как бывало?
Он только засмеется.
— Я «и т. д.» писал, когда все трудное позади. А в нашем деле самое трудное всегда впереди!
Из-за того, что полдела было у него обдумано еще до войны, обогнал он кое в чем и своих товарищей, и американских конструкторов. Стал генералом, лауреатом.
Когда праздновали удачу, собрались награжденные в парадном зале. И меня затащили. Сижу я, радуюсь, слушаю разговоры. Спрашивают моего Геру:
— Есть «Як», есть «Ту», а почему вы свое создание не окрестили по имени?
А он шутит в ответ:
— Неудобно мощный двигатель окрестить «Лялькой» А другого имени я ему дать не вправе...
Лялька стала от радости белей мела, одни глаза — черные пуговицы — глядят не мигая. Пальцы с вздутыми суставами теребят новое платьишко синего крепдешину.
Шепоток пошел среди некоторых женщин: Лялька — жена? А что в ней? Немолода. Неприметна. Некрасива. Платьишко не по моде. В разговоре не блеснет. А ведь он атаман! Он красавец! Он талант!
А я слушаю да думаю: чьего таланта в этом самолете больше — его или ее?
VIII
Всем ведомо, что есть талант конструктора, музыканта, художника.
А может, есть еще один талант — редкий, тихий, неприметный, изо всех самый некорыстный —талант жены?
Никто меня не спросил, а спросили б, я рассказала б.
Семеро сыновей у меня. Семеро невесток.
Все хороши, все любимы, а одну среди всех называю дочкой. Как погляжу на ее бледное личико, так само сердце выговаривает: «Лялюшка, мила моя доченька...»
Никто меня не спросил, а спросили б, я рассказала б.
Семеро сынов у меня. Семеро невесток.
Шестеро из них ко мне приходили, так мне говорили:
— Спасибо вам, мама, за вашего сына, моего мужа. Вырастили вы человека людям на радость, жене на счастье.
А к седьмой моей невестке я сама пришла, сама ей сказала:
— Спасибо тебе, Лялюшка, мила моя доченька, за моего сына, твоего мужа. Подняла моего Оброныша, сделала из него человека людям на радость, матери на счастье.
БЕЗ ЗУБОВ, А С КОСТЬМИ СЪЕСТ
I
С огнем не шути, с водой не дружись, ветру не верь — дружись с землей! Все мы земляне — на земле родились, землей кормимся, от нее к звездам взлетаем, к ней от звезд возвращаемся.
Много лет прожила я в поселке, да, видно, душа-то у работяги в поту растворена: полдуши моей так и осталось с потом запахано в родной, в колхозной земле.
Свояков у меня полдеревни, там и сестра Марья.
Гера — депутат Верховного Совета от родной области. Выписываем оттуда газеты, ведем переписку.
До войны там жили раздольно, с войной оскудали. Лет шесть назад пошел в родной колхоз председателем Иван Кудряшов. Я его знала сперва в селе, потом на шахте, и Ваняткой голопузым и Ваней Кудряшом, комсомольским заводилой.
Был парень правдолюб, душа нагишом. С его легкой руки все принималось: барабанную палку воткнет — и та зазеленеет!
Обрадовались, что такой председатель.
Замелькало в газетах: в Загорном заложили скотный двор!.. В Загорном теплицы строят!.. В Загорном высаживают сады!..
По газетам в колхозе все хорошо, а Марья пшена просит!
Прежде просила прислать то рыбки заморской, то колбаски особого копчения, а теперь нá тебе: пшена просит и жалуется на колхоз.
Что за наваждение?!
На одну Клавдю да две правды: и нетронутая девка, и гулява на сносях! Какой правде верить? Придорожная пыль неба не коптит.
Нагрузила мешок пшеном.
Поехала.
II
Марья на радостях затормошилась — помело в печь, блины в подпечье... А помело ощипано, а блины не маслены...
Вспоминаю прежнее, а Марья губу кривит:
— Живало-бывало!
Отравилась я в поле.
Год шел недобрый.
По холодной весне градобойное, грозное лето. Ненавоженная пашня заскорбла: праховая земля дождей не держит.
Вся надежда на то наполье, что на изволоке, — там наилучшие земли.
Подошла к изволоку.
Хорошо поднялась пшеница, да, видно, примяло ее градом.
Лежать не лежит, стоять не стоит: вся движется, вся колышется, силится распрямиться.
Подует ветер навстречь наклону — взметнутся колосья, вот-вот поднимутся на стеблях, вот-вот воспрянут!
Переметнется ветер, глядишь, они пали. Зато на другом месте пошли перекатом бодриться.
Ходит, ходит колышень по всему полю.
Бьются, бьются накатные волны об весь изволок...
Эх, где мои богатырские сорок лет, где нашей артели сорок баб?!
Уж мы бы все хлеба выходили — стеной бы они встали!
Думаючи — навоевалась, отдыхаючи — утомилась. Оглянулась — нет ни богатырки-бригадирки, ни ее подружек.
Стоит посредь поля одна-разъедина бабка — сморщен стручок, седую голову вскидывает — петушится!
Пошла дальше. На холме, на высоком месте — плакат: «Все на стройку Дворца культуры!» Под плакатом колонны, на них портик треугольником, как в Большом театре. Коней, правда, еще не поспели водрузить. И еще одной малости не хватает: стен да крыши.
Иду к выпасам. На краю лугов новый скотный двор — хоромы на пятьсот голов, бетон да железо. Только и в этих хоромах одни стены выложены до половины.
На выпасах стадо невелико, перестарков вволю, а прибыльняка-молодняка — раз-два и обчелся.
Людей немного и работают не браво. Начальство на каждой притыке, а верховодов не вижу.
— Где же, — спрашиваю, — колхозные коренники? Где ваша сила?
— Кто помер, а кто и поразбежался. И мы бы ушли, да не отпускают.
«Вот уж истинно, думаю, чудеса в решете — и дыр много, и вылезть некуда!»
— Что ж, — спрашиваю, — Ваня-заводила, Ваня-гуртоправ? Где же его безобманное слово?
Его не ругают: он, мол, и разумен и некорыстен.
— А если так, — допытываюсь, — так что за беда в колхозе?
— А беда в том, что правит и колхозом, и самим Ваней заброда Васька Буслай с приспешниками.
— Чем же он других превзошел? — спрашиваю. — Умом? Опытом? Умением?
— Нет у него ни ума, ни опыта, ни умения.
Чем же худой берет власть над хорошим? Как сноровится глупый верховодить умным? На каком поводу себятник ведет бескорыстника?
Одну загадку отгадала, три новых набежало!
По раздумью, что по болоту: пока не выбродишь, все зыбко.
III
И до утра не дождалась, тем же вечером пошла за семь километров к Ване в правление, в село Боровое.
Отгорел солнцесяд, наступил межесвет — сумерки. Обозначился месяц на примолоди. Тихо, а все наносит падымь от дальних лесных палов. Сполошливое время — в бору все пожары!
Подошла к правлению.
Вокруг огоньки так и снуют — народ толпится. Не спокойно, а не шумно... Там слово... здесь слово...
Судят-рядят, как быть с той озимой, что помята градом. Выхаживать ли ее? Убирать ли на корма?
Спросила я про Ваню, говорят, не придет, заболел желудком. Остальное начальство заседает.
Когда стали люди расходиться, приоткрыла я дверь в кабинет.
Трое ведут беседу. За председателевым столом человек — пасмур, черный, мне незнакомый. Спина и плечи круглой, свиной стати. Рядом с ним — розовый, твердый, гладкий. И взгляд вельможный, и грудь колесом, и кадык клик, а голосок с волосок: писклявый, бабий. Он эту беду знает и тужится басить под стать всей осанке: одно слово скажет басовито, на другом сорвется, а остальное пойдет подряд писклявить. Только по длинному, дощечкой, подбородку можно узнать Антона Ковалева, сына доброго отца, первого колхозника.
А третий — молодец с верблюда, говорит с пришептом. Увидел меня, кинулся, как родной:
— Шлушайте-пошлушайте! Вашилиша Влашьевна! Мамаша нашего депутата! Не ужнаете?
Вгляделась в него: Захарка, сын Гундосова. Я отца его знала — не вовсе дурак был, а с крепкой придурью. Видно, свинья рылом в землю, и порося не в небо! Захарка этот сам велик, а вся выходка, как у махонького: ноги голенасты — шажки крохотны, голос громок, а слова с пришептом. Топчется он вокруг меня, сучит ногами:
— Иван Петрович жаболел желудком, но шкоро жайдет. Дожидаемшя. Шадитесь. Ждоров ли наш депутат, Герашим Тимофеевич? Ведь я Герашиму Тимофеевичу хоть и дальней прихожусь, а родней!
На одном солнышке они онучи сушили — как не породниться?!
Присела в углу, слушаю, домогаюсь понять: что это за люди и чем они властвуют?
Черный говорит:
— Задождит... размоет... не вывезешь...
Захарка всполошился:
— Да куда ж, Вашилий Петрович, ее вывожить?! Куда?! Куда?!
Черный, видно, он и есть Васька-заброда, оборвал:
— «Куда-куда»... Закудыкал!..
Антон перебивается с баса на писк, а слова стелет гладко:
— Оно, конечно, вывозить ее некуда. Но, однако... — И красный палец поднял торчком кверху.— Если экономика колхоза требует, чтобы она была вывезена, придется вывозить!
Из полуречья поняла, что разговор идет о примятой градом озимке. Думают ее срочно скосить, вывезти, а поле засеять кукурузой.
Пока обговаривали, отворив дверь рывком, быстрой поступью вошел человек. Седоват, немолод, а как увидела одну его повадку — идет лбом вперед, будто стены таранит, — так и полыхнуло молодостью. Да не моей! Моя-то что — она всего одна, да и то скоролетка! В детях моих она одиннадцать раз повторилась!
Одиннадцатикратной молодостью полыхнуло в лицо!
… Под грозовым дождем на том самом изволоке косарят опушку под росчисть полуголые ребятишки. Пионерское звено лес отодвигает, поля наращивает. Мои шестеро вертятся вокруг главного корчевателя. А тому лет шестнадцать. Лоб выдвинут — молодой бычок целится боднуть. Глаза серо-синие, как приглубая вода. А зубы африканского веселья: каждый сам по себе блестит и сам по себе смеется.
Ваня!
… Приехала я на шахту в гости к сыновьям, Матвею да Гере. Помню, возле шахты в кругу аккуратных людей пляшут ребята антрацитовые, усталые: комсомольский забой празднует рекордную выработку.
Мой Гераська-чистюля выходит из круга, нацеливается плясать. Чумазый парнишка отбивает чечетку и горячит:
— В забой с нами слабо, а в круг хочешь?!
Гераська пиджак на забор, шапку оземь:
— И в забой пойду!
Мой высок, красив, легок. Чумазенький не взял ни красотой, ни ростом, а я им, не сыном любуюсь!
Аргамак к поре, «меринок» к горе!
«Меринок» душе-то родней! Я им любуюсь, а он чертом крутится, и блестят на черном лице жаркого, африканского веселья зубы.
Ваня!
От одной его повадки полыхнуло в лицо молодостью моей одиннадцатикратной!
Ваня обнимает меня:
— Люблю я тебя, Власовна, и всю твою породу!
Говорим вразнобой, перебиваем друг друга, припоминаем старое.
Вспомнил, как пел с Граней ее любимую: «А я остаюся с тобою, родная моя сторона». Отвернулся к распахнутому окну, туда, где накатанная дорога рекой течет меж темными травами.
Запел тихо, одним дыханием:
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой —
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.
Поет, будто вся судьба его мчится по этой песне, как по большаку.
Я его спрашиваю:
— Как в колхозе-то, Ваня?
Обернулся ко мне радостный:
— Высадили мы яблоневые сады. Видела? Приезжай весною — разольется цвет вокруг села.
И вдруг почему-то ужалила меня в сердце жалость.
А он все рассказывает и все-то светит глазами, все-то радуется:
— А клуб какой воздвигаем среди яблоневого сада!.. С колоннами! А видела, какое выбрали место? Вид оттуда хоть на картину!
Ах, просит, просит Ванино сердце — не для себя, для людей оно просит! — яблоневого цвета, земли обрядной и обродной, высокого дворца, полносветного, наголосного...
Не отдам, не отдам Ваню! Коли и есть в нем оплошка, так не вражья, не чужая! Моей души, моей земли оплошка, моего веку!
— Ванюша, — говорю ему осторожно, как лунатику. — Да ведь в том клубе всего и есть что один круглый вид на все четыре стороны.
Ваня вдруг замолк, как поперхнулся.
А Буслай крякнул:
— Иван Петрович... выводит колхоз... в обойму передовых...
Говорит, что родит, — с потугами.
Гляжу на него — ну ничем он не берет: ни ухом, ни рылом, ни очами, ни речами! Так чем же он над Ваней властвует?!
А он на Антона, на Захарку глазами повел, и те зашебаршились.
Антон, поднатужась, начал басовито:
— Оно, конечно, строительство подзатянулось... Но, однако... — До этого слова басу хватило, а как дошел до этого «но, однако», так и сорвался. Перешел на свой коренной голос, на тот дискант, каким две кумы судачат через улицу: — На данный момент имеются крупные достижения. За образцовые сроки сева наш колхоз и руководство персонально занесены на доску Почета.
Захарка ему в рот глядит, ждет промежутка, ногами сучит от нетерпения — тоже желает участвовать в культурной беседе.
Известно, безногому плясать лестно, безмозглому — умничать!
— Шлушайте-пошлушайте! Мы жапланировали урожаи... Мы жапланировали удой...
Кожу на лбу стянет, глазки заведет: глядите, мол, какой я шибко умный! Какой шибко серьезный!
Я понимаю: стараются они не ради меня, ради Геры-депутата.
Слушала, слушала, отвернулась от них и говорю Ване в упор:
— Что-то у твоих соратников, Иван, слов больно много. А правда не речиста! На нее, на правду, два слова: либо да, либо нет. — Пригвоздила зрачки зрачками да и пытаю: — Хуже ли, лучше ли в колхозе год от году? Ответь ты мне сам, Ваня!
— Трудности роста, а линия на крутом подъеме.
Смотрит твердо.
А глаза подвернул тонкий синчик — первый ледок в редкостав...
Блеснул колко, игольчато...
Тряхнул Ваня кудрями с проседью. Налил в стакан воды, поднял, поглядел сквозь нее на свет, будто запросило нутро не воды — хмельного. Засмеялся прежним своим заливчатым смехом. А зубы у него белым-белы, белее, чем в молодости.
Отсмеялся, стиснул белые, плотной изгородью зубы. Поднес стаканчик к губам, подержал:
— Сторонись, душа... Оболью... — глуховато сказал, нутром.
Поглядела я на него:
— Бережешь душу-то? Для чего ж ты ее, береженую, в сторону угоняешь?
Буслай не допустил Ваню до ответа, сунул ему бумаги, а тем двоим подал безмолвно команду. Антон по команде записклявил бабьим голосом:
— Оно, конечно, ошибки у нас есть! Но, однако... Достижений не в пример больше. Возьмем хотя бы животноводство...
И писклявит, и сам себя слушает, и сам собой упивается!
Слова сыплет с запасом на обе стороны — запаслив да опаслив два века живут. Говорит, как докладчик, — все глаже, все тоньше да все громче.
Или оттого и верещат и гремячат его слова, что и Ваня и Буслай затихли намертво?
Разобрала меня злая досада: хоть хлестнуть, хоть рубануть, да пробиться к Ваниной береженой душе!
Захарка глаза заводит, умничает:
— У наш бык-проижводитель... У наш доярки-ударницы... Под руководштвом Ивана Петровича перевыполняем план по молоку... Перевыполняем также по мяшу...
А я от злости взрывным голосом спрашиваю:
— Слыхивала я про дивный случай: одну корову пополам делили: зад доили, перед во щах варили!
Тут Буслай в первый раз глянул на меня. Странно глянул. Темные зрачки и жгут и приласкивают: пойди, мол, ко мне в ступу, я тебя пестом поглажу!
Антон запищал, заверещал, заторопился:
— Конечно, были всякие трудности! Но, однако!.. Глядеть надо вперед, а не назад. В настоящее время кадры мы подобрали...
А Захарка подхватил:
— У наш кругом кадры! У наш на каждом учаштке руководящий кадр!
Я уж обрываю, как обрубаю:
— Бывает, разведут по десять указчиков на одного работника. Указчику рубль, работнику гривна. То-то, Иван Петрович, видно, прибыль для хозяйства?! — Ваня молчит, а я добиваюсь своего: — Работал когда-то агрономом Афанасьев, один за дюжину ваших специалистов.
Сам Буслай подал потужный голос:
— Не нашей обоймы...
Антон объясняет:
— Оно, конечно, это агроном опытный, однако чуждый и бесперспективный. А Иван Петрович лучше всех видит перспективу коммунизма.
В глаза нахваливает, а Ваня слушает и хоть бы поморщился! Лицо недвижимо: не то дремотно, не то дурманно.
Антон начинает — Захарка подхватывает. Дым с чадом сошелся!
— Иван Петрович вшем головам — голова! Второго такого, как Иван Петрович, во вшей облашти нет! Таких, как Иван Петрович, днем ш огнем поишкать!
Кадит и кадит! Слушала я, слушала, да и говорю:
— Ох, дымно кадишь... Святых зачадишь!..
Сказала я эти слова. Глянула на Ваню. И тут только сама поняла — да ведь уже зачадили!
IV
И пугаюсь, и сама себя успокаиваю: чад поразогнать можно!
Буслай тем временем перевел разговор на побитую озимь:
— Ее скосить... Кукурузу посеять... Громыхнут все газеты...
Ваня колеблется — озимку еще можно выходить, а для кукурузы и земля не подготовлена, и сроки давно минули, и семян нету.
Буслай внушает:
— Срок наверстаем... Семена добудем... Под твоим руководством...
Антон видит и Ванины сомнения, и Буслаев напор. Он и вьется ужом, и топорщится ежом:
— Оно, конечно, и сроки поздноваты, и семян маловато! Но, однако... При твоем авторитете, Иван Петрович...
А Захарка расходился ото всей души:
— Да ты, Иван Петрович, вшемогущ! Да колхожники, Иван Петрович, по одному твоему жнаку — куда хотишь!
И кадит и кадит эта троица! Да как спелись!
У Буслая, у хапуги, у запевалы, захребетная своекорыстная цель.
Захарка по непробудной своей глупости старается изо всей души. Это дурак самородковый, прирожденный!
А у Антона и ум есть, да на уме одно: где блины, там и мы; где оладьи, там и ладно! Чтоб ненароком не промахнуться, сыплет хоть и с писком, да на две стороны: «Оно, конечно» да «Но, однако».
И до того эта троица кадит, что мне слушать мерзко!
Иван и тот иной раз губы скривит... А слушать все же слушает.
Видно, и претит, а в горло летит!
Приучили.
Пока они говорили, а я думала, прибежал парнишка, сказал, что приехало начальство, остановилось в соседнем селе машину чинить.
В других колхозах начальство не диво, а до нашего Загорного через боры до мшары нелегко добраться и по летнему сухменью, а весной да осенью вовсе не доедешь.
Не обрадовался Ваня событию. Пожелтел — половый стал. Буслай и тот зашебаршился, говорит поспешно Ване под руку:
— Убрать озимь-то до утра... Придет начальство, а на скотном зеленый корм... Стойловое содержание... Прямо но инструкции...
И открыли они все трое перепальный огонь по Ване.
А он впопыхах накидывает плащ, в рукава не попадает, карандаш роняет, бумажки сеет на ходу.
Уж он на пороге, а Буслай на него нажимает:
— Так двинем, Иван Петрович?
Остановился Ваня в дверях. Серые, как приглубая вода, глаза его озираются, взгляд так и бьется о стены!
Заметалась, закружилась зачаженная душа'
Повернулся он крутенько, чтоб ответить Буслаю и...
Прозвучал тут один непонятный звук...
То ли от крутого поворота одежа на Ване треснула... То ли крякнул он неловко... То ли половица так неудачно скрипнула...
Только очень уж похоже на ту стрельбу, что случается невзначай при кишечной болезни в укромном месте.
Я от конфуза приросла к полу. Ванино лицо все краской занялось, закашлялся он от стыда да скорее за дверь.
А как закрылась за ним дверь, Буслай строго всех оглядел:
— Слыхали?.. Слыхали, спрашиваю?! Иван Петрович сказал «да»!
Антон на минуту и рот разинул, да тут же спохватился:
— Мудрое решение! Верное решение! Сразу трех зайцев убьем: и зеленая подкормка, и царица полей, и по два урожая с одного поля!
И тут вдруг заволновался Захарка.
— Шлушайте-пошлушайте! — И ножками засучил пуще прежнего. — А не ошлышались ли мы? А не впали ли в ошибку? А не промолвил ли Иван Петрович шлово «нет»?! Буквы «а» мне не шлышалось! Буква «е» мне будто яшней прозвучала?!
Еще и буквы пошел обсуждать...
Буслай и слушать не стал, поднялся во всю свою круглоспинную свиную стать и дал приспешникам знак: «Сарынь на кичку!»
Я взмолилась:
— Да побойтесь вы совести! Ведь то не ум помыслил, не язык вымолвил! Ведь... заднее место оговорилось... да и то невзначай!
Глянул Буслай на меня, будто семерых живьем съел, осьмым поперхнулся.
Я все твержу:
— Каждому чиху молиться — вожака изнетить! Дом свести на отхожее место!
А уж их и нету.
V
Звезды переплывают от окошка к окошку, ночь течет надо мной.
Баба с печи летит, сто дум передумает, а сколько их за ночь переберешь?
Уразумела дневным разумом то, чем Васька-заброда властвует: колхоз он берет Ваниным возвеличенным авторитетом, а самого Ваню кадилом — лестью.
Ване только и услышать правду да совет от своих же колхозников, а меж ними и Ваней встала эта сбитая троица: коренной хапуга, трус-блиноед да самородковый дурак.
Но ни дневным, ни ночным разумом я понять не могу: откуда взялась в лести пагубная сила?!
Хвала-похвала сто веков жила, многим вредила, да народ не губила.
Хозяйничали когда-то в Загорном кулаки. И они кадильщиков слушали, а не заслушивались!
Да ведь тогда заслушиваться рубль не давал! В ту пору придремли под байку — хлестанут рублем. Проглотнут живьем.
У нас рублем не хлещут, живьем не глотают...
Или без хлыста не привыкла еще человечья душа?!
Худо стало мне от одной этой мысли. Отогнала я ее, а на ее место новая набежала.
Не рубль умом у нас властвует, а ум рублем. Каким же должен он сделаться, всевластный ум человечий?! Без чадинки, без пылинки, без кривинки!
Теперь лесть не нрав человечий портит — самому социализму точит становой корень!
Ох, грозна в наш век лесть, ох, опасна' Вчера грозна была и завтра будет опасна. Так бы я и засигналила. «Всем!.. Всем!.. Всем!.. Молодым и старым! Заводским и колхозным! Людской разум коммунизм строит! Берегите разум от злой заразы!»
Большое бучало засыпали, тем и злой водокрут убрали, а уж дно вокруг сильно повыбито, и по всем выбоинам свои водокруты. И чем они на вид неприметнее, тем опасней.
Додумавшись до этого, и сама я закрутилась в кровати что есть силы, а за стеной вдруг как гаркнет.
— Ку-ка-ре-ку-у-у!
Батюшки, петухи! В городе отвыкла от них, а тут за стеной курятник.
Первые петухи орут надрывно, солнце еще далеко бродит в черном космосе. Его оттуда вызволять надо, а попробуй-ка докричись!
Вот первые петухи и рвут жилы. Шеи вытянув, грудь раздув, лапами вцепившись в насест, абы с крику самим не перевернуться, орут солнцу позывные:
— Ку-ка-ре-ку-у-у! Мы с землей ту-ут! Не заплутайся и посторонних галактиках! Держись моего кукареку-локатора!
Хрипнут трудяги, срываются с голоса.
Первые петухи отголосили, а я все думаю. Для всех она, лесть, опасна... Да ведь Ваня-то.. Ваня... ото всех на отличку!
Ваня, Ваня, моей души родич, моего времени сын, как у тебя в душе век отпластовался?!
Вырос на больших народных делах, и нужны они Ване пуще хлеба.
Да ведь большие дела не обходятся без больших кропотливых трудов.
Иль рьяность к большим делам вкоренить в человека много легче, чем рьяность к большим трудам?!
Первая вкоренилась, ненарушима, неуязвима, а вторую и устаток подтачивает, и годы точат, и обман того кому больше всех верили, оборачивается корнеедой...
Создалось в Ваниной душе чрезвычайное положение. Больших дел она, душа, жаждет, а больших трудов не желает!
Туг лесть все залепит, все приглушит, да так все представит, будто и большие дела есть, и больших трудов не надо. Живи — не хочу!
Произнес речь — глядь, вырос клуб с колоннами! Выступил на собрании — скотный двор взбодрился! Издал непонятный звук — заколосилась пшеница! Чем не житье?
И смекнули хитрецы-блиноеды сыграть и на Ваниных помыслах о людском счастье, и на Ваниной человеческой слабости...
Бежать к Ване, как мать к сыну, как к Сергуньке и Гране я прибегала в их бедовые дни!
Ждать утра невтерпеж, завертелась в постели, а за стеной опять как гаркнет:
— Ку-ка-ре-ку-у-у!
Вторые петухи кричат без того полуночного надрыва: солнце-то уж ближе!
Вторые петухи и дают позывные, и ободряют, и радуются, что работенка-де не впустую:
— Ку-ка-ре-ку-у-у! Так держать! Идешь по рассчитанной тр-р-р-а-ектории! Курс верен! Слушай кукареку-локатора!
И вторые петухи откричались, а я все не сплю. Мысли одолевают: одну отдумаю, а из-за нее уж другая вылазит. Голова вроде многоступенчатой ракеты. Одна беда — ступени есть, а высоты нету! Какая польза колхозу от моих мыслей? Один зуд! И отчего я, старуха, такая зудливая?
Думала, думала, додумалась! Он и есть главный виновник — сам «Интернационал»! С девчонок все пела: «Своею собственной рукой...» Допелась!
Добро бы руки были бы прежние — плотны, упруги, как две рыбины, горячи, как два утюга; урожай поднимать, машины водить, детей растить, сам социализм строить — они все могли.
Теперь потемнели, ссохлись, скрючились. Уж и не руки, а так... паленой курицы лапы. А я все — «своею собственной»!..
Своею рукой чад от Вани отогнать.
Застать бы его в пробудный час, пойти с ним на рассвете вдвоем к побитой озими, обсудить, как ее выходить. Она поднимется, а с нее и начнется подъем всему колхозу!
И вот уже не то наяву, не то во сне вижу: по изволоку колосится озимь выше пояса. В новом скотном — породны коровы! В клубе — музыка! А я себе разгуливаю в яблоневом саду, Ванина спасительница, колхозная радельница!
Все бы хорошо, да под самым окном опять как грянет:
— Ку-ка-ре-ку!
Третьи петухи победно поют!
Месяц пригас, а на небе краюха солнца да брезг зари.
Под самым окном стоит петух, распушив огонь на груди, сам собой гордится и солнцем похваляется:
— Ку-ка-ре-ку! Вот оно! Вышло в заданный срок на заданную орбиту! Я его всю ночь вызволял. Теперь радуйтесь!
Самое время вставать!
Подумала я об этом, да тут, как на грех, возьми да засни!
VI
Проснулась, а уж серебрян петух давно с поля ушел, свое стадо увел, золот полевод давно трудится!
Охаю, спешу, собираюсь к Ване, а Марья усмехается:
— Не то что Вани, а и озими не спасешь! Буслай любит потемки да поспешки. Впотьмах да впопыхах кто углядит, сколько скосили, куда свозили? Оттого и торопился!
Я ей не поверила.
Иду полями. Все небо над ними обнесло облаками. Ветер и облака гонит, и деревья гнет. Все кругом шелестит, клонится, распрямляется! Каждая травинка и живет, и дышит, и спорит с натиском.
Подошла к изволоку.
Одна стерня...
Остра на срезе. Мертва на ветру. И пылит и тоскует по ней обездоленная земля... И пылит, и дымит, и горьмя горит...
Сварганили молодцы-удальцы, ночные дельцы!
Последние снопы наваливают на машину. У машины Антон.
Кинулась к нему, чуть не плачу:
— Что ж ты, милый, делаешь? Буслая я не знаю, Захар — самородковый дурак, а ведь ты-то честного отца разумный сын!
Он переминается:
— Оно, конечно, рад бы побеседовать, Василиса Пласьевна, но, однако, не поспеваю...
— Да уж где тебе успеть? — говорю, слезной солью слона посыпаю. — Собака собаку в гости звала. «И рада бы прийти, да важные дела». — «Что же у тебя за важные дела?» — «Видишь, мужик едет, так мне надо вперед забегать да лаять!»
Отчитала, отошла.
Вокруг меня колотье, колотье... Под стерней-колотьем горючая земля.
Стою над ней, как над сиротой. Нет, мол, у тебя ни отца, ни матери, так на, мол, тебе хоть бабку — паленые лапы!
Гляжу: подъезжает вездеход. Выскакивает из него Ваня и, дверцы не захлопнув, бежит, бегом бежит к стерне. Подбежал и замер.
Мотается, хлопает под ветром незакрытая дверца. Полы Ванина плаща так и бьются об ноги. Тени стелются по изволоку большим звериным наметом.
Недвижимы только стерня да Ваня над нею.
Стоит он на поле, как на погосте.
Что поминает? Озимь ли? Корчевье ли? Себя ли прежнего?
Вспомни, Ваня, как, бывало, украшал землю, как она тебя любила, как под твоей рукой зеленела! А теперь испропастил ниву, стоишь под ножевой стерней! Под ветром, под полуденным солнцем она не играет, не блестит, отдает в глаза твоим мертвым железным туском.
Стоит Ваня, стоит как вкопанный.
Видно, остра правда, как сто ножей, — не одну меня, и его она резанула. Рассечет все оболочки, обнажит сердцевину! Самое сердце Ванино вот-вот раскроет.
И все во мне всколыхнулось. И руки у меня как руки, и спина как спина, и верю я: здесь сейчас, над стерней, на ветру, и случится чудо!
Антон со страху спрятался за машину и шепчет мне:
— С утра при районном начальстве собрание. А в колхозе кляузы... Иван Петрович в расстройстве... Вы и не приступайте...
А я иду к Ване. Вплотную подошла, а он не слышит.
Очи его серо-синие, как приглубая вода, тоскуют, озираются, удивляются: «Сбил, сколотил — вот колесо! Сел да поехал — ах, хорошо!.. Оглянулся назад — одни спицы лежат...»
У левого виска какая-то жилка бьется да бьется. А губы приоткрыты жалобно.
Сейчас, сейчас, пока он такой недоуменный, горький, раскрытый. Сейчас...
А он увидел меня, губы подобрал, круто отвернулся. Лица не вижу, одно ухо передо мной. Ухо хрящевое, с жухлой серой мочкой.
Ладно, думаю, буду говорить прямо в ухо!
Что я там, над той стерней, над той праховой землей, ему в ухо говорила, по порядку и не припомнить.
Говорила: не верь, мол, пустым речам, верь своим очам! Не ищи друга-встречника, ищи поперечника! Призови мастаков, знатоков, бескорыстников, честняг-работяг, смельчаков, правдолюбов. С ними час горче, да век слаще. А у похвалки ножки гнилы — далеко на них не уйдешь!
Разгони одним махом всех похвальщиков. Вредней их нет для народа. Вожаку застить — народ напастить!
Говорю, тороплюсь, не передыхаю.
Вот-вот повернется, увижу прежнего, долгожданного...
И верно, он повернулся.
И вижу я: лицо-то у него чужим-чужо.
Щеки набрякли, желваки вздулись. На что уж нос — хрящи да кости, а и тот не по-Ваниному выпятился.
Видно, лесть не поверху чадит, а в самую кость пробирается. Кость изъедает!
Я отступила перед тем лицом, а оно мне усмехается, оно мне выговаривает:
— Кляузы собираешь, Власовна... хоть ты и мать депутата...
Не отодвинул, отшвырнул меня словами.
А в глазах у него уж не ледок-синчик, а целые ропаки. Громоздятся, наплывают друг на друга, и не пробьешься сквозь них и на атомном ледоколе! И вижу я: нагольной правдой к нему не пройдешь! Довеку не нужны ему праведники, нужны одни угодники.
Эко злое диво, диво навыворот: и без зубов лесть, а с костьми съест.
Зашагал он от меня.
Рванулась я за ним. Взмахнула своей паленой курячьей лапой:
— Прощай, Ваня!
А мне и проститься-то не с кем.
Нету Вани.
Остались от Вани одни оглодыши...
ТРИ ТЫЧКА В ТРИ ЛИСТКА
I
Четыре года назад привезла я внучку, Гранину дочь, к профессору областной консерватории. Мать с ней ехать не в силах, отец, первый секретарь райкома, не может покинуть район. Вот и отправились бабка Василиса да внучка Вассна.
Жить мы должны были у Геры-депутата. Недавно получил он большую квартиру.
Всегда нас встречала Ляля, а тут не встретила: не дошла телеграмма. Беда невелика: хоть я и не была на новоселье, да адрес известен: улица Береговая, дом 406.
Васснка знает, что дядя Гера даже на космодроме бывал, и все допытывается:
— Бабушка! Космический и коммунистический — это одно и то же?
— Не одно, а рядышком.
Увидела новый вокзал.
— Бабушка, а дом, где живет дядя с товарищами, еще интереснее?
— Куда уж вокзалу! В том доме кнопочка есть: нажал и всеми этажами снялся да и взлетел на луну. Пожил на луне лунный сезон, наскучался лунными кратерами, нажал на кнопку, и — здравствуй, земля-красавица!
На середине Береговой улицы сошли мы с автобуса, двинулись пешком.
Идем, любуемся: улица широкая, усажена деревьями, дома высокие.
В конце улицы три дома красавца, что три близнеца, — все шершавого розоватого камня, все окнастые-глазастые. Голубеют сквозным стеклом, легко поднимаются к небу.
Васенка догадалась:
— Здесь дядин дом!
Подходим к первому из трех — и верно, дом 40!
Стоит красавец в зеленой купине, а из окошек свисает что-то серое, длинное, шевелючее. Удавы — не удавы? Сразу и не разобрать, что это шланги для полива.
Все подворье разделено заборчиками на клетушки, и в каждой клетушке по удаву. А в клетушках ель лезет на яблоню, лук-порей — на розы.
Стоим с Вассной, дивимся, а за кустами сцепились два голоса:
— От вашей яблони у меня в комнате зеленая тень и вся моя семья тоже зеленая!
— Вы не от яблони, вы от злости психоватые! А ваша собака в прошлом году в нашу клубнику мочилась!
— Обрубите вашу яблоню, или я сам обрублю...
— Только попробуйте. У вас кошка и та психоватая — у ней зрачки поперек.
Неужто же, думаю, тут жить?! Глянула на дощечку: 40а.
— Васена, — говорю, — пронесло беду! Наш дом следующий.
Она взглянула на соседний дом и бегом к нему. И я за ней потрусила.
Горят две поляны тюльпанов, в меж ними фонтан. Вдоль изгороди сирень. Слева — душевой павильон. Справа — песок, грибки-навесы и надпись: «Детский солярий».
По краям двора песчаная дорожка, над ней планка. По дорожке бегут парнишки в трусах, и один посередине стоит с секундомером и командует:
— Коля, корпус! Игорь, опорная нога!
Васена моя загляделась, а командир ей говорит:
— Девочка, посторонись. Здесь тренировка домовых спортсменов.
У Васены глаза и разгорелись, а я читаю надпись: «40в».
Дом 40б оказался напротив.
Сам дом такой же красоты, а стоит на голом пустыре.
Вокруг него ни куста, ни травинки, ни ограды. Дует нагольный ветер-лобач. За деревьями его и не слышно было, а тут заметает пыль.
Васенка спрашивает:
— Бабушка, отчего здесь такое?
— Видно, еще не поспели сад посадить.
Взвилися мы на лифте. Дверь кожаная, стеженная, как одеяло, вся в золотых пуговках. На дощечке серебряное тисненье: «Г. Т. Добрынин».
II
Началась наша новая жизнь.
Профессор сам взялся заниматься с Васеной. Она трудится, и мне дела хватает. Вожу ее на занятия и обратно. Помогаю Ляле по хозяйству. Квартира большая, да и семья не маленькая. Геры, правда, и дома почти не бывает, младшая девочка уехала гостить к Лялиной матери, зато близнецы Костька да Витька стóят целой роты.
Выжердились ростом с отца, оба черные, оба с Лялькиными пуговичными глазами. Из баловства и причесываются точка в точку и костюмы носят один в один — так им ловчее ходить друг за дружку и на экзамены к профессорам, и на свидание к девчатам. Озорники, беда!
Они и надо мной озорничали.
Я со временем научилась их различать, а первые дни повязывала Костьке на палец красную нитку.
Приключился у Витьки жар. Я весь день кручусь возле него, а вечером, гляжу, он высунулся в окно полуголый. Я взяла ремень да и стеганула по главному месту.
А он оборачивается и хохочет:
— За что, бабуня?! Ведь я не Витька. Я Костька!
— А если ты Костька, то где ж твоя нитка?!
— Потерял, — говорит. — Плохо привязали!
— Если ты «Костька с ниткой», так где же «Витька без нитки»?
— «Витька без нитки» смылся на свидание. — И сам заливается.
То ли он «Витька без нитки», то ли и вправду это Костька сбросил свою нитку да и морочит мне голову?!
Оба на первом курсе металлургического института и спорят день и ночь о мартенах! Костька стоит на том, что их надо автоматизировать, а Витька говорит, что нечего с ними возиться, надо заменить их новыми методами.
Средь ночи проснусь, один кричит:
— У тебя консервативное мышление! Ты ретроград-консерватор!
Другой отвечает:
— Мартены на слом?! Неэкономично! Главное — экономика страны! Не я ретроград-консерватор, а ты верхогляд-прожектер!
Вхожу к ним, а они оба на полу, и у одного нос в крови.
— За что, дурак, кровь проливаешь? — спрашиваю.
— За отечественную металлургию!
И оба хохочут.
В первый день они у меня в глазах двоились. А потом уж пошли не двоиться, а четвериться, восьмериться!..
Все черные, все с пуговичными глазами, все шумят, все скачут.
И как получились такие от тихой Ляльки да вельможного Геры?
Рассказывал мне Гранин муж, любимый зять мой Степан Алексеевич, про кукурузу. Если скрестить два чистых противоположных сорта, то получается кукуруза страшного могущества. Называется «гибридный взрыв».
Поживши с Костькой да с Витькой, скажу я вам: один такой «гибридный взрыв» в доме еще можно стерпеть. А уж два...
Васенку они полюбили. Все ставят ее на голову — собираются выступать в институте на вечере со спортивным аттракционом. Я их укоряю:
— Чем вертеть сестренку кверху ногами, позаботились бы об ней. На дворе пыль глаза ест.
— Мы в парке гуляем. И она пускай ходит в парк.
— Все одно мимо пустыря идти.
— Мы прищурившись мимо него ходим. И она пускай щурится.
От своего отца привычку переняли, тот и вовсе вприщур живет. Человек, который смотрит либо вдаль, либо в глубь себя, ресницы присмеживает. Он ресницами мысли отгораживает, чтоб ничто постороннее его не отвлекало. Так и наш Гера — ходит, ресницами отгородившись.
От своих моторов он отрывается мыслями только на один час: с шести до семи.
В шесть придет, перекусит, приляжет на часок на диван и зовет, как маленький:
— Лялька!.. Домой... хочу!..
Она ляжет рядом, он уткнется ей под мышку.
Я его спрашиваю:
— Что же, по-твоему, «дом»?
— А это — главное место на земле! Где лучше всего понимают, что надо моим потрохам, моей голове и моей совести.
— Объясни, — говорю, — подробней.
— Стоял мой пулемет на обороне на взгорье... Зима. Вьюга. Фашисты на нас ползут. Жили на юру, под пургой, под пулями. А внизу был блиндаж. Выбьемся из сил, пойдем туда... «домой»... на часок. Кровь прогреешь. Разомнешься. Глядишь, опять «отмобилизовался»! Опять солдат!..
— Плохо поняла, — говорю. — Еще объясни...
— Американцы начинают подбираться к нашим параметрам... А мы должны меж нами и ими дистанцию не снижать, а наращивать! Я и сейчас на юру живу... На юру!.. Понятно объяснил? А Ляльке объяснять ничего не надо.
— Тебе хорошо! Ты у жены под мышкой «отмобилизовываешься». А где другим «отмобилизовываться»? Взять хоть нашу Васенку. Ей на пустырь ходить, пыль глотать?
— Где пустырь? Какой пустырь?
— Да у тебя за окошками.
Вытянул шею, поглядел в окно.
— Я, — говорит, — его и не замечаю! — Взглянул на часы: — Мне еще полчаса отдыха... В семь стендовые испытания...
Смежил ресницы и нырком к Ляльке под мышку.
III
Стали мы с Васенкой ходить на прогулки в соседний двор. В эту пору как раз сирень зацвела, как вскипела. Гроздья пышны, упруги и дивного, светлого цвета.
Бывает, сквозит такой цвет над рекой на восходе. Еще и небо не высинилось и заря не загорелась, а где-то в самой глубине бледно-голубого уже затеплился бледно-розовый...
И уже светлеют они оба, и еще нет ни того, ни другого... Только утро... Только брезг зари на подступе... Только солнце на восходе... Только все полуденное счастье тут рядом, близко, за плесом...
Не сирень цветет — заревая кипень бьет по всему надворью.
Под сиренью тюльпаны желто-красные, словно огонь пробился из глуби земли нáвстречь лету.
Вокруг цветов роятся люди — рыхлят, поливают.
Мы с Васенкой помогаем — рады случаю покопаться в земле. Главного заводилу я приметила не сразу.
Ходит человек — седоват, а крепок. Сам невелик, головенка кругленькая, набок наклонена, глазки черные, как две бисерины. Нахохлится — ни дать ни взять птица воробей: зерно выглядывает да прицеливается половчее клюнуть.
Поглядит, прицелится и заулыбается, засеменит, хоть и бочком, а споро, то к одному, то к другому.
Стала я к нему приглядываться.
Подошел к молоденькой женщине:
— Показался ли у Маринки пятый зубок?
— Как стала сажать в солярий, так и зубки пошли.
— Пора песок обновить. Не поможет ли ваш муж на своем самосвале?
Договорился, простился и уже опять головенку нагнул, опять прицеливается.
Выходит из дому к своей машине председатель райисполкома. Воробей мой скоком-боком к председателю. Этому козырю все под масть! Подошла я поближе, слушаю.
Председатель — человек усталый, лицо с синевой, веки отечные, взгляда не пропускают.
— К сожалению, занят, — говорит. — Не могу прийти на субботник. Я пришлю вам садовый трактор.
— Очень хорошо... — Вытащил блокнотик, записал и говорит совсем тихо: —Ведь у нас была своя идея! На заводах бриганы коммунистического труда. А разве нельзя организовать домá коммунистического быта? Ведь кругом стройка. Что людям взять за образец?..
Смотрю, поднял председатель отечные веки, а глаза под ними не по лицу веселые. Подумал о своем, засмеялся.
— Ладно, — говорит, — старик! Раз «идея», приду, будь по-твоему.
Мальчонка лет пятнадцати кричит на весь двор:
— Дядя Петя, наш Васька влюбился! Дай ему букет вне очереди!
«Зерноклев» заколыхался. Смешлив, вроде меня! Посмеявшись, отвечает:
— Дадим букет. Специальные кусты высадим! Берите лопаты, копайте ямы — посадим для вас кусты особо. Влюбляйтесь на здоровье!
Понравился он мне. Неказиста лошадка, да бежь хороша!
Углядит в каждом человеке доброе зерно и ухватит.
Ребятишки убежали, а воробей-зерноклев аж ногами притопывает — доволен. Потоптался, покружился. И вдруг встал посередь своей орбиты как вкопанный: голову набок, круглый глаз нацелил. На кого опять, думаю? Батюшки! Никак, на меня?!
И верно... Прямиком ко мне. За какое место, думаю, он меня уклюнет?
А он ко мне без лукавого подхода, спроста, по-человечески:
— Я сам дед, сам внуками не обижен, но уж ваша Васена...
Разговариваем мы, как бабка с дедом.
— Закупили мы детскую мебель — в зеленый уголок для дошкольников. Надо привезти, да боюсь, шофер не углядит, чтоб аккуратно погрузили. Может, вы с ним подъедете?
И чего-то вдруг сильно захотелось мне приложить к этому делу свою руку!
Я тесто собиралась ставить, да и на него махнула рукой:
— Прощай, квашня, я гулять пошла!..
Оглянуться не успела, как сижу в кабине.
Тут только и спросила у шофера про «зерноклева»:
— Кто таков?
Оказался — управдом.
IV
Соседний сад день ото дня пышней, а наш пустырь день ото дня пыльней!
Однажды глядим мы с Васеной — свалены возле нашего дома саженцы. Деревца слабенькие —три тычка в три листка, а возле них целое стадо коз. И щиплют и щиплют, стригут челюстями, что автоматы!
Две дворничихи испрохвала копают ямы, а на коз не обращают внимания.
Я к старшей.
— Катерина, — говорю. — Ведь общипают козы ваши саженцы еще и до посадки.
— А не все одно, до посадки либо после? У нас третий год так. Саженцы привезут — загородок нету. Саженцев не станет — загородки привезут. За зиму загородки растащат, а с весны опять саженцы привозят — и пошло все сначала.
Отогнали мы с Васеной коз, кинулись в контору.
Наш управдом не чета соседнему — оборвал меня на полуслове:
— Погоди, старуха. Я думаю...
Сидит и смотрит в бумагу. Головища тяжеленная, лицо будто из кирпича, красно, недвижимо. Уставился в бумагу в одно место и глазами не водит. Один носище, что насос, трудится: «Пф... пх... пф... пх...» Гляжу на него, думаю: «Хоть помигай! Покажи, что жив человек».
Ждала-ждала, не вытерпела.
У вас, — говорю, — все саженцы козы сжуют.
Не враз приподнял голову — этакий нос-насос не скоро и поворотишь. Глядел, глядел, наконец выговорил:
—...Ты что? В дворники наниматься?
— Нет. Не в дворники. Я говорю, около саженцев цельное козье стадо!
— А если не в дворники, то чего пришла?
Тьфу ты, думаю, мозговина у тебя с котел, а в ней чистый вакуум! Не знают в институте Курчатова — эка ценность пропадает!
В третий раз ему объясняю:
— Козы деревца сгложут. Ни забора, ни изгороди.
— Да ты откудова взялась такая?
— Приезжая я.
— А приезжая, так с чего по дворам шатаешься? Ступай, старуха, ступай со двора подале.
Тут Васенка встала на защиту:
— Зачем вы нас гоните? Мы живем в десятой квартире у дяди Герасима Тимофеевича.
Он разом и пыхтеть перестал.
— У Герасима Тимофеевича? У генерала? У депутата?! У лауреата? Вы?!
— Мы.
Встал он, рот нараспашку, язык на плечо. Потом заюлил, затормошился. Голос откуда ни возьмись появился бархатный.
— Так вы его мамаша? Какая приятность для всего дома! Что же вы сразу не сказались? От посторонних мы обязаны охранять! Выполняем долг.
И хребет у него заиграл, и нос-насос полегчал, и улыбка расплылась от уха до уха.
Гляди, какой «изотоп» на глазах образовался!
Слова так и выпевает:
— Что касается саженцев, то ограды не подвезли. Вот запрос на изгороди, вот ответ... — И тычет мне в глаза бумажки. — А район у нас пока неблагополучный в отношении коз: кругом выселки.
А из окошка видно — дом 40а с густой зарослью. Я ему показываю.
— Как же там пышнота выросла?
— Там, так сказать, частный сектор.
— Частный сектор, по-твоему, против коз выстоит, а общественный нет?
Молчит. Пыхтеть опять завелся.
— Договорился, батюшка, дальше некуда. А как же тогда в доме «В», где фонтан?
Еще пуще покраснел, весь натужился — гляди, лопнет с досады.
— Там управдом работает преступными методами! Не по той статье расходует фонды. Связался со спекулянтами.
— Непохоже...
Не захотелось мне с ним дальше разговаривать.
Пособили мы с Васенкой посадить саженцы, и взялась у нас новая забота — охранять и выхаживать. Хоть и три тычка в три листка, а жалко!
С утра коз угоняют на поле, а к вечеру они возвращаются, тут и начинается козья атака!
Сидим с Васенкой в полном вооружении — в руках и палки и хворостины. Дожидаемся натиска.
Вечера ясные.
По соседству цветут сады, люди смеются, бегают домовые спортсмены, а мы вдвоем посередь пустыря под тычками. Ветер пыль гонит. В соседнем саду за купинами его и не слышно. А тут сверху небо, снизу земля, с боков ничего нет, оно и продувает. Саженцы гнет до земли. До того эти саженцы жалостны, что от них пустырь еще злее.
Васенка глядит вокруг и спрашивает тоненьким своим голоском:
— Бабушка! Земля одинакова, небо одинаково, облака одинаковы, почему три двора разные?
— В доме, где удавы, весь сад разделили, и каждый сказал «мое». «Мое» — слово звериное! Этому слову мильон лет! Силу оно набрало великую. Видела, какие цветы они повырастали? По отдельности есть на что поглядеть, а как все вместе охватишь — жить-то по-людски и негде. Так или не так?
Васенка со мной соглашается:
— Так, бабушка.
— Во втором доме «мое» отрубили. Сказали: «наше»! Это слово справедливое, человечье. Тут без души нельзя! Тут надо вместе: и точный расчет, и душевный размах. И большой ум нужен, чтоб определить средь «общего» справедливое место каждому! Люди в том доме живут с умом, и верховодит там душа-человек. К каждому приглядывается: где, мол, в тебе золотое зерно? Зерно по зерну — ворох! Цветок по цветку — сад! Вот и растят сад, где все для человеческой жизни. Или я не так говорю?
Она опять соглашается:
— Так, бабушка.
— А в третьем доме «мое» отрубили, а «нашего» растить не умеют... Ни звериного «мое», ни человечьего «наше». Пустота! От пустоты пустырь и родится! Вот и вырос тут пустырь-пустырище. И дует на нем ветер-ветрище. И летит над ним пыль-пылища...
V
Дворничиха Катерина, убравшись, садилась на скамейку плесть кружева.
Подсела я к ней.
Женщина она немолодая, аккуратная, седая коса на голове венцом. Сама солидная, а руки худые, быстрые. Кружева из-под них так и льются.
Сидим мы с ней, а перед нами три тычка в три листка пригибаются. Тоненькие прутики вздрагивают, прижухлыс листья дрожат мелкой дрожью. Тревожно, потужно, а все живут! Все не гола, заскорузла земля. Еще сад не сад, да уже и пустырь не пустырь.
Катерина шепотом считает петли: «Раз, два, три, четыре, пять...» По двенадцать отсчитывает. Я ее спрашиваю:
— Разрастутся тычки или посохнут?
— Посохнут... — И опять шепчет: — Раз, два, три, четыре... У нас все сохнет.
— Как же все?' Соседний сад под носом! Или ты слепая?
— Бывает людям счастье... — говорит так, будто сад не рядом, а за тридевять чужедальних земель, — у них дворникам и мести нечего — одни газоны... А у нас метешь-метешь... пыль на зубах хрустит. Мне ни в чем счастья нету!
— А ты как счастье понимаешь? Растопырил пальцы — глядь, счастье увязло!.. Разинул рот — а оно и туда!..
— А что я могу? Жильцы прищурившись ходят. А управдом у нас такой — на что ни зинет, то и сгинет!
— Пошла бы да и сказала кому следует про него.
— С работы сгонит да выселит. Где еще я найду в таком доме да такую комнату, как моя?
— Из-за комнаты молчишь?
— Из-за разума. Не только молчу, а еще и нахваливаю его при необходимости!.. Раз, два, три, четыре... — Лицо равнодушное, а пальцы движутся быстро да мелко, и ползет из-под них кружево рыбьей чешуей. — Что ты меня разглядываешь? Одна я, что ли? Я из-за своей комнаты щурюсь да молчу о мелких надворных беспорядках... А бывало, начальники и не на то щурились и не о том молчали из-за чинов да из-за тысяч. Все мы по пояс люди! Все по правде тужим, по кривде живем.
— Не все! — кричу ей. — Не все! Слепы твои очи...
— Значит, не все дошли до ума. Я тоже глупа была. Мужа слушала. Все за правду ратовал. Помер . Раз, два, три, четыре. Сварливы да драчливы веку не доживают... Вздумаю о нем —другу-недругу закажу молчи да щурься. Не тужи по правде, обживайся с кривдой!
Кружевную нанизь не перебивает, равнодушно ведет обыденную беседу.
Вот она, та застарелая корнееда, которой обернулся прошлый обман, которая и Ваню подточила. И в коммунизм с ней не войдешь, и залечишь ее, землю не перекопав, не залечишь...
— Сидишь ты на пустыре, — говорю, — а внутри у тебя того пуще пустырь. Хоть три тычка, в три листка шевелятся?
— Отшевелились... И эти, что во дворе, скоро отшевелятся. И соседнему саду посохнуть не миновать. Наш управдом соседнего донял... Пошел будто для обученья опыта. Выглядел, высмотрел, нашел зацепку. Вон он топает.
Вышел он из-за угла и встал. Стоит, пыхтит — не помрет, так родит. Увидел меня и сразу обернулся «изотопом». Лицо улыбчиво, голова поклончива, руки подносчивы.
— Отдохнуть вышли, Василиса Власьевна?
Катерина говорит ему:
— Поздравить вас не пора ли? Разрастается ваша вотчина — будете принимать соседнее хозяйство?
— Нет, нет, не стремлюсь! Начальство настаивает, а я не хочу! Отказываюсь! Там безобразий много... Документы оформляют незаконно. Рассаду закупили у спекулянтов. Я в это дело вник и разоблачил!
Удалось червяку на веку зелен лист подъесть...
Он поплыл дальше, гордо нос кверху, а Катерина свою чешую нижет:
— Раз, два, три, четыре... Слопает он соседа вместе с его садом. У него наверху рука.
У меня от досады голос дребезжит:
— Летит жук, жужжит: «Убью, убью». Гусак длинношеий от страха затрясся: «Го-го-го, кого?!» Баран рогатый от испуга замекал: «Мм-ме-ме-меня?!» А курочка рябенька подошла да и клюнула. И нету жука!
Катерина подняла глаза, а они на обветренном лице белесые, пустые, как слепые:
— Ты сама-то хоть веришь в этакие чудеса? Или только другим рассказываешь?
— По мне, не верить — жизни лишиться!
— Значит, веришь под страхом смерти? Сама себя приговорила: «Либо верь, либо помирай!»
— Нет, не от смерти вера... От самой жизни!.. Век доживаю — все видела. И неправду, и обиду, и смерть, и войну. И самое великое горе знаю: любимую дочь видела хуже чем мертвой — изувеченной... Через все прошла... А вот оглянусь: еще бы мне десять таких жизней!.. Дорого мне видеть воочию, как добро над худом берет верх! И нет дороже, как способствовать этому «своею собственной»!
— Не бывает этого ничего. Слушать тебя скучно.
— Да как же не бывает? Вот она я. Может, и меня тоже нету?
Губы ужала Катерина, подобрала чешую и уползла, уволокла свою корнееду.
Кликнула я Васену, и отправились мы домой.
Я еще с порога поторопилась сказать:
— Управдома изводят!
Да на том и осеклась: у нас в доме «журнальный день»!
По десятым числам приносят Гере из института новые технические журналы, наши и заграничные, и вся семья зарывается в них по уши — слышать-видеть перестают.
Гера сидит в углу на диване, рассматривает чертежи в журнале, щурит один глаз и шепчет про себя: «Кэ-пэ-дэ... коэффициент... тянущая сила...»
«Гибриды» улеглись на стол животами и жужжат. Ляля помогает им переводить с английского.
Нам с Васенкой тоже охота приютиться в семейном сборище. Топчемся, топчемся — на нас никто не глядит.
Я улучила минуту, когда жужжанье поутихло, и опять говорю:
— Гера! Ты меня слышишь? Управдома изводят.
Он взглянул на меня очумелыми от своих «Кэ-пэ-дэ» зрачками:
— Управдом? Какой управдом? При чем я?
— Так ведь ты депутат! А управдом соседний.
— Соседний не по моему округу...
И опять нос в книгу.
— Может, и коммунизм, — говорю, — не по твоему округу?
Гера меня и не услышал. А Витька укорил:
— Экая ты у нас, бабка, некондиционная! «Коммунизм, коммунизм»! Увела бы внучку в свою комнату да рассказала бы ей: «Жил-был у бабушки серенький козлик...»
Ушли мы с Васеной в свою комнату. Васена спрашивает:
— А почему ты «некондиционная бабка»? А это про какого козлика сказка? Про «моего» козлика или про «нашего»?
— Козлики больше ходят индивидуальные. Овечек, тех обобществляют.
— А почему нельзя, чтоб и козлики были тоже «наши»? — Посмотрела в окно и вздохнула:—Объясняла ты мне про «мое» и про «наше», а я все равно не понимаю. Почему козликов нельзя? И почему все дворы нельзя? Вот три дома одинаковые, земля под ними одинаковая, небо над ними одинаковое, а дворы разные? Разве нельзя, чтобы у нас везде было «наше»?
— Пустырь, — говорю, — сам разрастается, а сад растить надо. Так и «мое» да «наше»! «Мое» само растет, а «наше» надо вкоренять да взращивать. А прежде того почву под него подвести — интерес, справедливую выгоду! Без этого не вкоренишь, сколько ни бейся! Для начала надо к «нашему» примешивать и малость «моего».
— Как его примешивать?
— Видела, ходит по соседству управдом, зерноклев-воробей? В каждом человеке высмотрит золотое зерно да найдет подходящую для того зерна почву! С чего я, квашню побросав, в один миг сорвалась ехать за мебелью? Об тебе думала! Не было б тебя, я б тоже поехала, да была бы во мне та шустрость? Врать не хочу! Небось бы сперва тесто вымесила, пироги б спекла! Зерноклев интерес-выгоду переплетает с душевным интересом! Чуток «моего» подбавляет к «нашему», умно подбавляет, не нарушая справедливости, обдумчиво, постепенно.
— А мне хочется сразу.
— То-то и беда, что не одной тебе этого хочется. Небось тебе хотелось взять скрипку да с первого дня разыгрывать не упражнения, а концерты? А что б тогда было?.. Ни скрипки, ни музыки!.. Кругом пустырь...
...К полночи оторвался Гера от своих журналов, нацелился спать. Пошла я к нему.
— С утра ты уйдешь, а дело насчет управдома неотложное.
Он махнул рукой:
— Узнаю свою старую... Приехала... Я слыхал, он незаконно действовал.
— Разберись, кто слух пустил! Наш управдом заложился за соседним, что собака за зайцем.
— А зачем ему «закладываться»?
— Тьма света не любит, худой хорошего не терпит, бесталанный таланного изводит! У нашего три тычка по три листка, а у соседнего целый сад! Этот сад нашему облыжнику каждый день глаза колет. Как же ему жить без наговора?
Гера устал за день и от «кэ-пэ-дэ» очумел, зевает с присвистом:
— У-ы-ых! Да зачем... — И опять зевает: —У-ы-их!.. Зачем ему наговоры?
— Да ведь если б по соседству такие же тычки, уж как бы ему хорошо! Тогда он не стал бы клепать! Он бы еще эти тычки сдогадался хвалить, что есть силы! Нынче, мол, я соседские тычки возвеличу, а завтра и мои три тычка в три листка войдут в славу!
Ляля подоспела, и пошли мы в два голоса.
Ляля говорит:
— Человека видно по делам. Посмотри на соседний сад.
Я подхватываю:
— Не верь ты чужим речам, верь своим очам! Ведь тебе только в окно глянуть!
Вмешался Герасим, и вскоре всем на радость пришло указание — поставить «зерноклева» управдомом над обоими домами.
Вот оно, и чудо, на пороге, много ли для него и надо? Разумных людей добрую волю да открытый взгляд...
VI
Васенке двух лет не хватало до приемного возраста, но сам профессор обещал просить, чтоб приняли ее в музыкальную школу до срока, как редкий талант.
Уехали мы к себе, а в августе возвращаемся. Подходим к дому.
Пустырь пустырем, тычки и те зачахли... Смотрим на соседний двор — что такое? Клумбы потоптаны, а сирень пообломана. Вместо пышных кустов те же три тычка в три листка.
...Ляля с дочкой гостила у матери, а «гибриды» и Гера пришли домой к вечеру.
Васена сразу к Гере:
— Дядя Гера, как же сад? Где же тот управдом? Ты же обещал!..
Гера глазами хлопает. А мне и говорить с ним горько:
— Склевали зерноклева... Наш «изотоп» по обоим дворам топает.
Гера кается:
— Закрутился... Не проследил... Забыл!
Стала я его укорять:
— Об чем ты забыл?! Может, об самом коммунизме забыл?
«Гибриды» вмешались. Витька говорит:
— Опять ты о коммунизме, некондиционная наша бабка! Были б машины, а коммунизм приложится!
Костька добавляет:
— Родились — «социализм, коммунизм». В детсад пошли — «социализм, коммунизм». В школе и в институте — «социализм, коммунизм».
Витька итог подбил:
— А чего о нем говорить? Обыкновенный социализм! Вот ракетный двигатель — это да!
Что с них, с пересмешников, взять? Я к Гере:
— Ленин ради твоих двигателей положил жизнь?! Да и тебя самого взять. Скажи ты мне: ради чего ты двигатель свой обмозговываешь, параметры гонишь, ночей не спишь?
— Чтоб не обогнали нас поджигатели войны.
— Значит, не двигатель для двигателя тебе нужен! Нужна тебе машина, чтоб обезопасить мир социалистический. А что такое социализм, если сказать попросту? Коренная справедливость! «Мое» неправдой живо, а «наше» держится справедливостью!.. Гляди, под окошками-то пустырь.
— При чем тут пустырь, мать?
— А как раз при ней!.. При справедливости... Если колышутся возле нас три тычка, всегда одна тому причина — забыли о социализме, отступили где-то от главного закона его — от коренной справедливости! Ты глаз на это не прищуривай! Ты ищи, где, в чем отступили?! Рук-ног не щади — поправляй ошибку! Если каждому по труду — так уж по труду. Если от каждого по способности — так уж по всей твоей способности, Гера, без позевоты, без потяготы, ото всей души, а не «исполу»! А ты... «забыл»... Об чем забываешь?!
* * *
К Первому маю принесли мне приглашение на трибуну. Спрашиваю у Геры:
— С чего мне, старухе, такой почет! По сыновьим заслугам или по мужниной памяти?
Гера посмеивается:
— Секрет...
Стою на площади, на трибуне. Краснопогодье. Тополя окинулись первой листвой, люди улыбаются, трубы гремят, и так хорошо вокруг, что любо с два!
Прошли у самой трибуны трубачи. Серебряные трубы солнце дробят, поднимают небо. Из дальней улицы выплывает на грузовиках двухметровая ракета, а на ней космонавт в скафандре. Гера протягивает мне бинокль и говорит:
— Вот он, секрет... Смотри!
Глянула я в бинокль, и ушла земля из-под ног.
Несусь неведомо куда — в то, что давно миновало, или в то, что вовеки не будет?
Граня!.. Да не та, что теперь! Нет! Прежняя. Безбедная. Беспечальная. Девочка, что всех доверчивей выходила навстречу судьбе. Я хватаюсь за перила. «Портрет, думаю, портрет».
А она как повернет голову да как поведет на меня смеющимися живыми глазами с самого синего неба!..
И кивает оттуда, будто говорит: вот, мол, я тут, тут перед тобою, не мучена, не калечена! И нельзя меня ни измучить, ни искалечить. Не подвластная я никакому злодейству.
И ее, и моя, и Тимошина молодость пронеслась близ меня в секунду. Долог миг — короток век. Я зажмурилась. Одной рукой держусь за бинокль, другой — за перила.
Разжала веки, взглянула второй раз — подбородок не Гранин, твердый — Степин. Не Граня! Сын ее Тимоша посредь площади в скафандре на серебряной остроносой ракете.
В первую минуту очертило биноклем на синем небе его голову, да так, что подбородок укрылся за скафандром, а лоб да глаза у Тимоши в точности Гранины.
Опустила бинокль, отираю с лица испарину и слышу, по радио объявляют:
— Колонну юных спортсменов возглавляет пионер Тимоша Бережков!..
Растолковали, что посадили его на ракету не случайно, а за то, что тверже других идет к своей цели — стать космонавтом. И учится на пятерки, и спортивные показатели отличные, и занимается в кружках авиамоделистов и юных астрономов.
Так вот, значит, по кому мне честь! Не по мужу, не по сынам — по внуку!
С четырех лет повадился он у нас лазить на крышу. Мы с Граней топчемся, как две клуши, а он сидит себе, дожидается вечера, желает разглядеть луну с высоты.
Однажды я попросила соседа стянуть его оттуда да отлупила — он покряхтел маленько, говорит как ни в чем не бывало:
— Ты раньше была мамина мама. А сейчас ты только моя бабушка? Или ты все равно и сейчас мамина мама?
— Я тебе, озорнику, и бабушкой не хочу приходиться. А материнская должность безвременная — до конца веку.
— Тогда пусть мама тебя слушается. Ты вели ей, чтоб она не мешала — я все равно буду лазить на крышу.
Посоветовалась Граня с мужем и сделала на крышу лестницу с перилами, с широкими ступенями, а на конце — беседку. Тимошка бежит на крышу, и Граня карабкается. Вечерами всей семьей сидим там, слушаем Гранины рассказы про галактику.
Стал Тимошка подрастать. Граня ему говорит: хочешь быть космонавтом — закаляйся. Шершавые рукавицы купила себе, массирует его после зарядки.
Парнишке десять лет, а он про луну говорит, как я про соседнее Заречье: «По Заречью грузди растут хороши. Так надо бы съездить!»
Все были шутки. А тут вдруг ясно и точно поняла я: сбудется!
Так же твердо, как нынче на ракету, ступит внук мой Тимоша на лунную твердь, пройдет по лунной пыли меж лунными кратерами.
Дожить бы, дожить!
Читала я, что есть теперь врачи-мудрецы, ухитряются отпускать по два века на человека...
Прийти к ним да сказать: «Если внук прилунится на луну, почему бы и бабке не прожить на земле два века?» Убедить бы их: «Не все жизнью дорожат. Бывает, жизнь человеку надокучала, да к смерти не привык, — только потому и живет. И жить-то не живет — только проживает.
А ведь я каждого дня жду, как чуда, и каждому дню, как чуду, радуюсь! Зачем бы мне помирать?»
Подумала так, да и спохватилась.
Род уходит, род приходит, а земля пребывает вовеки, и вовеки пребывают на ней следы человеческие.
Какие следы на земле от моего веку? Где мое право перед людьми на две жизни, где мое право перед ними на два счастья? Где мое право перед людьми, если есть среди них такие, что хоть по капле, да прибавят покоя и счастья для всего человеческого племени?!
А я, нахальная старуха, вздумала на внуке спекулировать: у меня, мол, внук на луну улетает, так давайте мне через внука два века жизни.
Скажи, старая, спасибо, что на трибуне постояла, охватила своим взглядом людскую радость... И хоть на секунду, да повстречалась еще раз и с Граниным минувшим, неомраченным отрочеством, и с будущим мужеством внука моего Тимоши.
В единый миг в потоке увидела и страну и людей.
А страна это такая: один город испепелят — десять поднимутся.
А народ это такой: на руки-ноги его посягни — он крылья вырастит!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







