ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна
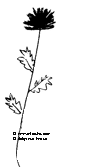


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Инбер Вера 1928

ГЛАВА ПЕРВАЯ
В южном городе, осенью, в год гражданской войны наступили прекрасные дни, когда море неомраченно синело и ветер спал, свернувшись, как якорный канат. Было так тихо, что даже у берега, там, где обычно курчавится мелкий прибой, синяя вода была как бы срезана ножом. В тот год был дынный урожай. Гладкие и змеино-пестрые дыни переполняли город. Ночи были темны и часто вздрагивали от падающих звезд.
Эвакуация белых началась с окраин, началась тихо и буднично: вывозили сено, пишущие машинки, оружие, мебель. Но постепенно эвакуация убыстрялась, она шла к центру, захватывала все новые улицы. Порт был захвачен ею, в порту люди дрались из-за вершка пароходной палубы, пароходные трубы вопили: «Скорей, скоре-ей!», и только море синело безмятежно.
В шорохе опадающих листьев, в блеске падающих звезд, в чистоте и прибранности осенних улиц эвакуация окончательно дозрела. На второй день на приморском бульваре из окон лучшей гостиницы летели желтые, как дыни, чемоданы и с треском лопались на мостовой. Добровольческие юнцы в шинелях английского образца набивали карманы бутербродами и патронами. Добровольческие деньги, деникинские «колокольчики», звенели все тише и тише, едва слышно. Даже те, которым некуда и не от кого было бежать, впадали в сомнение. Вихревые клубы людей и вещей, летящие по направлению к порту, вселяли в сердце неистребимую тревогу. На крышах пустых уже домов ласточки сговаривались об отлете: их эвакуация тоже была близка.
Переулок был уже тих и пуст. Греясь на слабом осеннем солнце, лежала на мостовой собака, на ее белой спине сидела муха. Окна углового дома были открыты, и слышно было, как там играли на гитаре и пели песню:
Эх, зачем, почему
Наша жизнь проходит и тает?
Я бокала не дóпил
И сердце свое не раскрыл.
Ухожу навсегда из родного и милого края,
Где оставлено столько могил.
Дынная корка вылетела из окна на мостовую, муха сорвалась с белой собачьей спины, и голос снова запел: «Эх, зачем, почему...»
Красные были уже совсем близко, уже за лиманом стучал пулемет, тяжелое орудие заявилось где-то со стороны порта. И веселые маленькие пульки защелкали по улицам. В порту отчаянно и прощально заливались пароходные гудки.
В этот самый миг произошла встреча. По улице, прямо на меня, с чемоданом в руке, в тяжелой и нечистой шубе, бежал хорошо знакомый мне человек. В наш город он попал случайно: его принесло сюда с севера, с берегов Невы. Кронштадтские матросы нажали на него, и он бежал, бросив в Петрограде свой письменный стол, свою кафедру, студентов и свои шесть тысяч томов. У нас в городе, на юге, он отдышался от быстрого бега и стал даже потихоньку обрастать книгами и друзьями.
Он любил северные белые ночи, проведенные без сна над сборником стихов, и шабли в цветных бокалах.
Мы были с ним приятелями. С ним хорошо было сидеть поздно вечером за вином или без и слушать его. Он любил и умел рассказывать о том, как в период упадка молодые и старые римские адвокаты любили стихи. Они собирались без женщин. Венчая друг друга розами, они обнажали и смаковали какую-нибудь юную, только сегодня написанную строфу. На другой день, вялые и шальные, они проигрывали дела и вскоре проиграли империю.
Теперь этот «римлянин» налетел на меня внезапно, как налетает на человека тоска или болезнь.
— Вы? — сказал он, приостанавливаясь на минуту. — Ах, это вы! А где ваш... этот самый? Одним словом, где?
— Что именно, Игорь Евгеньевич?
— Я хочу сказать — чемодан. Словом, вещи. Они уже там? — Он подбородком указал на море и вытер потный лоб рукавом шубы.
— Нет, они там. — И я тем же способом указала на город.
В это время пулька щелкнула где-то рядом.
— Сумасшедшая женщина! — взвизгнул человек с чемоданом. — Через два часа город будет взят. — Он нагнулся к моему уху: — Французский консул, мой друг, берет меня на свой миноносец. Судно стоит за брекватером.
— Желаю вам счастья, Игорь Евгеньевич. Жаль, что я ничего больше не услышу о римских адвокатах, которые проиграли империю.
— Империя погибла, — возразил он и взмахнул чемоданом. — Варвары наступают. Прощайте. — И он исчез.
Он исчез. А я осталась.
Хотя я нашла в себе мужество упомянуть о римских адвокатах, но мысли мои были далеки от них. Мысли мои были здесь, в России, в родной стране, которая теперь перекраивалась наново. Пожалуй, еще и сейчас, в эту самую минуту, ухватившись за полу тяжелой и пыльной шубы, можно было очутиться на миноносце французского консула, который ждал за брекватером. Осенние синие волны понесли бы меня в ту сторону, куда ночью уводит лунная дорога: в Константинополь, Стамбул!.. Я там была, там хорошо забывать. Там, над Босфором и еще дальше, в деревнях, есть над самой водой старые турецкие дома, сухие и пахучие, как скрипка. Там можно будет жить, ничего не делая, бродя и мечтая, если кто-нибудь согласится финансировать эти лунные ночи и мечтательные прогулки.
В Париже можно будет жить и работать. Можно будет шить белье или продавать шляпы. «Мадам, — скажу я, — если что-нибудь создано друг для друга, так это шляпа, которую вы держите, и вы сами». — «Моя милая, — ответит мне мадам, — кто научил вас говорить такие приятные вещи?» — «Мадам, — скажу я снова, — у себя на родине я не предполагала, что мне придется стоять у прилавка. Я читала, разъезжала по свету, беседовала с друзьями — словом, вела приятную и легкую жизнь. Естественно, что я накопила много приятных и легких слов». Впрочем, конечно, вздор. В Париже дамы, покупающие шляпы, не разговаривают с продавщицами о жизни. Вообще я боюсь, что буду не на месте в шляпном магазине. Тогда остается белье.
Я умею шить и вязать. Перед тем как родилась Киска, моя дочь, я сшила ей чепчик и связала фуфаечку. Не моя вина, если все это потом на нее не налезло. Я предполагала, что родится маленький хрупкий мальчик, а вместо него получилась огромная толстая девчонка, которая плакала басом и так сосала кормилицу, что та попросила прибавки.
Но дело было в том, что я не хотела продавать шляпы и шить белье. Я хотела остаться здесь, где я есть.
Случилось так, что как раз в самую сложную, ответственную минуту моей жизни я осталась одна. Со мной, правда, были Киска и Юлия Мартыновна — Кискина бонна, но мужчин не было, а они необходимы, потому что внушают нам, женщинам, чувство соревнования. Соревнуясь же, мы становимся решительнее и умнее.
Положение было серьезно и не располагало к улыбкам. И все же уехать я не могла. Не могла и не хотела.
Вечером того же дня кончилось веселое, нарядное бабье лето и началась нешуточная осень. Красные заняли город. Войдя в него, они как бы принесли с собой нерастраченные заряды дождей, гул осеннего моря.
Вечером, занавесив окна спальни, чтобы не бояться ночи, я высыпала себе на колени все свои богатства. Я опорожнила все свои сумки, ящики и кошельки.
Сделав это, я задрожала при виде стольких ничтожностей.
У меня на коленях лежали главным образом старинные пустяки. Панцирные браслетные змееныши, кусающие собственный хвост, брошь из синей эмали, наполненная воздухом, как пирожное. Плоские квадратные и раскосые часы на черной ленточке. Впоследствии часы эти я тщетно старалась выменять на маринованное сало. Баба, привезшая сало, сидела на возу, как башня. Она была окутана тремя великолепными пледами, на ногах ее лежала лисья шуба. Не сгибая головы, баба глядела вниз, на колеса, где стояла я с часами в руках, и говорила:
— Да хиба ж цэ часы? Да чого ж воны скосоротились? Ни!
Так и не взяла баба часов, убоявшись их необычайности. Вся эта раскосая чепуха — это все, что у меня было. Как все это оказалось легкомысленно и ничтожно!.. Где были серьезные, подлинные драгоценности: брильянтовые звезды в атласе футляров, изумрудные стрекозы, рубиновые мухи, круглые жемчужины? Где были кольца с одним огромным камнем, освещающим всю руку? Ничего этого не было. Одно лишь было: кольцо опасности за окном, в огнях прожекторов и сигнальных ракет. Оно было близко и могло сдавить меня в любую минуту.
Киска крепко спала, положив себе под щеку плюшевого зайца. Зайца звали Джерри. Джерри был старый, матерый русак, затравленный Кискиными ласками. Одно ухо у него было надорвано и висело; другое, чрезмерно укороченное починкой, торчало кверху. Питался он преимущественно паклей из дивана и шоколадом.
Вблизи Киски, разложив перед собой цветные клубки, Юлия Мартыновна на деревянном грибе штопала чулок. Ее светлые латышские волосы были оттянуты назад. Ее изумительная штопка, за которую в свое время она получила на состязании штопальщиц в Риге первую премию, была в эту тревожную ночь изумительна, как всегда.
— Юлия Мартыновна, — сказала я, перебирая ее клубки, — должна вам сказать, что я сейчас бедна и одинока, как вот этот наперсток. Я ценю вас очень, Юлия Мартыновна; вы прекрасно смотрели за Киской, а однажды, помните, когда она проглотила пуговицу, вы даже спасли ей жизнь. Но платить вам мне теперь нечем. И поэтому мы должны расстаться.
Говоря так, я лукавила. Мне казалось невозможным, чтобы Юлия Мартыновна оставила меня. Меня, которая дарила ей шевиотовые платья и так охотно слушала ее рассказы о кузене в Риге: обещав жениться на ней, он изменил своему слову, открыл колбасную фабрику и влюбился в аристократку.
Выслушав меня, Юлия Мартыновна несколько минут молчала. Она взяла второй чулок, она вдернула новую нитку. Киска засмеялась во сне; осенняя ночь, пролетая над домом, дохнула ветром; я ждала, затаив дыхание. Юлия Мартыновна ответила мне:
— Я у вас очень хорошо жила. Я буду у вас дальше жить, если вы мне дадите в этот месяц пикейное одеяло и два полотенца. А в следующий месяц — фибровый чемодан, а еще дальше я вам буду говорить, что мне нужно.
Ее ответ был для меня первым из той серии уроков, которые мне надлежало получить. Должна сказать, что в те тяжелые годы, которые мы провели вместе, Юлия Мартыновна была мне опорой и защитой. И в тот день, когда она под выстрелами принесла для больной Киски кувшинчик молока, я подумала, что пикейное одеяло и фибровый чемодан, пожалуй, уж не такая дорогая плата за ее услуги.
Все было необычно в тот год на юге. В конце осени, когда полагалось лить докучным, но, в сущности, не злым дождям, внезапно, при страшной синеве неба без единого облака, без намека на жалость, при режущем ветре начались двадцатиградусные морозы. Море цвета бешеного аметиста, все в пенных сугробах, рвущее и ревущее, обрушилось на мол и пыталось сокрушить маяк. И тогда население города, ужаленное холодом, заметалось по улицам в поисках труб.
Топлива ни у кого не было, центральное отопление умерло, радиаторы были смертно холодны. Даже голландские и чугунные печи не шли в счет: они были слишком прожорливы. На смену им всем появились «буржуйки» — неприхотливые железные создания с тонкими ногами, прямоугольным туловищем и длинной шеей: такими Киска рисовала лошадей.
В первый же морозный день по городу замелькали эти печи. Их несли на плечах, везли на извозчиках, на тачках и колясочках. Их покупали на последние деньги, выменивали на вещи, на хлеб. Лавчонки жестянщиков были мгновенно наводнены синими от холода людьми, жаждущими труб. Трубы продавались на аршин; колена и вьюшки шли отдельно. Самой убогой печке, как и человеку, полагалось два колена. Для колен требовалось время, для вьюшек — тоже, для труб — тоже.
Мы с Юлией Мартыновной, как и все, пошли к жестянщику, стали там в очередь, плакали перед седобородым важным евреем. Он нахмурил седую бровь, назначил срок и цену. Мы просили уменьшить и то и другое — он не согласился. Это был его день, и он был прав.
Принеся домой на руках холодную и острую печку и гремящие трубы, мы начали устраиваться на зимовку. Наш дом находился в приморской части города, там, где начинались дачи. В тот год дом этот, с его застрявшим лифтом, погасшим электричеством, мертвым отоплением и безводными кранами, был страшен и жалок.
Нижний этаж был занят складом цветов и семян. Там в низких ящиках обычно росла веселая зелень, в шкафах лежали семена, на шкафах располагались гипсовые модели корнеплодов: морковь, свекла, репа и тыква. Все такое большое, новое и яркое, как в детских снах. В плоских ящиках спали будущие клумбы, газоны и огороды.
Четырнадцать смен правительств доконали всю эту растительность в самом зародыше: низ дома пустовал. Равным образом пустовали остальные этажи. И только на одном из них, бежав из больших северных комнат в маленькую южную детскую, жили мы трое. Но, конечно, трех наших слабых дыханий не хватало, чтобы наполнить хотя бы подобием жизни столько стекла и железобетона.
Море было рядом. По ночам оно вело себя как пятнадцатое, самое мощное правительство, идущее на город, с тем чтобы поглотить его.
Ветер просторов и безлюдий тряс наши окна. Масляная коптилка в одну двадцатую свечи содрогалась от этих ударов.
Воду приходилось носить из других, более низких частей города. Там, в чужих дворах, в чужих подвалах, в темноте, у крана выстраивалась очередь: ведро наполнялось десять минут. Порой кто-нибудь зажигал спичку, чтобы проверить уровень воды. Но это бывало редко: спички продавались поштучно, и каждая стоила дорого.
Нашу «буржуйку» мы питали прекрасно: преимущественно классиками и дубовым буфетом. Мы начали с Шекспира в издании Брокгауза и Ефрона. Издание это роскошно и чрезвычайно продуктивно в смысле топлива. Мы начали с него. Творения великого англичанина, как им и подобало, наполнились жаром и блеском страстей, пеплом раскаянья и пурпуром преступлений. Леди Макбет вставала в пламени, король Лир рыдал в трубе. Горящий кусок буфета бушевал, как мавр в огненном плаще, покуда над ним жарилась постная лепешка.
В одну из таких ночей, когда неосвещенный и замерзший город был так тих, что в темноте, казалось, можно было споткнуться о него, наша дверь задрожала от ударов.
— Откройте, — сказал мужской звучный голос. — Обыск.
К нам в комнату вошли трое в шинелях и один в драной шубе, подпоясанной ремнем. Один встал у двери, другой, весь распухший, сел у стола, поигрывая ручной гранатой. Двое искали.
— Нам известно,— сказал человек с красивым голосом, — что у вас скрыта валюта: брильянты, пшено и прочие драгоценности. Так вот...
— А не то — к чертовой матери! — хрипло произнес сидящий с гранатой. — Революция не имеет пощады.
Тут проснулась Киска и заревела.
— Это мое, — сказала она, ухватив Джерри за больное ухо.— Это мое, потому что это заяц.
Все беспокойно зашевелились, а главный из них внезапно погрубел.
— Ну-ка, пусть девчонка помолчит, — сказал он. — Не то гарантирую неприятности.
— Обезвредить сволочей, — дрожа в ознобе, подтвердил человек с гранатой.
В эту минуту мне стало по-настоящему страшно: я поняла, что человек с гранатой болен и пьян.
Они ушли, унося с собой многое из того, на что мы собирались жить несколько месяцев. Наутро мы узнали, что поблизости были ограблены не мы одни. Бандитская четверка, которая грабила, была вскоре поймана, и главарь их расстрелян. Я подозреваю, что это был тот, который гарантировал нам неприятности.
Через несколько дней, когда уж выпал снег, к нам пришли два матроса с целью реквизировать квартиру для Отряда особого назначения. Один из матросов, в черном бушлате, был аккуратен и чист до блеска. На его фуражке, на муаровой ленте — грозная, хорошо всем известная надпись «Алмаз» сияла неомраченным золотом, как на детской шапочке слово «Шалун» или «Мамин любимец».
Матрос с «Алмаза» был совершенно спокоен, только на щеках у него ходили желваки, а ярко-синие глаза были безмятежны, как спирт в барометре, когда тот показывает бурю.
Мы прошли по оледенелым и покинутым комнатам, прошли гостиную, где увидели толстые, мохнатые от мороза стекла, кучу мерзлого картофеля под роялем и самый рояль в радугах стужи. В кабинете книжный шкаф был раскрыт, и полка Шекспира зияла пустотой.
Матрос с «Алмаза» сразу понял, в чем дело.
— Книги жгете, — сказал он. — Жгете книги. Расхищаете народное достояние. Это вы которого же писателя пожгли?
— Шекспира, — ответила я. — Вильяма. Жил в шестнадцатом веке.
— Такого не слыхал. — Он наклонил голову, читая сбоку корешки книг.— Александра Пушкина не жечь. Николая Гоголя не жечь. Михаила Лермонтова не жечь тоже. Понятно? — спросил он, поворачиваясь ко мне широкой суконной спиной.
— Понятно, — ответила я.
Детскую, где мы обитали, он прошел из двери в дверь, как сквозняк, прошел, не вынимая рук из карманов, не останавливаясь и не спуская глаз, устремленных как бы на далекий горизонт. Оттого что он не глядел себе под ноги, он, проходя, разрушил строение из Кискиных кубиков. Но тайны женского сердца поистине глубоки. Вместо того чтобы рассердиться, Киска улыбнулась. Ее тонкие бровки поползли кверху, на щеках запорхали ямочки.
Она сказала:
— Ты самый симпатичный из налетчиков.
От ее слов кровь зажужжала у меня в ушах. Но матрос с «Алмаза» даже не взглянул на нее.
Квартира не подошла для Особого назначения. Перед тем как уйти, матрос чернильным карандашом на измятой бумаге написал приказ о том, чтобы Пушкина не жечь, Гоголя и Лермонтова тоже. Рояль же, стоявший в холоде, «негодном для роялей», укрыть одеялом или ковром. Дальше было сказано, что рояль есть народное достояние и что за каждую лопнувшую струну я отвечаю перед республикой, равно как и за все свое имущество.
Приказ был написан мучительно квадратными буквами, печать была поставлена тут же. Печать была вынута из матросского клеша и оставила на бумаге волнистый след — вернее, ее вовсе не было. И все же в приказе была сила, которой нельзя было не повиноваться.
Однако в скором времени я отчасти расхитила народное достояние, за которое отвечала перед республикой: я тайком продала три суконных портьеры, чтобы купить макухи и мыла.
Покупателя нашла Юлия Мартыновна. Это был синеватый брюнет, настроенный конспиративно. О деле он говорил обиняком, обшаривая глазами стены.
— Какие дивные погоды, — начал он, — просто отдыхаешь душой! Покупаю ковры и меха за наличные. Какая замечательная девчурочка! Девочка, подойди сюда. Желательна швейная машина, если есть запасные шпульки. Вид у вас из окна безграничный. Покупаю краны, звонки и паркет на корню. Вид божественный.
Он вывез портьеры в детской колясочке, свернув ткань наподобие детского туловища. Занавески были спущены, а ножки прикрыты цветным одеяльцем, чтобы не простудить дитятю.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Почти у самого бульвара дома расступились плавным полукругом, давая место площади, посвященной Екатерине II. Перед императрицей в пролете зданий синел и зеленел лучший кусок порта, где бросали якорь лучшие корабли. Над ней синел и зеленел лучший в городе кусок неба, куда, как в гавань, заплывали на закате облака. Что касается земли, то на ней, по краям площади, было много греческих лавок, — каждая из них пахла фруктами, орехами, вином и морем, словно лодка контрабандиста.
Екатерина была поднята на цоколь из красного гранита. На ней были все ее ленты и ордена. Шлейф, бесконечный, как ее империя, падал пудовыми складками. Пухлой и властной рукой она указывала на город, на степную и морскую Новороссию, распростертую во все концы. Окружив Екатерину чугунным кольцом, стояли Потемкин, Орлов, Суворов и другие.
На этот цоколь, на этот темно-красный монолит было решено поставить бюст Карла Маркса. Торжество открытия памятника состоялось в зимний день, когда туман клочьями носился по городу и за углом площади разрушался дом, из которого были вынуты все деревянные части для топки.
Памятник был закрыт парусиной. Наконец холодные трубы и валторны заиграли «Интернационал», и мы, стоящие внизу, увидали памятник. Он состоял из одной головы, как богатырь, с которым сразился Руслан. Не было ни плеч, ни шеи. Каменная волна волос сливалась с бородой, плоскости щек были квадратны, потому что скульптор был кубист.
То время вообще было богато памятниками. Во всех городах страны появлялись тогда самые разные сооружения — то непомерно большие, то, наоборот, непонятно мелкие. Иногда это была голова на высоте, и даже не голова, а одна только едва оформившаяся мысль. Иногда невнятное скопление смутных фигур, стоящих почти на земле и обнесенных деревянной оградой. Приехав в Москву в двадцать втором году, я застала еще у Арбатских ворот стену, на которой были начертаны охрой всемирно известные имена. Имена бунтовщиков, ораторов, ученых, воинов и актеров. Рядом с Сен-Жюстом была Дузе и рядом с Тимирязевым — Мирабо. Все было смешано, как в минуту сильного душевного напряжения.
После труб и валторн на открытии памятника заговорили люди. На возвышении встал знакомый мне матрос с «Алмаза». Его куртка была расстегнута, и ветер обдувал его шею. Обращаясь к стоящим внизу и указывая рукой на город, он произнес речь. Я хорошо запомнила ее, потому что стояла близко и слова летели надо мной.
— Товарищи, которые внизу! — сказал матрос. — Мы свергли царя. Это не факт, это на самом деле было. Но мы пойдем дальше, потому что маятник двенадцатого часа подпирает уже под самое горло мирового империализма. Товарищи, вас будут инзить пули, но вы не обращайте на это внимания. Товарищи, которые внизу, мы знаем...
В этом месте его речи за углом тяжело обрушился кусок дома, как бы ставя точку. Это была новая орфография эпохи, где были свои знаки препинания и свои законы. Город был переписан наново, как декрет, где все ненужное вычеркнуто.
Были вычеркнуты многие жизни, как, например, жизнь «мистера Пирибингля». Таково было прозвище этого человека, данное ему друзьями.
Мистер Пирибингль был журналист и москвич. На юг его занесло случайно, как Игоря Евгеньевича, как многих других, но почему-то осенью он не уехал вместе со всеми. Он остался и скрылся много позже, ранней весной, когда сады уже запушились сиреневым пухом и мы перестали рубить мебель на дрова. Тогда мистер Пирибингль нырнул в весенний туман, задернул его за собой и вынырнул по ту сторону границы, на румынском берегу, откуда перебрался в Париж.
Незадолго до его отъезда мы пошли с ним за город, на прогулку. Мы пришли на кладбище, где гробы отдавались напрокат от жилища покойника до могилы: в нашем степном краю лес был слишком дорог, чтобы зарывать его в землю.
Мистер Пирибингль и я, мы обошли кладбища — еврейское и русское. На еврейском мы заглянули в склеп знаменитого цадика: там, за решеткой, были каменные скрижали, мерзость запустения, грязный мрамор. Тополь, росший до революции у склепа, был срублен. Все деревья обоих кладбищ были срублены, потому что красота не так нужна мертвым, как тепло живым. Памятники были расхищены, все было голо и безрадостно, как сама смерть.
В одной из боковых аллей мы застали конец погребения. Здесь не было ни священника, ни раввина: красное коленкоровое знамя профсоюза «Игла» лежало на черной бархатной земле. Извлеченная из глубины, земля эта была полна соков и богатств: нищета поверхности не коснулась ее. Мы услышали конец надгробного слова:
— Он жил и работал, — было сказано о покойном.
Мы сели отдохнуть на кроткую христианскую могилку какой-то Аси, с хилым крестиком, на который не польстился ни один вор. Мы были очень задумчивы.
— «Жил и работал», — повторил мой спутник только что услышанные слова. — Это напоминает мне эпитафию на могиле одной античной танцовщицы: «Плясала и нравилась». Больше мы ничего о ней не знаем. Какая краткость! Это кратко, как сама жизнь.
Мы помолчали.
— Необходимо как можно скорее уехать отсюда, — начал снова мистер Пирибингль. — Я не виноват, что эпоха сломалась именно на моем поколении, которое от этого кровоточит. Я не хочу быть раной.
— Лучше быть раной, чем опухолью, — возразила я.
Потом мы снова надолго замолчали, следя за тем, как скворцы, прилетевшие из теплых стран, ищут деревья и не находят. Вскоре после этого мистер Пирибингль нырнул в туман; он предпочел быть опухолью.
Все это было весной, но зимой он, казалось, вовсе не помышлял об отъезде. Он жил, как и все, и даже служил: он заведовал яичным подотделом в учреждении, ведающем питанием. Белые и кремовые яйца хохлатых украинских кур омрачили жизнь мистера Пирибингля неслыханными заботами. Отдавая яйцам столько времени и сил, он перекроил на птичий лад свое мышление. Это стало совершенно очевидным в тот день, когда, разбив часы, он сказал:
— Часы разбились, и время вытекло из них, как желток из яйца.
Положительно, он стал смотреть на мир с точки зрения курицы.
Так жил он. А мы... мы жили сурово. Мы плохо ели, мы пили чай с сахарином, который противоестествен тем, что нейтрален. Он не вреден и не полезен: он — ничто. В жизни так нельзя.
Мы пили чай с сахарином, но Киске нужен был сахар. Она росла, и ей, этому комочку нежности, нужны были масло, молоко, сахар. Юлия Мартыновна, в сапогах и тулупе, как золотоискатель, приносила с рынка маленький тяжелый сырой мешочек рыжего сахара, драгоценного, как золотой песок.
Юлия Мартыновна и я — мы вели суровую жизнь! Мы кололи лед, кипятили снег, чинили трубы, лечили Киску от желтухи.
Я не знаю почему, но однажды ночью у нас пошла вода. Мы долго лежали в темноте, слушая, как в смежной ванной комнате нежно, словно неопытный соловей, защебетал маленький кран над раковиной, потом влажным широким горлом зарокотали большие краны. Как, наконец, захлебываясь и клокоча, вырвалась на волю мелодия воды. И тогда мы крикнули: «Вода!» — голосом Колумбова матроса, увидевшего землю.
Я пришла к мистеру Пирибинглю в его яичные владения просить о службе.
Служба была нужна мне не только потому, что таяли запасы, не только потому, что жизнь, не защищенная удостоверениями и пайками, становилась чрезмерно сложной, но, главное, потому, что меня трепало и било ветром событий, меня сносило водой: мне нужен был хоть какой-нибудь якорек, чтобы удержаться в новом мире.
Яичный подотдел помещался на бульваре, в одной из комнат особняка, обшитой дубом. Затоптанный бобрик цвета петушиных гребней устилал пол, и с потолка свисала венецианская люстра.
Мистер Пирибингль сидел в драном кресле, крытом парчой. Черные резные амуры резвились на высокой спинке кресла и поддерживали тяжелые ручки. Такой же стол, черный, с амурами и крыльями, утопал в красных и зеленых квитанциях. Сбоку, на футляре от ундервуда, лежало продолговатое голубое, явно утиное, яйцо.
Комната была нетоплена, и мистер Пирибингль, в пальто и шапке, разглядывал человека, стоявшего перед столом, и слушал его объяснения. Человек объяснял:
— Я, товарищи, не возражаю: реквизируйте. Но курица — птица нервная. Она впечатлительная, имейте в виду, и несется только при полном душевном спокойствии. Обращаю ваше внимание.
— Что же вы предлагаете? — спросил мистер Пирибингль, барабаня пальцами по голове резного амура.
Человек ничего не предложил.
— Послушайте, — сказала я, выждав, когда человек ушел, — у меня к вам дело. — И в амбразуре квадратного окна, за яичными ящиками, я попросила его о службе. — Вы занимаете ответственный пост, — сказала я. — У вас связи. Вы можете мне помочь.
— Бедный цыпленок! — произнес мистер Пирибингль с административной нежностью. — Не бойтесь, я возьму нас под свое крыло.
Учреждение, где мне надлежало служить, не могло похвастаться ни венецианскими люстрами, ни амурами. Это была длинная желтая и голая комната. Письменные столы шли вдоль стен.
Главой учреждения был бледный и упорный человек. Взамен правой руки у него был пустой рукав, засунутый в карман. Это был товарищ Шуляк, мое начальство. За недолгий срок моего пребывания здесь я хорошо изучила его. Я видела его в трудные минуты, когда не слаженное еще и громоздкое учреждение стонало и скрипело на ходу. В руках товарища Шуляка, вернее, в его единственной руке, было сосредоточено снабжение продовольствием общественных столовых. Он распределял нещедрые запасы муки, гороха, сала и ячневой крупы, бывшей на юге тем, чем было пшено на севере.
Товарищ Шуляк распределял все эти пайки, эти скудные рационы голодной зимы, когда досыта не ели даже те, кто сражался. Товарищ Шуляк и в тылу был тем же командиром бригады, каким был на фронте, пока не потерял руку. У него и здесь бывали страшные минуты, когда тыл был прорван, как и фронт, когда даже для самых жидких похлебок не хватало припасов и число больных различными тифами грозно увеличивалось.
Тифы были разнообразны, и один из них, возвратный, в некоторых случаях возвращался до четырех раз, словно неотвязный кредитор. Очень часто вместе с четвертым разом приходила смерть.
Тогда товарищ Шуляк, начальник Шуляк, командир Шуляк развертывал свои резервы: бомбардировал город тяжелыми ядрами капусты, осыпал его картофельной картечью, слал на врага соленые синие лезвия сельдей, спрессованные для боя, и часто побеждал.
При всем том товарищ Шуляк всегда был очень спокоен и внимателен ко всем. Он потерял спокойствие только раз, когда узнал, что, по недосмотру заведующего складом, крысы съели два пуда мороженого сала и мешок кукурузной муки. Заведующий складом был вызван товарищем Шуляком в отдельную комнату. Их беседа была тиха, ни единого звука не доносилось из-за закрытой двери. И все же всем стало смутно и грозно, как будто рядом судил военный трибунал.
В длинной желтой комнате на мою долю выпал крытый клеенкой письменный стол. На мне лежала обязанность регистрировать наименования и количество продуктов, отпускаемых общественным столовым. Мой день начинался так: мне приносили требования и расписки, нанизанные на железный прут. Я снимала их осторожно, я погружалась в зыбучие пески ячневой крупы, я вписывала все это в узкие книги. Бумага была дорога, каждая страница драгоценна; каждая описка была преступлением.
Я старалась быть безошибочной и точной, но ошибки возникали снова и снова. Бумага была дорога, каждая страница драгоценна; я была преступницей.
Моим начальством был товарищ Шуляк, но он был далеко: нас разделяло несколько столов и одна дверь. Рядом же со мной, моим прямым руководителем и соседом был бывший бухгалтер. Он видел все мои промахи, которые были велики; мои ничтожные достижения ускользали от него. Он не понимал, как можно иметь почерк такой, как мой, — я тоже не понимала этого.
В один особенно злосчастный день бывший бухгалтер, поглядев на мою страницу, испещренную помарками, ничего не сказал, но тихонько замурлыкал в свои бурые усы: «Сердце мое, моя плутовка», что служило у него признаком сосредоточенной и хорошо отстоявшейся ярости. Товарищ Шуляк был далеко и, казалось, ничего не видел. Но, проходя, он попросил меня остаться после работы на два слова.
Двух слов товарища Шуляка я стала ждать с тревогой в сердце. Кроме того, как раз в тот день я спешила. В одном из ящиков моего стола лежал сверток, чья судьба волновала меня. По поводу этого свертка у меня было назначено деловое свидание: час свиданья был уже близок, а товарищ Шуляк велел мне остаться.
У меня дома, среди моих вещей, был будильник, как бы созданный для того, чтобы отмечать одни только приятные минуты жизни. Фарфоровые незабудки заплели его со всех сторон, и циферблат выглядывал из вороха цветов. Своими незабудками будильник как бы просил «не забывать». В семнадцать лет эта нехитрая символика восхищала меня; теперь она казалась мне трогательной.
Мне не хотелось продавать эту игрушку, которая жила у меня так долго. Но мистер Герст, любитель и коллекционер будильников, давал за него килограмм сала и банку какао. Будильник лежал у меня в ящике, я спешила к мистеру Герсту, но товарищ Шуляк вклинился и помешал.
Когда все ушли и табачный дым рабочего дня начал постепенно рассеиваться и оседать, товарищ Шуляк приступил к разговору. Комната была пуста, скудное электричество, питаемое неполным током, горело слабо и желто. За окном раскачивались деревья, и невеселая морская оттепель растекалась грязными слезами.
— Товарищ, — сказал мпе товарищ Шуляк что называется в лоб, — вы, стало быть, не годитесь для вашей работы. Вы видите это сами.
— Вижу, — отвечала я.
— Вы не на месте, ясно. Но что же дальше?
— Дальше — ничего, — ответила я.
— Врете, — сказал товарищ Шуляк. — Такого, чтобы ничего, не бывает. Всегда должно быть что-нибудь. Не может этого быть. Вы учились, я так полагаю. Мозги у вас есть. Вы не имеете права,— повысил он внезапно голос и ударил карандашом о крышку чернильницы.— Вы что же, разве из тех, что продают вещи, чтобы не умереть с голоду, и потихоньку ждут возврата старого? Я вас не так понимал, простите. Вы учились. Где ваши знания? В какой области? Подавайте их сюда. Мы учли, стало быть, все возможности страны, склады исследовали, а сюда (он коснулся карандашом моего лба), сюда не влезли. Что у вас там жужжит? Может, нужное нам. Что же вы молчите? Думаете о чем?
Наступила пауза.
Я молчала. Я думала совсем о другом. Меня гвоздила мысль о будильнике. Она пришла незаметно. Слушая товарища Шуляка, я думала:
«А вдруг будильник зазвонит? Что же это будет? А вдруг он зазвонит? А вдруг он заведен? Крутили мы его с Киской».
И эта мысль о заведенном будильнике, мелькнувшая сначала легко и сжато, расширилась, раздулась, заполнила всю голову.
«Если он зазвонит, — думала я, — я должна буду объяснить, в чем тут дело. А я не хочу, чтобы он знал, что я продаю будильники. А я не хочу думать о том, что он подумает, когда узнает, что я продаю будильники».
Эта мысль сидела во мне и мучила, а в это самое время товарищ Шуляк говорил нечто важное для меня. Я должна была ответить, а была занята вздором.
— На что вы годны? — настойчиво допрашивал он.
Я должна была ответить ему, а может быть, и самой себе, на что я годна, но вместо этого думала о будильнике: «А что, если он позвонит?»
И он позвонил. Раздался твердый, резкий, уверенный звон. Он шел из ящика моего стола. Пустота сумерек наполнилась этим звоном.
— Что это? — спросил товарищ Шуляк и встал.
Я вынула из ящика сверток и развернула бумагу. Фарфоровые незабудки зашевелились, как живые. Товарищ Шуляк молчал. Быть может, он окончательно убедился, что я годна только на то, чтобы делать ошибки в записях и продавать будильники, заведенные неизвестно зачем.
— Дождь, — внезапно сказал товарищ Шуляк, глядя в окно. — Так и льет. А ведь зима.
— Один раз в Швейцарии, — ответила я, — был такой град, что...
Мы вышли из комнаты.
В передней, на скамье под вешалкой, понуро сидел мой давнишний друг Авель Евсеевич с большим черным зонтиком.
— Я принес вам зонтик и калоши, — сказал он. — Не то насморк, например...
Увидя выражение моего лица, которое он так хорошо изучил, увидя товарища Шуляка с пустым рукавом вместо руки, Авель Евсеевич дрогнул и сказал, прижимая калоши к сердцу:
— Не следует относиться к насморку легкомысленно. Им страдали все народы во все века. Древние арабы звали его «ветер в ноздрях» и лечили бирюзой, истолченной в новолуние. В данное время японские врачи приготовляют...
— Прощайте, — сказал товарищ Шуляк. — Я тороплюсь. — И он вышел первым, не дослушав о японских врачах.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
У Авеля Евсеевича в лаборатории при университете царили чистота и тишина, не смущаемые никакими бурями. Сильнейшие раскаты грома отдавались здесь легким дрожанием реторт. Синие язычки спиртового пламени покорно лизали медные и никелевые сосудики. На отдельном неподвижном столе расцветала главная достопримечательность этого места: розовое, как лепесток, заячье ухо. Отрезанное от живого зайца, оно питалось физиологическим раствором. Раствор вводился в него особой иголкой, проходил по ушным капиллярам, пульсировал тончайшим серебром, трепетал и дрожал, после чего вытекал через стеклянную трубочку в стаканчик. Если же вместо раствора солей попытаться ввести какую-либо ядовитую жидкость, то ушные сосуды сжимались и не пропускали ee. Заячье ухо и в отрезанном виде желало жить.
Здесь, в тишине и точности, существовал Авель Евсеевич. Его медленные руки с необычайной осторожностью двигались среди всего этого стеклянного хозяйства. Здесь были маленькие весы такой чуткости, что они отмечали легчайшую щепотку соли и, вероятно, могли определить удельный вес любой слезы.
Моя неудача со службой, мой прощальный разговор с товарищем Шуляком всей своей тяжестью обрушились на весы Авеля Евсеевича. Все затуманилось и заколебалось в его лаборатории.
И хотя я хорошо знала, что калоши и зонтик были только дополнением к основному несчастью, это не спасало положения. Виноват всегда тот, кто сильно любит, и в данном случае Авель Евсеевич был несомненно преступник.
Авель Евсеевич был вдвойне беззащитен: с женщиной он обращался, как с молекулой, — математически нежно.
Любя и понимая самые различные дисциплины, их солнечную незыблемость и звездную стройность, Авель Евсеевич не любил и даже боялся музыки. Теплое гудящее чрево виолончели и прохладное, лебединое горло флейты были равно враждебны ему. Музыкальная фраза распадалась для него, как щетка, на ряд отдельных шумов: лучше всего была пауза. Авель Евсеевич считал музыку одним из наименее удачных опытов человечества, и все же мы познакомились на симфоническом концерте, единственном в его жизни. Во время Гайдна Авель Евсеевич развлекался тем, что разглядывал в бинокль мою ладонь. Впоследствии он не раз говорил:
— Гайдн — это множество линий, как на спектральном анализе.
Грустнее всего терять то, чего не имеешь. Будучи взята на испытание, службы по-настоящему я не имела. И службу я потеряла. Видя мою грусть, Киска делала попытки меня развлечь.
— Мам, — говорила она, — вот я нарисовала портрет тех дядей, которые приходили ночью и хотели забрать Джерри.
— Один общий портрет, Киска? Этого не бывает.
— Бывает, мам, потому что у меня мало бумаги. Вот как вышло: ну-ка посмотри.
Я посмотрела. Был нарисован неправильный круг с зубчиками по краю. В кругу сидели мохнатые точки, в середине помещался отгороженный крестик.
— Что же это, Киска?
— Это их голова, мам. Это их глазки во все стороны. И много ушей.
— А крестик посредине, Киска?
— А это, мам, их могилка. Одна для всех.
— Ну, Киска, — отвечала я, — это у тебя очень удачно получилось. Хорошо бы послать этот портрет их родственникам в письме, но, к сожалению, мы не знаем их адреса.
— Письмо, мам?
Оказывается, Киска не знает, что такое письмо. Это явление выпало уже из нашей жизни. Я говорю:
— Письмо — это вот что. Например, ты уехала в другой город и там живешь. Я беру бумагу и пишу на ней печатными буквами: «Милая Киска, нехорошо ковырять в носу. Я очень люблю тебя. Твоя мама». Потом я беру эту бумажку, кладу ее в плоский бумажный мешочек и опускаю в ящик на углу. Мешочек вынимают оттуда, везут на поезде и привозят к тебе в другой город. Ты читаешь его и уж никогда, честное слово, не трогаешь носа.
— Никогда, честное слово, — повторяет Киска и спрашивает задумчиво: — А когда это было... письма?
— Давно. Уж я не помню.
Почты не было, но книги остались. Сначала я внутренне бушевала, сопротивлялась и вела с отсутствующим товарищем Шуляком принципиальные споры.
Но постепенно я утихла. Моя горячность прошла и сменилась сонливым спокойствием, нездоровой тишиной оранжереи, где в январе вызревают бледные, пухлые и лицемерные плоды. Я начала много читать, что было странно и противоестественно в дни, когда ради тепла сжигали Шекспира и когда в муку подмешивали молотый горох..
Выбор авторов был нездоровый выбор. Из всего, что было написано на земле, я читала только Диккенса и Франса. Каждый из них был умен и добр, но каждый, если следовать за ним неотступно, мог завести в бездну.
Один приходил с радостными слезами, другой — с грустной улыбкой. Один утверждал, что главное в мире — это сердце, другой утверждал — ум. Человеческая мысль, холодноватая, как хрустальная грань, улыбка над жизнью, улыбка над смертью, над женщиной, этим «пленительным сочетанием атомов», — вот что было важно.
Убогие и больные, косноязычные уроды, сироты, отданные на выучку ворам, бывшие каторжники, старые невесты, безумные от любви, застенчивые клерки, скромные предметы — поющие чайники и сверчки на печи — это был мир Диккенса. Это был уют старого рваного плаща, под которым преступник, голодный пес и бродячее дитя равно находят спасение от зимней ночи.
Диккенс знал теплоту счастья. Он писал:
«Ребятишки собираются один за другим у пылающего камина. Мать подбрасывает свежих поленьев, а отец только что обменялся дружеским кивком с кучером дилижанса за добрую милю от своей фермы и теперь стоит, обернувшись назад, и смотрит вслед удаляющимся путникам».
Франс утверждал:
«Время и пространство не существуют. Материи тоже не существует. То, что мы называем этими словами, есть именно то, чего мы не знаем, то препятствие, о которое разбиваются наши чувства. Мы знаем одну лишь реальность: нашу мысль. Она творит мир. И если бы наша мысль не взвесила и не назвала Сириуса, то Сириуса не существовало бы».
И у Диккенса и у Франса была убедительность, перед которой я была беззащитна. Холод одного и тепло другого протекали сквозь меня, как физиологический раствор сквозь заячье ухо в лаборатории Авеля Евсеевича. Но мне было этого мало. Я была живым зайцем, которому нужна была живая, невыхолощенная правда жизни, а не стерильная книжная мудрость. Правда жизни, живая, реальная правда, та, что проходила перед моими глазами, не мирилась ни с Диккенсом, ни с Франсом.
А в это время дни шли, и зима все углублялась.
Новый год приближался. Было не вполне понятно, каким образом встречать его и встречать ли вообще. И главное — когда. Все было сдвинуто со своих мест, старый календарь вырван с корнем, а новый еще не врос как следует, не привился. Тринадцать промежуточных дней висели в воздухе, как выдернутые из земли корешки. Кроме того, часы были передвинуты на два часа назад. Утро наступало неестественно рано, и солнце по вечерам не заходило, когда следовало. В городе кое-кто говорил: «Приходите в десять часов по-ихнему».
Мистер Пирибингль разработал проект встречи Нового года по старому стилю. Предполагалось провести эту знаменательную ночь на одной адвокатской квартире, почти единственной в городе, где каким-то таинственным образом сохранились пять сравнительно теплых комнат, ковры, посуда и интимность, связанная с диванными подушками.
Встреча организовывалась на паевых началах. Было ясно, что ничьих индивидуальных достатков не могло хватить на прокормление и опьянение тридцати человек: необходимо было коллективное усилие. Размеры каждого пая были точно установлены. Принимая во внимание финансовый кризис, паи допускались не только денежные, но и продуктовые.
Я к тому времени уже порядком обнищала и потому внесла лишь малую толику мерзлого картофеля; остальное довнес за меня спиртом Авель Евсеевич. Благодаря университетским связям у него были какие-то спиртные возможности, которые он и использовал. Мистер Пирибингль сделал исключительно ценный взнос: десяток яиц. Впрочем, в самую последнюю минуту, уже на самом вечере, выяснилось, что собранных средств не хватает. Был констатирован перерасход, который пришлось покрыть.
Приглашенных было около тридцати человек, последняя горсточка бывших хозяев говорливого и горячего города. Те, у кого были кирпичные заводы, заводы красок, суконные фабрики. У кого на той стороне залива были версты и версты широкого и пустынного пляжа, где со временем полагалось быть курорту. Пока же этот далекий оранжевый берег был населен одними чайками. Над ним спускалось соленое синее небо, и странно было думать, что столько воды, птиц и драгоценного одиночества не так давно принадлежало людям, подобным тем, что собрались в этот вечер на тахте адвокатской жены.
В соседней комнате звенели рюмки, белела скатерть. Пронесли гвоздь вечера — большого костистого гуся, родоначальника многих племен. У него торчали локти и колени, но он был пышно зажарен, как драгоценная дичь, и украшен бумажными плюмажами. Вокруг него, как родственники у гроба, толпились рюмки.
Университетский спирт, добытый Авелем Евсеевичем, был отвратительной очистки, — от него так и разило сивушным маслом. Но, разбавленный кипяченой водой и сдобренный небольшим количеством сахара, он при желании, мог сойти за водку. Этот же спирт, настоянный на ягодах, косточках и корках, получал повышение в чине и именовался ликером.
На большом блюде в накрахмаленных салфетках пронесли и поставили на стол нечто неслыханно великолепное, почти забытое в шуме дней, нечто золотисто-белое, пахучее и мягкое,— другими словами, белый хлеб, испеченный специально для этого вечера.
Без пяти минут двенадцать нас пригласили к столу. Там на бумажке каждый нашел свое имя, все соседства были строго обдуманы. Гусь был разбит на участки, телятина тоже: каждый гость имел право только на один кусок. Все было шикарно: встречали старый Новый год, «настоящий», «неподдельный». Ура!..
Мистер Пирибингль встал с бокалом в руке. Он был великолепен в этот вечер. Его пробор был проведен с европейской элегантностью, лакированные туфли сверкали, и в петлице кудрявилась белая хризантема. Мистер Пирибингль поднял бокал, и подкрашенный спирт запылал огнем, как отличное вино.
— Господа! — воскликнул мистер Пирибингль, — Старому году осталось жить пять минут. Поговорим о нем, об этом без пяти минут покойнике, который думает, что смерть спасет его от нареканий. Нет, мы не последуем примеру древних, мы скажем о мертвом все дурное, которое он заслуживает.
Мистер Пирибингль говорил дальше. По его словам, умирающий год отнял у нас, здесь собравшихся, красоту и изящество жизни, все ее прекраснейшие качества, оставив нам только некоторое количество сумрачных дней. Он отнял у нас свет и уют. Литературу и письменность. Орфографию.
— Однажды, — продолжал оратор, ускоряя темп своих слов и глядя на часы, — довелось мне встретиться с офицером одного из старинных шотландских полков. У него на спине, на мундире, была нашита черная атласная ленточка, назначение которой мне было неясно. На мой вопрос офицер ответил: «В то время, когда наши стрелки носили пудреные косы, эта лента предохраняла воротники от пудры. Теперь мы не носим кос, но мы сохранили ленту. Мы сохранили ее на память о первых стрелках, которые одержали первую победу с косами на затылке».
Наша буква «ять» подобна шотландской ленте. В данное время она не нужна нам, но она — наше славное прошлое, наша юность, наши победы, одержанные Державиным и Пушкиным. Мы не отдадим ее!.. Я пью за традиции, я предлагаю тост за букву «ять». За то, чтобы эта ночь была осенена забвением всего, что было в последние месяцы. Друзья мои, не правда ли, ничего не было? С Новым годом! Со старым счастьем!
Бой часов слился с возгласами. Бокалы столкнулись над столом. Соседка мистера Пирибингля, Вишенка, пила, закинув голову. Вишенка не имела другого имени, как Вишенка. В то время много было женщин, носящих имена цветов, плодов и птиц. Они появлялись из ниоткуда, как бы вызванные духом тревоги, и неизвестно куда исчезали.
Вишенка была в черных кружевах, черные волосы гладко закрывали ей уши, и подведенные ресницы вздрагивали. Она тоже произнесла тост, тоже подтвердила, что ничего не было, и все бокалы потянулись к ней.
— Как! — произнес гневный голос, полный недоумения и ужаса. — Как ничего не было! Было, и еще как было, а главное — что еще будет! — Но этот голос утонул в море восклицаний.
После ужина нагруженная до предела нарядным и теплым грузом гостей, вся в подушках и полупритушенных огнях, тахта вплыла в новогоднюю ночь. Ковры в этот вечер были цветущи. Рояль, покрытый испанской шалью, блестя зубами, как тореадор, был готов к бою.
Один из гостей, нервический и бледный пианист, сел на круглый табурет перед роялем и предложил сыграть «историю мира». Все закричали:
— Просим!
Авель Евсеевич, увидев, что надвигается музыка, попытался было скрыться, но пианист сказал:
— Не бойтесь, это будет недолго: скорее, чем выкурить папиросу.
Авель Евсеевич, отроду не куривший, опять было возмутился, но я удержала его за рукав, и он сел на ковер, составляющий продолжение тахты.
Пианист положил руки на клавиши, все притихли, и над тахтой поплыла простая свирельная мелодия: жалоба первой птицы на земле. Потом понеслись угловатые пестрые аккорды архаических культур, зажужжало веретено, заскрежетали машины. Вперемежку с псалмами загрохотали войны. Затем сумбур, мрак, закат человечества. И, наконец, простая свирельная мелодия: жалоба последней птицы на земле.
Может быть, все это было не так. Может быть, птицы не пели и веретена не жужжали. Может быть, это были гусь и спирт, сытость и опьянение, преображавшие бренчание клавиш в столь причудливые звучания. Я склонна думать, что так оно и было. Но это не важно. Важно то, что под эти звуки впервые за весь вечер мне стало легко. После долгих и тихих часов в нашей детской, при свете коптилки, в шерстяных чулках, чтобы не мерзли ноги, вдруг щедрый свет и шелковая гладкость во всем.
Сидя на тахте вместе с другими и плывя неизвестно куда, я думала так:
«А может быть, правда, что ничего не было. Да и что может быть? Музыка права: все равно все кончится. Земля опустеет, обезлюдеет. Жизнь предельно коротка: клочок снежного облака в синем тумане. Не все ли равно, как прожить ее, эту кратчайшую из жизней. В этой краткости и есть разрешение задачи и утешение. Нельзя быть слишком несчастной на протяжении мига. Ничего не было».
Я сплела пальцы и положила их под затылок. Держа в руках свою голову, так удобно было думать, как бы замыкая свои мысли. Думать, улыбаться, качаться, плыть. Ничего не было. Ничего... Ничего...
Я переменила нозу и почесала локоть: очевидно, шитая золотом подушка защекотала меня, золото вдавило в локоть узор, и теперь кожа горела... Вокруг говорили о любви. Тахта была полна нежными словами.
— Любовь скрыть легко, ненависть — трудно, равнодушие — невозможно, — говорили в одном углу.
— Любовь не стоит на месте: она увеличивается или уменьшается, — утверждали в другом.
— Не будем говорить о любви, — шептали в третьем углу. И все же говорили о ней.
«Ничего не было», — продолжала я думать дальше.
Но локоть чесался все сильнее, так, что я отбросила в сторону подушку. Вывернув руку, я взглянула на нее внимательно: у самого локтя, там, где образуется впадина, на дне ее сидела вошь.
Вши были тогда всюду. Они переползали с людей на события, они принимали участие во всем, они стали государственной проблемой. Нужно ли удивляться, что одна из них или, может, даже несколько решили встретить с нами Новый год.
— Ничего не было, — повторяла я, лежа в шелковых подушках.
— Было, — сказала вошь.
На девятый день после встречи Нового года я проснулась от запаха уксуса. От него нельзя было отделаться, но это был не уксус, а тиф, который шутил со мной злые шутки. При содействии тифа вышли из повиновения все мои пять чувств и вели себя мстительно и злобно, как будто ненавидели меня всю жизнь и только теперь нашли исход своей ненависти. Особенно донимало меня обоняние, это тихое, кроткое чувство, никогда не замеченное мною ни в чем худом. Только теперь оно явило во всем блеске подлинную свою натуру.
Начав с уксуса, оно повело меня через запахи гнилого дерева и пробки к зловонию погреба, где разлагаются бочки и плесневеет тряпье. Оно измучило меня зеленой и горькой окисью меди. И лишь однажды обрадовало ароматом свежеструганного дерева: это было предвестником выздоровления.
Я болела в маленькой комнате при кухне, где раньше жила прислуга. Киска каждый день приходила к дверям, прикладывала губы к скважине и спрашивала:
— Мам, чем сегодня пахнет?
Порой мелькала Юлия Мартыновна с огромным градусником, вроде тех, которые висят на стенах домов. Она наклонялась ко мне, и, удивительное дело, градусник умещался у меня под мышкой. Я была так слаба, что не могла слышать громкого голоса, я уставала даже от чужого напряжения. Однажды Киска, войдя ко мне в комнату, уронила мяч. Очевидно, повторив невольно вслед за ней движение мышц, я потеряла сознание от слабости.
Бывали дни, когда я как бы тонула в тоске и болезни. Я тогда хорошо поняла смерть. Смерть, казалось мне, не есть нечто резко отличное от жизни, наподобие того, как день отделяется от ночи: скорее это сумерки, когда темнеет незаметно и неотвратимо. Это не есть другая категория, как думают иные. Не срыв, а постепенное сползание. Вот сейчас чувствуешь себя плохо, еще немного хуже — это и будет смерть. Это очень жизненно, повседневно, буднично, близко от каждого, словно почтовый ящик или остановка трамвая. Выздоровление — вот в чем необычность и праздничность.
Однажды ночью так умучил меня запах плесени, так я жаловалась и стонала, что Юлия Мартыновна, укутав меня шубой, открыла форточку. Мне было тошно и липко, простыни пахли плесенью. Комната, мутно качаясь, валилась ко мне на подушки. Юлия Мартыновна, бледная от недосыпания, спала в кресле.
«Я закрою глаза, — подумала я, — и буду считать до ста».
Для этого нужно было усилие воли, почти немыслимое для меня. Но через это усилие, как через узкую калитку, я должна была вернуться к жизни.
Я закрыла глаза, и тотчас же, вся в багровых и желтых спиралях, тьма ринулась на меня, словно курьерский поезд. Но я держалась крепко. Я начала считать с таким расчетом, чтобы на каждую паузу падало два дыхания. Заметив, что я дышу прерывисто, я призвала себя к порядку, как на уроке плавания. И постепенно тьма улеглась, сердце начало стучать ровнее, лоб высох и посвежел.
Когда я открыла глаза, предчувствие рассвета было уже разлито в воздухе и комната уже не качалась. В открытой форточке отчетливо и кругло висела звезда. За то время, что я дышала в темноте, она выросла и округлилась, точно капля. Внизу, на улице, загрохотал первый воз.
— Н-но, сволочь, н-но! — закричал кто-то на лошадь.
И внезапно шум колес в прозрачном воздухе, укол звезды и ругательство соединились с рассветным дуновением в одно целое, пахнущее свежим древесным соком: это было утро, и это было выздоровление.
Теперь меня ждали блаженные и ясные дни, когда я училась распознавать вкусы и запахи: весь мир — как в детстве. Вкус чая поразил меня, мыло пахло незнакомо и пряно. Кроме того, я училась ходить. В мягких туфлях, на шатких и валких ногах, я совершила свой первый рейс от кровати до печки и обратно. Моим главным учителем в этом деле была Киска. Она держалась с достоинством, даже с гордостью, и делала чрезвычайно дельные замечания.
— Ты, мам, сгибай колени, а то ходишь, как на спичках, — говорила она.
Или еще:
— Ты не сразу двумя ногами ходи: поставь одну ногу, а другую потихоньку придвинь.
Когда я от слабости хваталась за стенку, Киска снисходительно говорила:
— Чего ты боишься, трусишка? Я же тебя держу.
Моя бритая после тифа голова смущала ее. Она говорила о ней, понизив голос, как о несчастном и стыдноватом происшествии. Мой вид казался ей несовместимым со званием матери.
— Бывают ли еще на свете бритые мамы, или ты одна только такая? — спрашивала она и прибавляла: — Ну, ничего. Я все-таки люблю тебя.
Когда кто-либо приходил навестить меня, то она, стараясь отвлечь внимание от моей злополучной головы, заводила светские разговоры.
— Скажите, — спрашивала она, — а ваши дети тоже раскутываются ночью? Вы сами их укрываете или сердитесь на них?
Однажды она села поодаль в кресло и ни за что не хотела сойти с него.
— Это нехорошо, Киска, — сказала я ей, когда мы остались одни. — Люди, которые тебя мало знают, могут подумать, что ты просто упрямая глупышка.
— Ты никогда ни о чем не думаешь, — возразила Киска, почти рыдая. — Ведь на этом кресле дырка и даже пружина видна. Я закрывала все это, когда сидела: не могла же я встать, на самом деле.
Киска была консервативнее, чем я. Я, например, вовсе не боялась вылезающих пружин. Наоборот, я была довольна тем, что многие тайные пружины, управлявшие раньше мной, сделались теперь явными; что можно было видеть их недостатки, лечить их, а если нужно, то и заменить новыми.
Говорят, что после тяжелой болезни обновляются ткани человеческого организма. Возможно, что после тифа у меня обновились клетки, заведующие ощущением жизни. Мне хотелось теперь работать, делать что-нибудь самое простое, устраивать свою судьбу. Видя, как Юлия Мартыновна колет щепы или трет кастрюлю, я думала:
«Как ловко, славно как! Вот и мне бы!»
Как всегда после тифа, мне очень хотелось есть запрещенные вещи: картошку с салом, например, которую ели при мне здоровые люди. Однажды я попросила себе тоже.
— Нельзя, — ответила Юлия Мартыновна и добавила, улыбаясь: — Нельзя. Кто не работает, тот не ест.
— Юля, — сказала Киска, — она будет работать, когда выздоровеет, дай ей кусочек. Ведь ты будешь, мам?
— Ну, Киска, — ответила я, — честное слово, я постараюсь.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Весна наступала медленно и робко. Оттого, что почти все деревья были срублены на дрова, в городе не осталось почек, не осталось тени, всего того, что час за часом отмечает движение весны. Весна сохранилась только в воздухе, в бурно несущихся теплых облаках, в дожде и солнце, когда небо смеется и плачет одновременно. Да еще трава лезла из каждой скважины, из каждой трещины тротуара, как будто все неиспользованные силы земли устремились именно туда. На главной улице, на мостовой, почти не тревожимой колесами, выросли одуванчики.
Постепенно наш дом начал оттаивать. Промерзший, оледенелый, угрюмый, он начал светлеть. Его мрачные, сухие глаза затуманились влагой и горели на закате золотом и пурпуром. Но долго еще здание не могло отогреться как следует. И даже когда снаружи было уже тепло и светло и легкий воздух ходил над домом, внутри стояла синеватая стынь: это камень отдавал холод, впитанный им за долгую зиму.
Я выучилась плести веревочные туфли: их носили тогда все. Самое трудное было прикрепить веревочный верх к деревянной подошве. Это была работа сложная и ответственная. Я занималась ею на балконе, на солнце. Внизу, подо мной, качалась четырехэтажная глубина, полная тепла и света. Веревочные петли располагали к размышлениям: я размышляла о судьбе рук.
Вот вырастают у нас две руки, талантливые и умницы: самые талантливые изо всего нашего тела.
Они всё умеют, особенно правая. Левая немного обделена судьбой, но и она, если поучить ее, может хорошо работать. А правая — та просто молодец. Она пишет, здоровается, угрожает, приветствует, шьет веревочные туфли. Ее жизнь разнообразна, ее утрата незаменима. Но почему мы так плохо учим ее, почему она так мало знает?
Моя клиентура росла, мои туфли имели успех. Особенно хорошо у меня выходил носок, ответственнейшее место, где петли должны быть особенно крепки, чтобы дать опору большому пальцу. За пару туфель я получала фунт муки и немного масла.
У меня появился новый клиент, раненый красноармеец из соседнего госпиталя. Он пришел вечером. Я видела его, как он шел но двору, потом стал подыматься по лестнице и делал это очень медленно и тяжело. Потом раздался стук в дверь, и в комнату вошел громоздкий человек на костылях; одной ноги у него не было вовсе. Очевидно, он не привык еще к тому, что изувечен, — он долго прилаживал костыли, и тело тяжело висело на них.
— Сестрица, — сказал он, — наслышаны мы, что туфли больно ловко изготовляешь. А у меня... ранен я, видишь ты. И нога эта здоровая — до чего ж она жгет и крутит. Вот туфлю изготовь мне. А сколько возьмешь? За одну-то дешевле небось. Да ты говори свою цену, не задумывайся.
После его ухода Киска, молча, с жадностью глядевшая на него все время, сказала:
— Мам, если у него одна нога, она должна быть посредине. Нет разве, мам?
Я изготовила ему невиданно большую туфлю без каблука, которой он остался очень доволен. Ногу он потерял, когда белые, уходя из города, навертели колючей проволоки на окраине, между двумя домишками. Смысл этого поступка был малопонятен: положение было вполне определенное и безвыходное. Никакая проволока не могла ни спасти, ни даже отсрочить приход красных отрядов. Бессмысленность этой раны, полученной где-то на задворках, без славы, без пользы, впопыхах, явно огорчала моего заказчика.
— Коряво получилось, — повторял он мне не раз. — Шли, шли — и, глянь-ка, напоролись. Как вошел в меня шип железный, как зачало мясо гнить, ну, думаю, это тебе не пуля, эта подлость не выйдет, покеда свое не возьмет, жравчина этакая. Эх, ну и подлая же!
Вторая нога была искривлена окопным ревматизмом; большой палец был тверд и узловат, как дубовый сук. При малейшей сырости воздуха в ноге начинались боли, от которых раненый не знал куда деваться. Иногда он даже сомневался, ту ли ногу ему отрезали, и высказывал предположение, что, может быть, к «жравчине» можно было приобвыкнуть и притерпеться, а вот «эту нудную» отрезать бы. Но было уже поздно об этом думать.
Он привел мне своего товарища, у которого обе ноги были целы, но зато выбита ключица. Это был невысокий человек. Ход его мыслей удивлял меня: у него была мания переустройства всего, что было уже создано. Увидев мои туфли, он сказал:
— Приделать бы к ним большой палец — хорошая бы рукавица вышла. А подметка деревянная на растопку пошла бы.
Про Красную Армию он говорил, что «наша Красная Армия, если бы ее по-настоящему оборудовать, первая была бы по рудокопному делу. Врылась бы в землю. А там уголь, алмазы, драгоценные соли. Все бы забрали». Звали этого человека Сигизмуид Горбин.
Придя ко мне в одно из воскресений в новых туфлях, причесанный, он спросил, умею ли я играть на рояле. Узнав, что умею, он попросил, если возможно, сыграть что-нибудь «грустное, доходящее до сердца». Я подумала и заиграла «Песню без слов».
Рояль уже оттаял к тому времени совершенно. Картофеля под ним не было, и только под педалью лежала завалявшаяся луковка, темная, вялая, пустая, как мешочек, из которого тянулась тоненькая изумрудная стрелка: рождался молодой лук.
День был воскресный. Золотые пылинки плясали над роялем. Где-то далеко, на берегу, чинили лодку, и удары топора по дереву были отчетливы. Сигизмунд Горбин стал за моей спиной; тень его упала на клавиши, он попросил играть «медленно и внятно». Замедленные звуки стали падать в воскресную тишину: удары топора на берегу отбивали такт.
— А не можете ли вы на словах объяснить, что такое вы играете? — спросил Горбин. — Чувствую, что грустное, но в точности не могу определить.
Я взглянула на его гладко причесанную голову, на искривленное плечо.
— Представьте себе поле сражения, — сказала я, — которое всеми покинуто. Все живые ушли, остались только мертвые. Остались брошенные пушки, пулеметы...
— Хочу заметить, — перебил Сигизмунд Горбин, — что пулемет бросать никак нельзя: вещь первой необходим мости.
— Да? Ну, значит, не было пулеметов: одни пушки. Все спутано, все в беспорядке. А с неба не переставая падает снег, падает, падает, заносит трупы. Тогда поднимается раненый, который не умер, но умирает. Он зовет людей, товарищей, он хочет услышать человеческий голос. Но вокруг тишина, молчание. Он забыт. И только снег падает, падает.
Я смолкла, ожидая хотя бы слова от Сигизмунда Горбина, но он молчал. Он был очень взволнован, хотел говорить, но не мог. Тогда мне стало стыдно, что несколько мелодичных звуков, приправленных солнцем и патетикой, произвели такое действие. Я попыталась улыбнуться, но Сигизмунд Горбин глядел на меня строго, и я не посмела. Он сказал:
— Если бы многие люди получили образование в музыке, то война не могла бы иметь места. Аэроплан тоже может играть, если к нему приузорить струны, — как вы полагаете? Целый уезд сразу может слушать одну песню...
— Вы что же, здесь останетесь или на родину думаете ехать? — спросила я.
Горбин выпрямился:
— Да вот жениться задумал, не знаю, как вы скажете.
— Вот уж не знаю. Трудно так сразу. Кто она, ваша невеста: городская, деревенская?
Он помолчал и ответил:
— Да это вы. Я на вас хочу жениться. Вы не думайте, я тоже обучался. Я даже в университете был.
— На каком факультете? — спросила я от смущения, только чтобы что-нибудь сказать.
Он ответил без запинки:
— На третьем.
Мы еще поговорили с ним о женитьбе. Я объяснила, что у меня Киска, дочь.
Он возразил, что это не имеет значения, что работу он всегда найдет. И если в хозяйстве что трудное попадется, например, стирка, то он поможет... Расстались мы с ним друзьями.
Веревочные туфли шли своим чередом. Однажды это производственное спокойствие было прервано появлением человека в ушастой шапке. Человек принес мне краткую повестку из Политпросвета с предложением явиться. Не могу объяснить, как мне это показалось странно. Меня зовут в Политпросвет... для чего?
Политпросвет помещался на площади против памятника Карлу Марксу. Дом был велик. Он был наполнен людьми, желающими учить и учиться, организовывать зрелища в клубах и на площадях.
Меня приняла стриженая девушка, похожая на зырянского паренька, скуластая и раскосая. Она сидела на стуле, как на льдине, заливаемая волнами посетителей. Отведя меня в укромную бухточку между шкафом и печкой, она предложила мне прочесть на учительских курсах небольшой цикл лекций по истории костюма.
Услыхав про историю костюма, я спросила:
— А откуда, собственно говоря, вам это известно?
— Нам все известно, товарищ, — ответила девушка. — Нам известно, что вы, живя в Париже, интересовались этим вопросом, писали о нем и так далее. Мы хотели бы использовать вас в этом смысле. Будьте добры к завтрашнему дню разработать план программы.
План программы был представлен, одобрен, и я приступила к лекциям.
Каменные коридоры бывшего епархиального училища были полны воспоминаний. Сравнительно недавно здесь проходили парами гладко причесанные и пелеринчатые епархиалки, мечтая о красавце дьяконе. У дьякона были серые глаза с поволокой и великолепные, сильные, белые руки. Весной в епархиальном саду расцветала голубая и темно-красная персидская сирень.
В актовом зале училища, взойдя на ту самую кафедру, с которой в свое время распределялись похвальные листы и золотые и серебряные медали, я вдохнула воздух, чтобы начать.
Передо мной сидели рядами учительницы в стоптанных башмаках, в облезлых горжетках и шляпах образца 1910 года. Шляпы эти были так сплюснуты, как будто министерство народного просвещения холодной тяжестью своих циркуляров давило именно на них. В задних рядах чернели учителя.
Новая советская школа тогда еще только нарождалась. Случайные дети приходили в школу, для того чтобы поесть и согреться. Каждый ребенок приносил с собой полено и ложку.
Учительские курсы были устроены с расчетом на то, что старые, еще досоветские педагоги, подучившись сами, будут лучше учить других, пока не подрастет новое, молодое советское племя учащихся. Педагогам читали лекции по литературе, психологии, гигиене, политграмоте, истории искусства. Мне думается, что физкультура не была включена только потому, что ее еще не было.
Каким-то образом попала туда и история костюма.
Жадность и внимание моей аудитории смутили меня. Все сидели с карандашами и тетрадками. Все стремились расширить свой умственный кругозор, пополнить запас знаний. Они верили, что история костюма поможет им уяснить поступь и осанку сегодняшнего дня.
Готовясь к выступлению, я добросовестно возобновила в памяти все, что знала, и пересмотрела несколько альбомов и книг. Первую свою лекцию я посвятила Древнему Востоку, главным образом финикиянам, предприимчивым и энергичным людям, которые, руководствуясь одними только звездами, плавали по морям, экспортируя цивилизацию в тех формах, в каких она была в то время возможна.
Финикийские купцы, очевидно, удались мне. Я заключила это из того, что мои слушатели, забыв тетрадки и карандаши, смотрели мне прямо в лицо, мало двигались и почти не кашляли.
Покончив с Востоком, я перешла к Риму. Мне хотелось подробнее остановиться на римлянах, на этих, по словам одного историка, «маленьких смуглых людях, владеющих лучше киркой, нежели мечом». Но в самую неожиданную минуту, когда я описывала одежду римского легионера, раздался звонок, возвещающий конец часа.
Уходя, я унесла с собой круглый пахучий ржаной хлеб, прекрасно выпеченный. В общей сложности я получила пять таких хлебов — по одному за две лекции.
Возвращаясь со мной из бывшего епархиального училища, идя со иной рядом по неосвещенным улицам и неся под мышкой мой хлеб, Авель Евсеевич, присутствовавший на лекции, высказывал мне по этому поводу свои соображения.
— Вы говорили неплохо, — сказал он, — но не обольщайте себя тем, что были безупречны. Так, например, по моему глубокому убеждению, вы приписали хитону то, что относилось к пеплуму. Вы не согласны со мной?
Услышав в ответ мое молчание, Авель Евсеевич смутился, наткнулся в темноте на столб, сказал: «Извините», и уж до самого дома не произнес ни слова. Я же в это время мысленно беседовала с товарищем Шуляком.
«Ну, как, товарищ, — спрашивала я его, — похоже это на настоящее? То ли это, что должно, по-вашему, «жужжать» во мне, или не то?»
Товарищ Шуляк, поигрывая карандашом, молчал, но мне чудились в его полуулыбке нечто одобряющее. Хотя и не окончательно.
Самой удачной из всего цикла оказалась лекция о модах французской революции. Я не собиралась задерживаться на этой эпохе особенно долго. Кроме того, не соразмерив время в самом начале и уделив чрезвычайно много внимания древним, я должна была спешить. Но одна из моих слушательниц, большая мужественная женщина с седыми усами, бывшая преподавательница рукоделия, попросила меня, если можно, остановиться более подробно на этом периоде, сказав, что ей, как заведующей костюмной частью одной клубной постановки, это интересно. Ее поддержали ее коллеги, и тогда я, отодвинув на время наступающий XIX век, подробно рассказала о том, как во Франции периода Реставрации был вотирован декрет, по которому наследникам казненных и осужденных Конвентом возвращались обратно конфискованные имения и имущество. Наследники, большей частью молодые люди, превращенные таким образом из бедняков в богачей и опьяненные этим внезапным богатством, предались самым эксцентричным удовольствиям. Ими устраивались «балы жертв», на которых кавалер, отводя даму на место, отвешивал быстрый резкий поклон, напоминавший судорогу казненного. Для усиления этого мрачного эффекта щеголи и щеголихи брили себе волосы на затылке, как это делал палач перед казнью. Дочери казненных ввели в моду красные шали, в память того красного платка, который был наброшен перед смертью на плечи Шарлотты Корде. И, наконец, они носили красные ожерелья, настолько плотно прилегающие к шее, что это напоминало кровавый след от гильотинного ножа.
К последнему из хлебов, полученному мною в последний день, было прибавлено несколько рукопожатий различной крепости. Было сказано, что я оправдала надежды Политпросвета и что умственный кругозор моих слушателей заметно расширился.
ГЛАВА ПЯТАЯ
С наступлением тепла наш дом наполнился жизнью. Все его зимние недостатки, его удаленность от центра, близость моря, северные комнаты — все превратилось в достоинства. Кроме всего прочего, ясно обозначалась близость Чека.
На широкой улице, самой тихой в городе, там, где раньше жили богатые греки, отдыхавшие от жизни, в жемчужно-сером выхоленном доме с атлетическими юношами у входа, с цветами в нишах и маленьким бассейном, помещалось грозное учреждение. Вокруг дома, на асфальте, стояли машины, и пыльный, усталый конь, привязанный к ноге каменного юноши, отдыхал от длительного бега.
Две девушки в сандалиях, в синих косоворотках, простоволосые, тронутые первым загаром, осмотрели наши большие прохладные комнаты. Не обращая на меня внимания, они измерили шагами пол и открыли все окна: я хотела предупредить, что одно из окон хворое и что трогать его нельзя, но не успела; окно распахнулось под решительной рукой, рама рухнула вниз, стекла зазвенели, и ненатертый паркет покрылся брильянтовой пылью.
Одна из девушек, переступив через битое стекло, как, вероятно, переступала через все препятствия на свете, сказала:
— Здесь станут кровати.
Вторая сказала:
— А здесь станет стол.
Первая сказала:
— Если нет воды, мы будем подымать ее на блоке снизу. Обливаться можно на кухне и в ванной.
Вторая сказала:
— Рояль здесь ни к чему: мы перенесем его в клуб.
Первая сказала:
— Не в клуб, а в автобазу. Там ребята устраивают концерты.
Вторая сказала:
— Да.
Первая и вторая ушли, с тем чтобы вернуться завтра. Наша квартира, за исключением двух комнат, превращалась отныне в общежитие сотрудниц Чека.
Товарищ Клавдия, та, которая разбила окно, была первая и главная среди остальных. Товарищ Клавдия была очень красива. Никогда еще мне не доводилось видеть таких совершенных черт лица, такого точеного носа и таких трепещущих ноздрей. Черные брови расходились аккуратными высокими дугами, темные с бронзоватиной волосы были коротко острижены. Это не была хитрая и сложная стрижка более позднего времени. Товарищ Клавдия была острижена, как мальчик, на пробор; на затылке у нее торчал ежик.
По утрам в одних трусах она шла в ванную обливаться холодной водой, которую подымали снизу на блоке. Она шла из далекой гостиной, проходила коридоры и комнаты. Пучок солнца шел за ней по ее плечам и груди. Потом она входила в тень, тело остывало, потухало, синие трусы становились почти черными. По дороге из гостиной в ванную она свистела: «Яблочко, куда ты котишься?» Свистя, она дирижировала мохнатым полотенцем.
После нее в ванной комнате оставались потоки и реки. Тщательно сберегаемое мыло плавало в воде, мокрая мочалка свисала с края ванны. Юлия Мартыновна, мрачная и ненавидящая, сжав губы, вытирала пол и выкручивала мочалку.
От всей этой непривычно грубой работы и от неумолимой латышской чистоплотности руки Юлии Мартыновны потрескались, огрубели. Из бараньего жира, глицерина и еще чего-то она приготовила себе снадобье для смягчения кожи и держала его на полочке в ванной.
Однажды утром, после ванны, стройная, как амазонка, стриженая, бронзоволосая, насвистывая прекрасными губами «Яблочко», совершенно голая, сидя на подоконнике в позе мальчика, достающего из ноги занозу, товарищ Клавдия смазала этой мазью составные части своего браунинга.
Мне казалось, что товарищу Клавдии недоступны никакие нежности, что она не замечает природы, не чувствует весны. Но лунными ночами, которые в ту весну были великолепны, возвращаясь поздно вечером на клокочущей машине, усталая, замученная, товарищ Клавдия принимала лунную ванну. Опять-таки в одних трусах, как будто дышать всем телом было ей необходимо, она бросалась на кровать, ложилась прямо под лунный душ.
— Этакая стерва, черт бы ее подрал! — повторяла она с восхищением и глубочайшей нежностью. Все это относилось к луне.
Ей были подвластны автомобили: «рено», «форд» и полугрузовик, один из тех, которые в первые дни революции выносили на своей спине солдатские тела, тяжелые от ненависти.
«Рено» — замученный синий мотор — был похож на призового скакуна, переведенного на полевые работы: он был слаб и жалок. Маленький проворный «форд» беспечально прыгал по кочкам.
Кроме автомобилей, у товарища Клавдии находились в распоряжении две лошади. Они жили где-то в другом месте, не у нас во дворе; я их сначала не видела, но слышала о них очень много. Товарищ Клавдия и товарищ Ольга, ее соседка по комнате, говорили о них в часы лунных ванн. Дверь в переднюю была открыта, голоса свободно разносились по комнатам. Как далеки были эти беседы от женских шепотов в лунные ночи!
Клавдия говорила:
— У Ворончика грудь широкая, он просто глотает воздух. Просто горит земля у него под ногами. А помнишь, как он взял канаву перед кирпичным заводом? Перелетел — и сам не заметил. Уж потом только уши наставил: сам удивился.
Ольга возражала:
— У Сокола морда лучше. И глаза. Он крепче, потеет меньше. Он, когда пьет, на воду смотрит, а не на человека: значит, характером добрее. И умен очень.
— А у Ворончика... — говорила снова Клавдия.
— А Сокол... — возражала опять Ольга.
Двигаясь стремительно и быстро, Клавдия часто сокрушала на своем пути мелкие предметы и рвала одежду. «Бах! Бум! Дзинь!» — раздавался звук, что-нибудь фарфоровое или стеклянное летело на землю, после чего слышался треск: это рвалась материя. Одежда рвалась все чаще, прорехи становились все шире, булавки были бессильны. Загнанная в угол автомобилями, лошадьми и прорехами, товарищ Клавдия теряла спокойствие. Уж близок был миг, когда она, вынужденная просить о помощи, должна была нас заметить — меня и Юлию Мартыновну. И миг этот наступил.
Товарищ Клавдия появилась на пороге нашей комнаты, куда она ни разу до того не заглядывала.
Мы с Юлией Мартыновной как раз исследовали дырявое дно ведра. Ведро устало, оно больше не желало служить, оно не хотело жить. Обычно я не задумывалась над вопросом, сколько времени живет ведро. Ведра были во всех магазинах в неограниченных количествах. Они были прекрасного качества и не зависели от событий. Так казалось. Но сейчас было ясно, что голодовки, тифы, международное положение — все это влияло на судьбы ведра.
— Жестянщик сказал — больше починять он не может: надо новое дно, — сказала Юлия Мартыновна, держа ведро перед собой и говоря в него, как в рупор, глухо и громко.
— А если новое дно, например?
— Дно мы не можем себе позволить: он за дно такое возьмет, что...
— Послушайте, нет ли у вас иголки? — прозвучал с порога чужой голос. — Ну, и нитки.
Я обернулась. Юлия Мартыновна вынула голову из ведра. Обе мы смотрели на товарища Клавдию. Обеими руками она закрывала громадную прореху на плече: очевидно, ей уже стало невмоготу.
— Иголку? — Интонация Юлии Мартыновны сделалась непередаваемой. — Ах, иголочку вам — Сколько ядовитого меду было в голосе! — Очень, очень сожалею. Но, к сожалению, к великому сожалению, иголочки у нас нет.
В эту минуту Юлия Мартыновна мстила за все: за трусики, возмущавшие ее целомудренность, за ванную комнату, за револьвер. Весь этот разговор был столкновением иглы и револьвера.
— Я дам вам иглу, товарищ Клавдия, — сказала я. — Только она толстая и ржавая: не знаю, как вы будете шить. Другой у меня нет: все остальное у Юлии Мартыновны. Не знаю, зашьете ли.
— Ну, и я не знаю, — мрачно ответила товарищ Клавдия.
Толстой и ржавой иглой с вдернутой в нее лохматой ниткой она зашила свое платье большими косыми стежками, похожими на осенний дождь. Юлия Мартыновна, глядя на это неудачное рукоделие, вздыхала от счастья.
Ворончик, тот самый, который перелетел канаву и сам не заметил, — Ворончик захворал, и его перевели болеть к нам во двор, в сарай, где раньше лежали дрова. Ворончик ничего не ел и стоял понуро, как будто размышлял о бессмысленно прожитой и никчемной жизни.
Мне же, наоборот, казалось, что жизнь его была удачна и богата. Несомненно, он побывал на фронте, на разных фронтах. Он знавал удачи, запах опасности щекотал его ноздри. Ветер преследований и погонь гудел в его ушах, дни его были полны, ночи озарялись кострами. Теперь он все это забыл. Проходя мимо сарая, можно было видеть темный круп, заслонявший небольшое окно: круп все худел и опадал, занимал все меньше места, и в сарае становилось все светлее.
Испробовав домашние средства, к Ворончику решили позвать ветеринара. Сделать это было нелегко. Город не был приспособлен для болезней не только лошадей, но и людей.
В ближайшей больнице главный врач был совершенно умучен: он лечил внутри больницы и вне ее. В пасхальную ночь, когда больница была сравнительно тиха, в эту ночь главврача спешно вызвали на окраину города к корове, ободравшей себе вымя о плетень.
Тщетно уверял доктор, что коров он не лечит, что его этому не учили. Посланный за врачом человек смотрел на него в упор, вертел веревочку в руках, и видно было, что он не уйдет: корова была необходима, так как обслуживала ясли.
Главврач со страхом взирал на свою пациентку. Надев пенсне, он подлез ей под брюхо и исследовал рану: рана была устрашающа.
Главврач, забирая голову в плечи, чтобы не видеть склоненных над собою рогов и безумного коровьего глаза, влажной и дрожащей рукой зашил рану. Вокруг стояли люди с фонарями. Желтый круг света освещал прошлогоднюю солому на земляном полу, корыто с помоями и коровий хвост, перепачканный кровью. Корова перетерпела все без наркоза. Кроме того, она была так крепко привязана и схвачена руками, что не могла шевельнуться. Но, перетерпев все, она отплатила главврачу, как могла.
Вымыв руки над корытом с помоями и уже собираясь уходить, главврач пожелал еще раз взглянуть на свою пациентку. Он подошел к ней вплотную, поправил пенсне, склонил голову набок и, отведя в сторону качающийся хвост, с гордостью взглянул на зашитое вымя. Тогда корова, вырвав из рук хвост, повернулась, молниеносным ударом рогов сбила пенсне, выбила зуб — одним словом, доктор получил все то, что в официальных бумагах именуется «ранением, полученным при исполнении служебных обязанностей».
Главврач поклялся, что никогда в своей жизни не прикоснется ни к одному четвероногому. Но через некоторое время к нему в больницу легкой походкой вошла товарищ Клавдия и пригласила его следовать за ней к больному Ворончику, который худеет.
— Я слышала, — сказала Клавдия, — что вы здорово понимаете это дело. А конь должен быть здоров, вы понимаете?
Главврач, брызгая слюной сквозь выбитый зуб, попробовал отказаться, но очень скоро очутился у нас в сарае.
Товарищ Клавдия не была оратором, — это не входило в число ее умений, — но тут она сказала все, что хотела.
— Конь должен быть здоров, — сказала она. — Вы скажите, что ему нужно, доктор: мы все достанем.
Главврач был очень взволнован. Красота Клавдии пронзила его сердце, к этому прибавлялся еще самый обыкновенный страх. Но нужно было сказать правду.
— Не примите это за саботаж, — выговорил он, — насколько я понимаю, у больного сап. Медицина в таких случаях бессильна.
В тот же вечер у нас во дворе раздался одинокий выстрел. Это Клавдия пристрелила Ворончика, который не мог больше жить...
Ворончик исчез с лица земли, как будто его копыта никогда не топтали легких седых трав у дороги. Его следы сохранились только на этих страницах. Хорошо, что я видела этого коня и рассказала о его недолгой жизни и мгновенной смерти.
События в жизни проходят недаром. Встреча с Клавдией была мне полезна: она показала мне женщину не такую, каких я знала до сих пор. Клавдия была резка в обращении, и самый горячий ее почитатель не назвал бы ее приятной собеседницей. Но я видела выражение ее лица, когда умирал Ворончик. Еще я наблюдала за ней в минуты ее разговоров по телефону. Если там, вдали, на том конце телефонной проволоки, говорили о хорошо выполненном задании, об удаче в деле, тогда ее суровые глаза светлели до самой своей глубины. Она была стремительная в жизни: бух, бум, дзинь, — расшвыривала она препятствия. Она не знала усталости, эта женщина трудной эпохи. У нее не было ни книги, ни иголки. У нее был конь и револьвер. И революция, которая ее породила.
С весной участились в городе случаи воровства и холеры. Воровство было и раньше, но теперь оно перешло в отчаянность. Беспризорные шныряли по городу: у них не было прошлого, и с настоящим они обращались безжалостно.
Однажды Юлия Мартыновна пришла с базара бледная, что с ней не часто случалось. Она хотела говорить и не могла. Наконец она рассказала, что обменяла мое черное шелковое платье на курицу. Курица была худая и старая, под перьями у нее было пупыристое жилистое тело. Но глядела она бодро, и Юлия Мартыновна предполагала, что она сможет нести яйца.
Держа в руках курицу, Юлия Мартыновна шла между возов и корзин. Внезапно вынырнул беспризорный. «Пусти, тетка!» — закричал он. Она прижала добычу к сердцу. «Не отдам», — сказала она. Беспризорный озверел, он кинулся на Юлию Мартыновну и здесь же, у нее на груди, вонзил зубы в трепещущую птицу. У живой он выгрыз у нее крыло. Давясь и спеша, он глотал синее куриное мясо. Когда его оторвали и повели, лицо у него было в крови, перья облепили его брови и ресницы.
В другой раз мы шли с Авелем Евсеевичем по улице. Заплеванный, заваленный шелухой и мусором, со снятыми вывесками, город был очень страшен. Пыльные смерчи шли по мостовой, как в пустыне... Внезапно перед нами побежали люди. Возле одного из домов стояла толпа, головы были подняты вверх, и пыль засыпала глаза.
— На чердаке, — говорил один. — Вон пожарную лестницу понесли.
— Белье красть, это что же такое? И так все раздетые ходят.
— Теперь он свое получит.
— Шаромыжник, — сказала одна старая почтенная женщина. — Что себе думает его мать, так это один ужас.
Все посмотрели на нее с удивлением. Никто не подумал о матери вора, а она подумала.
Люди внизу медленно и страшно накалялись: каждый приготовил бранное слово и удар. Но вор обманул всех. Увидев себя окруженным со всех сторон, он бросился вниз из чердачного окна. Он не рассказал никому, на что надеялся. Хотел ли он спастись или предпочел умереть от паденья, чем от побоев, — все это было неизвестно. Только он прыгнул и упал на тротуар. Он был уже мертв, он лежал страшно неудобно: руки были вывернуты назад, и в одной из них были зажаты полотенце и пара кальсон. В это время женщина из толпы, не та, которая сказала про шаромыжника, другая, вздохнула глубоко и развела руками.
— Мамочка, — закричала она, — ой, боженьки мои! — И она забилась в судорогах.
— Холера! — крикнули все в один голос, и улица опустела. Бегство было мгновенно. Холерная упала рядом с трупом.
— Что же это будет? — спросила я наконец. — Еще немного, и в нашей стране не останется людей. Все умрут, кто же останется? Как жить? — В этот миг мне уже не казалось, что жизнь пустячно коротка («клочок снежного облака в синем тумане»). Наоборот, она казалась мне бесконечной, уходящей вдаль, без конца, без конца.
Но Авель Евсеевич, который, видимо, все знал и все умел ставить на свое место, ответил мне:
— Не бойтесь. Были времена гораздо более тяжелые. В четырнадцатом веке в Англии во время чумы вымерла треть населения. Дороги были пустынны, города одичали. Казалось, что цивилизация кончается. И имейте в виду, что это была чума, страшная болезнь средневековья, с которой не умели бороться и которая шла гибелью на человечество. Теперь совсем не то.
— Тогда была чума, теперь холера: разница не так велика.
Авель Евсеевич, не слушая меня, продолжал:
— Теперь совсем не то. Мы страдаем во имя будущего. Я не сторонник переворотов: они мешают работать. Известно, что Эммануил Кант потерял рабочий день из-за французской революции. Но если отрешиться от эгоизма ученого, нельзя не признать, что революции приносят пользу обществу.
Разговаривая, мы неспешно проходили одну улицу за другой. Спешить нам было некуда, особенно мне. Мой дом был не настолько очарователен, чтобы служить для меня магнитом. В то время Юлия Мартыновна разводила у нас кроликов, этих плодовитых вкусных и питательных зверьков, которые, по ее мнению, должны были обогатить нас.
Наша комната превратилась в кроличий родильный дом. Белая самка с детьми лежала у меня на диване, и я не могла достать из-под него своих башмаков, чтобы не волновать ее. Кролик-самец, рыжий красавец, хворал несвареньем желудка.
Так и на этот раз: вспоминая кроликов, я не очень спешила домой. Мы шли все дальше. На пустынной улице, стоя у ворот, двое, юноша и девушка, говорили о любви. Вечерняя тишина донесла до нас их слова. Юноша говорил о том, как он любит ее, что ее глаза самые прелестные на свете.
И случилось так, что все ощущенья этого вечера — смерть вора, холерные корчи, разговоры о чуме в Англии в четырнадцатом веке и вот эти последние слова о любви, — все слилось в ощущение жизни, которая идет, не останавливаясь ни на минуту.
Близилась весна.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Черное море не слишком богато рыбой. Эта глубокая впадина, синяя от глауберовой соли, с бездонными пустотами, мало приспособлена для рыбных жизней. Рыба здесь бурой окраски и мрачного характера. И только скумбрия, эта ласточка Черного моря, узкая, серебристая, весела и проворна. Волны расписали ее спинку синими полосками, и брюшко у нее перламутрово-голубое.
Трое студентов, приятели Авеля Евсеевича, организовали рыбачью артель. Они раздобыли лодку и сети. Они внесли в дело свои паи: молодость, зоркие глаза, упругие мышцы. В наставниках у них был дядя Юра, рыбак-грек, который по запаху волны мог определить все, что должно случиться.
Артель поселилась на глинистом склоне в маленькой хибарке. Три стены у нее были вполне нормальные, четвертая же, задняя, вросла в глыбу красной глины. На утоптанной площадке перед домом лежала лодка, которой делали новое дно. Она была вся сквозная, как грудная клетка кита: все ее ребра торчали наружу. Воздух и солнце обтекали ее черные ребра: она дышала, старая лодка, и никак не могла надышаться.
Внизу, на берегу, стояла вторая лодка, здоровая. Под ней крупная галька переходила в мелкий сухой песок. Он влажнел, светлел; чем ближе к воде, тем драгоценнее становились осколки раковин. Уральские богатства, индийские россыпи сыпались там промеж пальцев. Все это постепенно уходило в воду и под водой продолжало жить еще пышней, еще драгоценнее.
Рыболовная артель начала работать. Трое мальчиков здорово наголодались за зиму, насиделись в нетопленных комнатах, отморозили все пальцы. Теперь они накинулись на весну. Солнце вставало для них недостаточно рано, и они ругали его за лень.
На закате молодая скумбрия, чирус, играла над водой. Она выпрыгивала наполовину и, сверкнув на солнце, как перочинный нож, снова исчезала. В те дни горизонт был чист, никакие дымкѝ не туманили даль. Никакие суда не приходили и не уходили: была блокада. Море принадлежало нам.
Вверху, над морем, цвели фруктовые сады, потом на них показалась завязь: все это происходило в тишине. Бывали ночи такого звездного могущества, что от Юпитера шла по морю полоса, как от небольшой луны.
Первый мой визит к рыбакам был короток и официален. Пришли: Авель Евсеевич, Киска и я. Мы шли гуськом по узкой тройнике. Киска шла позади, разговаривая с большим булыжником, который она завернула в платок и считала грудным ребенком. Авель Евсеевич, спотыкаясь, говорил мне:
— Славные мальчики, вы увидите. Им всем трудно: это все первый курс. Они родились на пороге революции. Но когда-нибудь они будут очень довольны, что жили именно в это время.
Рыбаки были одеты больше чем легко: главной их одеждой были волдыри от неумеренного обращения с солнцем. Мы посидели недолго, и все же за это время Киска успела слегка загореть и крепко подружиться со всеми. Она заявила, что не уйдет отсюда никогда в жизни и что зимой можно будет спать под лодкой, где должно быть тепло и уютно.
Мы стали приходить все чаще и чаще, а иногда оставались даже ночевать в старом гамаке, повешенном между двумя кольями. Гамак был так стар и дыряв, что Киска едва не проваливалась сквозь плетенья.
С непривычки артель очень уставала: она выходила в море под вечер ставить сети и на утренней заре возвращалась за рыбой. Потом эту рыбу носили в город на базар, обменивали и продавали. Но, несмотря на усталость, на неудачи, связанные с неопытностью, невзирая на придирчивость дяди Юры, который жил неподалеку и приходил в самые неурочные часы, артель находила время для задушевных бесед.
Я ие могла и не хотела оставаться паразитом в столь трудовом коллективе: я варила уху, мыла корзины из-под рыбы и подметала площадку перед домом. Я хотела шить; женщина, я хотела помогать мужчинам всем, что было в моих силах. Но шить было нечего: артель носила трусы, как товарищ Клавдия, и ничего больше.
Рыбаков было трое, но это было три различных ума, все принимавших по-разному. Первый, Лева Симцис, сын портного, осенью собирался в Москву. От энтузиазма он заикался, на губе у него вскипал маленький пенный пузырек. На юридическом факультете он был по ошибке, по воле отца, который мечтал о дне, когда в городе будут говорить: «Сегодня в суде очень интересное дело: обвинение в убийстве. Защищает известный Симцис». — «Какой это Симцис?» — спросит собеседник. «Как, вы не знаете? Сын старого Симциса, портного».
Но Лева не имел никакого отношения к отцовским мечтам. Сам он мечтал о живописи. Он не сомневался, что революция широко распахнула двери карандашу и кисти и что в самом скором времени города превратятся в груду сокровищ, где каждый дом будет расписан снаружи и внутри. Когда никто еще не помышлял об этом, он грезил о трамваях, украшенных портретами героев и эмблемами труда.
В свободные минуты Лева представлял себе свою встречу с Луначарским. «Товарищ Луначарский, — должен был сказать Лева, прямо с вокзала очутившись в приемной наркома, — вот я приехал. Вот мои руки: распоряжайтесь ими». — «Товарищ Симцис, — должен был ответить Анатолий Васильевич, — вот вам ордер на Москву: сделайте из нее чудо искусства».
Второй член артели, Викентий Ковалевский, происходил из военной семьи и имел на своем попечении полусумасшедшую бабушку и сестру Галину. В один несчастный день, когда сделалось известно, что большие хищные рыбы, паламиды, вошли в залив и распугали скумбрию, бабушка и Галина нанесли визит Викентию Ковалевскому и его товарищам.
— Мой милый, — сказала бабушка Леве Симцису, поднося к глазам лорнет без стекол, — что слышно у вас в лицее и, главное, как здоровье наследника-цесаревича?
— Он просто цветет, — ответил Лева, беспокойно блуждая глазами по сторонам. — Я еще в жизни не видал такого здорового мальчика.
— Я рада слышать это, мой милый. Хотя здесь говорили, что Бадмаев, этот тибетский знахарь...
— Бабушка, — перебила ее пятнадцатилетняя Галина, — посмотрите, какая красивая лодка.
— ...что Бадмаев, этот тибетский знахарь, — продолжала с упорством бабушка, — совершенно уморил этого ангела.
А лодка действительно выглядела необычайно. Воспользовавшись днем, когда рыба шла плохо, Лева раскрасил лодку черным узором на красном фоне. Внутри она была зеленая и в таком виде напоминала арбузную корку, вывернутую наизнанку.
Третий артельщик, Костя Крошкин, любил понятные вещи, — это была его особенность. Он многого не понимал и часто начинал фразу именно этими словами: «Я не понимаю...»
В теплые темные ночи, когда вода внизу издавала только легкое шипенье и светляки слетали сверху, из сада, в такие ночи раскрывались сердца. В котелке над огнем варилась уха. Лева Симцис говорил об искусстве.
— Я — культурная единица, — говорил он, — я приезжаю в Москву, я говорю — так и так. Разве не правда?
— Я не понимаю, — возражал Костя, — почему культурная единица должна непременно быть в Москве: и здесь, в провинции, можно работать.
— Страна больна, — думал вслух Авель Евсеевич. — Москва — это сердце: у сердца всегда теплее.
— Страна не больна, — возражал Лева. — Это не болезнь, а родовой процесс: больно, но полезно.
Авель Евсеевич не оспаривал родового процесса. Уха закипала, падучая звезда перечеркивала небо. Ковалевский молчал, как обычно. Появлялся дядя Юра. Он высыпался быстро: в час ночи он был сыт по горло сном. Он сообщал нам, что море теперь полно мин. Громадные мины плавают в морской воде, и рыбы боятся их. Первой начинает бояться камбала, умнейшая из рыб. Она учит остальных, и море пустеет на многие мили: «Мины везде, много-много мин», — заканчивал дядя Юра и показывал рукой в сторону Константинополя.
Мы следили глазами за его рукой и не верили ему: море было спокойно — легкое летнее море.
Потом мы глядели на небо, Авель Евсеевич обводил пальцем черные пространства, где не было звезд.
— Это пустоты вселенной, — говорил он, — так называемые «угольные мешки». — Он рассказал нам о звезде Канопус в Южном полушарии. — Она так велика, — сказал Авель Евсеевич, — что если в одну точку вселенной каждый час будет падать капля величиной с наше солнце, то понадобится два с половиной года, чтобы образовать Канопус.
— Пожалуйста, не надо, — растерянно выговорил Лева Симцис. После чего эта «культурная единица» закрыла глаза руками, будучи не в силах выдержать блеска страшной звезды.
— Цк-цк-цк, — сказал дядя Юра.
— Я не понимаю, — в последнюю очередь высказался Костя, и это был редкий случай, когда он был прав.
Ковалевский молчал.
Ковалевский всегда молчал: он был самый странный из всех. Иногда мне казалось, что в нем заключена частица безумия его сумасшедшей бабушки, а может быть, и нечто совсем другое. Днем, сидя на скале, он удил рыбу не для продажи, а для себя. Это было смехотворное занятие, потому что вода в том месте была тепловата и до смешного мелка: не вода, водица. Даже городские мальчишки презирали ее. Улов там был соответственный: маленькие бычки, почти прозрачные. Они распускали плавники, как настоящие взрослые рыбы, но видно было, что это дети.
Ковалевский не смущался ничтожностью добычи и бережно складывал ее в жестяное ведерце. Но какой-то одной рыбешке он яростно обрывал голову. Безголовая, она летела в море, за ней остальные, после чего ловля кончалась: рыбак сматывался и уходил. Не один раз я следила за ним, и всегда это было одно и то же: спокойствие до одной какой-то точки, потом внезапная ярость и — конец. Однажды я спросила его, в чем тут дело.
Он посмотрел на меня и ответил нехотя:
— Это семнадцатый: семнадцатому я обрываю голову.
— Я вижу. Но почему семнадцатый?
— Потому что в семнадцатом году началась революция.
Больше я ни о чем не спрашивала его.
Лева Симцис, на которого была возложена обязанность товарообмена, каждое утро отправлялся с корзиной рыбы на базар. Чтобы не распугивать покупателей, он надевал штаны, закатанные до колен, — верхняя часть тела оставалась голой. Он нес на плече корзину, полную серебра и соленой свежести, — это была скумбрия. Лева уносил в город рыбу и приносил нам слухи. Слухов было так много, что они вскипали пенными пузырьками на его румяных губах.
Однажды Лева Симцис, помимо слухов, принес домой шишку на лбу, подбитый глаз и порванную штанину.
— Меня побили рыбаки, — с гордостью сообщил он, — рыбаки-профессионалы — за то, что мы взялись за их дело. Но я объяснил им, что революция уничтожила все эти подразделения.
В другой раз он пришел по-настоящему смущенный.
— Говорят, — сказал он, — о каком-то заговоре. В городе неспокойно, много арестов, были облавы, обыски.
— Какого же рода заговор? Кого подозревают? Кто заговорщики?
— Бывшие офицеры как будто. И даже студенты. Нашли концы и теперь ищут главный узел. Говорят, что все они связаны с Врангелем. Идут разговоры о какой-то подводной лодке здесь поблизости. Скверная история.
В тот же вечер заглянул к нам прохожий человек. Он сошел сверху, с горы, в руках у него был прутик, которым он подхлестывал воздух.
Человек попросил у нас пить, потом — спичку, потом сказал, что ссадил себе ногу и ему необходимо переобуться. Наконец, он уселся плотно, заявив, что устал как собака и что ему приятен здешний воздух. С этой минуты он окончательно перестал нам нравиться, хотя мы и раньше были от него не в восторге.
Время шло, а прохожий сидел и разглагольствовал, словно он давно не находил собеседников по душе и теперь хотел вознаградить себя. В ответ на все его речи мы молчали как убитые. Молчание наше становилось все тягостнее, необходимо было прервать его, и Лева Симцис сделал это не вполне удачно, заметив, что лето в этом году пыльное. Мы все смутились. Только не прохожий человек. Он даже как бы обрадовался и начал нас расспрашивать о нашей жизни здесь, на берегу.
— Живем, — сказал Лева. — Ловим рыбу. Надо немножко подготовиться к осени. Рыбаки-профессионалы против нас, но на это не нужно обращать внимания, потому что революция уничтожила все эти подразделения. Осенью надо ехать в Москву.
— Вот здорово! — воскликнул человек. — А кто же именно здесь живет?
— Я, — ответил простодушный Лева, — моя фамилия Симцис. И два моих товарища: Крошкин, вот этот... с расцарапанной щекой, и Ковалевский, тоже студент. Вот он чинит корзину.
— Где? — спросил человек с удивительной живостью.
Лева обернулся: Ковалевского не было, и недочиненная корзина была брошена в песок.
— Вот здо-ро-во! — протянул человек необычайно разочарованно.
Он ушел через несколько минут, как будто с исчезновением Ковалевского здешний воздух потерял для него всякую прелесть. Мы больше не видали Викентия Ковалевского. От него остался только рваный ремень и носовой платок, которым он повязывал себе голову от солнца. Но и эти невинные предметы были в наших глазах полны недобрых тайн. С ними были связаны слухи о заговоре, воспоминание о незнакомце с хлыстиком, о какой-то неведомой опасности, которая была близка и которую мы, по своему легкомыслию, не заметили.
Последующие наши дни были неспокойны. Человека с хлыстиком не было видно, но он присутствовал незримо, он мелькал где-то на горизонте. Мы не понимали, мы не знали, кто он и с какой точки зрения был ему интересен Ковалевский. Был он ему друг или враг, и если враг, то почему не трогал нас, живших с ним бок о бок?
Все это было непонятно, но тревога была так явственна, что можно было ее ощупать руками.
Тревога была не только в нас, — она была и в природе. Наступили безрадостные знойные дни. Желтое море бросало на берег слишком теплые и пенистые волны, — рыба не ловилась вовсе.
В один из таких дней на закате появилась большая туча. Она шла со стороны Крыма и была тревожна. Нам с Киской были знакомы веселые ночные дожди, которые чаще всего приходят на рассвете, умывают листья, вытаскивают из земли ленивые травы и, наведя порядок, уходят. В таких случаях мы укрывались брезентовым чехлом и, лежа под ним, слушали щебетание дождевых капель. Если же дождь становился слишком силен, то мы уходили в так называемый «дом» и укладывались там в углу, на сеннике, подальше от Левы Симциса, который во сне бывал буен и продолжал сражения, начатые наяву с профессиональными рыбаками.
Но на этот раз туча имела нешуточный вид. Она шла и набухала, холодная синяя тень мчалась впереди нее, захватывая все новые пространства. Туча дохнула холодом и влагой, и листья яблонь на горе и особенно листья тополей прилегли на серебристое брюшко, трепеща и вздрагивая. А над ними неслись клубы ныли. Покуда мы с Киской советовались, не уйти ли нам подобру-поздорову в город, уходить сделалось уже поздно. Туча стояла как раз над нашим обрывом: спастись от нее нельзя было.
Настала гроза: воздух закипел от ливня и ветра, море издало рев. Оно ревело нутром, всей глубиной своей, которая обычно безмолвствует. Гром начинался в одной точке неба, потом обрушивался на вселенную. Раздавался удар, проходило мгновение, когда мы не дышали, и фиолетовая молния вонзалась в наши крепко стиснутые веки. Так называемый «дом» хотел оторваться от земли и не мог: он вздрагивал, и мы вздрагивали вместе с ним.
— Я не понимаю, — сказал Костя Крошкин в минуту сравнительной тишины, — как он выдерживает это.
И правда, это было удивительно: мы этого не ожидали.
— Стихает, — сказал Лева, глядя в окно. — Стиха...
В это мгновение что-то случилось с воздухом. Раздался грохот: он шел не с неба, а с воды, он затопил весь мир. Наше окно вылетело вместе с рамой, мы повалились друг на друга; грохот все шел и шел, хотя ушные раковины уже не вмещали его. И дождь барабанил теперь прямо по нашим головам. Это взорвалась одна из мин, о которых нам рассказывал дядя Юра. Буря сорвала ее с места, тащила по морю, пока не швырнула о скалы неподалеку от нас. Наутро весь берег был покрыт камнями, у скалы вырван бок, и вода покрыта оглушенной рыбой: среди рыб плавала и камбала, умнейшая из рыб. Даже прославленный ум не спас ее от катастрофы.
Этой бурей и этой взорвавшейся миной как бы завершилось лето. Море похолодало, попрозрачнело, и горизонт приобрел ту стеклянную хрупкость, которая является предвестницей осени. Сейчас, в эту минуту, увлекаемая ходом книги, принужденная идти дальше, я ловлю себя на том, что в воспоминаниях мне не хочется уходить от того лета. Тревога, безденежье, непрочность настоящего и туманность будущего, исчезновение Ковалевского, разговоры о Москве и звездах, наконец, взрыв мины — все это было крепко сварено в морском котелке: этой ухой мы были сыты долгие дни.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Мина взорвалась вовремя. Вообще в то время действительность поступала с людьми чрезвычайно умно. Если кто-либо начинал чересчур уж благодушно поглядывать вокруг, начинал затягиваться жирком, действительность ударяла его по лбу и спрашивала: «О чем ты, собственно, думаешь, человек? Торопись, думай, принимай решение, не то плохо тебе будет». И человек спохватывался, начинал торопиться, думать, принимать решения.
Очень скоро после мины нас, вместе с нашими кроликами, выселили из городской квартиры. Общежитие, разрастаясь, захватило весь дом. Во второй этаж какие-то мужественные люди потащили столы и стулья, у нас в столовой сердито застучал ремингтон. Прощай, серый высокий дом!
Выселение произошло без всяких нежностей: таких вещей, как предоставление выселяемым жилплощади, тогда не знали. Самое слово «жилплощадь» тоже было неизвестно: оно появилось много позднее, когда начали спрессовывать слова и жилища.
Комнату мы нашли себе сами в одной квартире, которая желала самоуплотниться. Наш новый дом был полной противоположностью старому: это было хилое строение на окраине города. Оно выглядело теплым и уютным, но из-под пола дуло так, будто в подвале были запрятаны ветры и сквозняки всей улицы.
Наступила зима отмороженных рук и ног и фурункулезов. Мы с Юлией Мартыновной решили печь пироги и продавать их через форточку. Одно из наших окон мы украсили соблазнительной надписью: «Здесь продаются пирожки и пончики». Подоконник мы покрыли белейшей салфеткой и поставили вазочку с нашими изделиями, чтобы прохожему захотелось есть. Кролики были оставлены за неимением места.
Первое наше тесто всходило медленно и тяжело. Оно вздыхало, томилось, пускало пузыри, пыталось привстать и снова падало. Мы тепло укутали его ватным одеялом, ходили вокруг него на цыпочках и говорили шепотом. Мы вложили в это дело столько почти белой муки, дрожжей и надежд, что страшно было подумать о неудаче. Мука и дрожжи были куплены на деньги Авеля Евсеевича, — таким образом, и он являлся пайщиком этого предприятия.
Все мы сидели вокруг теста и думали о нем. Киска бродила вокруг да около, нюхала воздух и говорила:
— Это очень вкусно пахнет. Дайте попробовать. Пожалуйста.
Но мы гнали ее прочь.
— Тсс, тише, — шипели мы на нее. — Не говори громко, не стучи. От твоего голоса тесто может сесть.
— Дрожжи плохие, вот в чем дело, — прошептала Юлия Мартыновна. — Все дело в дрожжах.
— В Египте, — возразил Авель Евсеевич, — да и вообще на Востоке не знают употребления дрожжей. Там пекут пресные плоские лепешки. Хлеб там пресен и скуден, потому что земля богата. Человек, избалованный роскошными урожаями, привык обращаться с хлебным зерном небрежно. Дрожжи — это измышление скудного севера, искусственно повышающее количество муки. Пышные северные хлеба...
— Авлисей, говори тише, — прошептала Киска. — От твоего голоса тесто может сесть.
В первый день мы продали шесть штук пирогов. На второй день у нас подгорела мясная начинка, и мы понесли убытки. Через неделю сделалось так холодно, что продавать через форточку стало невыгодно: тепла у нас при этом уходило больше, чем притекало денег. Продавать пироги на улицах или на базаре мы не решались: это было запрещено и строго преследовалось.
Обдумав создавшееся положение, мы решили шить детские чепчики и выменивать их на продукты. Выменивать было удобнее, чем продавать и потом покупать. Так, вероятно, рассуждали люди, когда впервые появились деньги.
Наш стол покрылся веселыми лоскутками, которые мы доставали всюду, где только можно было: из них мы шили чепчики и капоры. Мы украшали их обрывками кружев и цветочками из гаруса. Киска бродила вокруг да около, глядя на прекрасные кукольные платья, которые, по ее мнению, погибали так бессмысленно. Мы очень остерегались Киски, после того как она из лучшего нашего модельного капора сделала салазки для Джерри и прокатила их по двору, ухватив за шелковые ленты.
Чепчики наши пошли хорошо, но скоро у Юлии Мартыновны начались нарывы на правой руке: они шли от локтя вверх. Лечить их надо было хорошим питанием, которое было невозможно. Кроме того, надо было пить дрожжи, те самые, без которых прекрасно обходились в Египте и вообще на Востоке, — у нас без них обойтись было трудно. После Юлии Мартыновны у меня началось то же самое, только не в таких размерах. Один за другим нарывали пальцы, и это мешало работать.
Наши хозяева — старый газетный очеркист, оставшийся теперь не у дел, и его жена —переселились на кухню и топили там плиту. Это было неслыханным мотовством, о котором соседи говорили шепотом. У хозяина были подагрические ноги, которые никак не могли согреться, и плиту топили исключительно для хозяйских йог. Как только плита начинала остывать, хозяин становился на нее ногами, обутыми в валенки, и читал газету. Он говорил, что только в эти минуты по-настоящему живет.
Но сплошь да рядом, увлеченный бытом провинции, бывшим некогда его специальностью, наш хозяин становился на плиту слишком рано. И тогда едкий дым от тлеющего войлока полз по коридору и проникал к нам в комнату. Мы спасали от огня валенки и их обладателя, который при этом ворчал, что, как только он начинает ощущать приятную теплоту в ногах, приходим мы и отравляем ему жизнь. Хозяйская плита, входящая одним боком к нам, была для нас настоящим счастьем... Чем сильнее были приступы подагры, тем щедрее клали дрова...
Так называемой «высшей справедливости» не существует: она выдумана неудачниками, теми, которые сами не могут справиться с тяжестью существования. Но иногда обстоятельства складываются так, как будто справедливость эта есть на самом деле. В данном случае я подразумеваю подвалы. В то время как один из них, находящийся под нашей квартирой, едва не умучил нас простудами, второй подвал, «центросоюзный», скрасил нашу жизнь.
Одно из немногих учреждений — Центросоюз — отапливался центрально. Там сотрудники не сидели в шубах и не дули на покрасневшие пальцы. Но теплее, чем наверху, у машинисток, у бухгалтера и даже в кабинете уполномоченного, теплее, чем всюду, было внизу, в подвале. Отопление было рядом, трубы, наполненные горячей водой, шли вдоль потолка. Это было длинное помещение с узкими окнами, куда скудно проникал дневной свет: комната, напоминающая монастырскую трапезную, блаженное место, сыроватое, жаркое, с легким запахом бани.
В этом подвале была столовая Центросоюза. Здесь подавали на первое суп из ячневой крупы, на второе — ячневую кашу и на третье — ячневый кофе. Против двери было возвышение, нечто вроде ступеньки, куда ставили котел с супом. Это возвышение и было зародышем сцены.
Мало-помалу сцена выкристаллизовалась окончательно: она получила рампу, занавес, заднюю кулису, где был изображеи юноша с ястребом. По воскресеньям сотрудницы пели там злободневные частушки про заместителя уполномоченного, те самые частушки, из которых впоследствии развились «живые стенгазеты» и сложные клубные постановки с безбожниками, кооператорами и комсомольцами, втягивающими родителей в общественную работу.
Лева Симцис не поехал в Москву. Тщетно московские полотна ждали прикосновения его магической кисти, Анатолий Васильевич Луначарский тщетно спрашивал у своих секретарей: «А где же Лев Симцис, талантливый товарищ из провинции, которого я жду уже так давно?» Талантливый товарищ сидел без копейки денег: рыбачья артель не дала ему ничего, кроме крепкого загара и запаха рыбы. И то и другое изгладилось только к рождеству. Лева Симцис, побуждаемый к этому необходимостью, поступил в Центросоюз регистратором.
«Эх, зачем, почему наша жизнь проходит и тает?..» — напевала я песню, слышанную мной давным-давно. «Эх, зачем, почему...» — все снова и снова повторяла я, отделывая мехом шерстяной капор.
«Трр-трр-трр!» — затряслась дверь под чьими-то ударами.
«Не стоит вставать, — подумала я. — Постучит и отстанет. Кто может прийти и что может сказать? Все равно наша жизнь проходит и тает. «Эх, зачем, почему...»
«Тррр!» — угрожающе произнесла дверь, и петли заскрипели. Пришлось подняться и открыть ее.
Лева Симцис влетел, издавая восклицания. Слово «театр» мелькало отчетливее других. Когда все это прекратилось, я заметила, что Лева не один. С ним был Аркадий Грам, хитрый и веселый человек. Грам не любил, чтобы люди грустили: ему самому нельзя было отказать в умении создавать своеобразное и не вполне благополучное веселье, когда жизнь начинает казаться сборником неизданных анекдотов. У него было и остроумие, но какое-то отраженное: оно должно было оттолкнуться от чужой выдумки. Зацепив чужое словцо, Грам начинал нажимать на него, как пресс на виноградные выжимки. Получалось не вино — вино было выпито раньше,— но и это питье имело свою приятность. Аркадию Граму предназначалась роль режиссера в Центросоюзном начинании.
Лунатики и дети чрезвычайно смелы, но смелость их проистекает от неведения. Лунатик смело идет по карнизу, потому что спит; ребенок играет разрывной гранатой, думая, что это мяч. Лев Симцис был смел, как лунатик и ребенок, вместе взятые. Только этой двойной смелостью можно объяснить то, что он не побоялся взяться за театр.
Репертуар интересовал его меньше, чем постановка. Он мысленно видел себя с кистью в руке и в измазанном халате ползущим по лестнице куда-то вверх. Я даже подозреваю, что мысль о театре зародилась в нем от ненависти к юноше с ястребом, которого какой-то реалистически настроенный профан изобразил на задней кулисе. Сам Лева мечтал о левых постановках в трапециях и кубах.
Театр был зачат, и он родился. Как истое дитя переходного времени, он был полон противоречий и крайностей. Он вмещал в себя такие противоположности, как Анелю Костырько и товарища Покорного.
На Анелю Костырько приятно было смотреть, когда она молчала. У нее были волосы серебристые до седины, пышнее и легче инея, под которыми нежное лицо ее всегда казалось прохладным.
В прошлом товарища Покорного было тяжелое детство, девятьсот пятый год, арест, тюрьма, побег, эмиграция.
Труппа в количестве семи человек впервые собралась в подвале после обеда, когда запах ячневой крупы еще носился в воздухе. Все были серьезны. Казалось, все ощущают некий родильный трепет, неизбежный при рождении.
Для меня все это было особенно важно. Сравнительно недавно выяснилось, что, регистрируя продовольствие для общественных столовых, я не могла быть полезна родной стране. Затем я читала учителям и учительницам о финикийских купцах — это было уже лучше, но и это кончилось очень скоро. А между тем мой бывший начальник, продовольственный комбриг Шуляк, недаром ведь постукивал карандашом меня по лбу, говоря: «Что у вас тут жужжит? Может, что нужное нам». Теперь снова представлялся случай выяснить, что там «жужжало» и «жужжало» ли вообще.
Полудетские воспоминания, связанные с театром, хранили в себе нечто вполне трогательное. Это были воспоминания о пьесе «Во дворе, во флигеле» Чирикова, разыгранной гимназистами и гимназистками на дачной сцене, освещенной свечами и керосиновой лампой. Комары тучами летели на свет и липли к загримированным щекам. Занавес из простынь на кольцах задергивался нехотя. Во время спектакля рядом в цветнике распускались ночные цветы и квакали лягушки. Тогда мы знали, как играть и, главное, что играть. Теперь мы не знали ни того, ни другого.
— Госп... товарищи, прошу внимания, — начал Аркадий Грам.
Все умолкли, и даже Анеля закрыла свой маленький свежий рот, которым она произносила тысячу глупостей в минуту.
Грам произнес небольшую, но ловко придуманную речь. Он упомянул о том, что в стране война, что в то время, когда бряцает оружие, музы молчат (так говорили римляне). Но что в данное время война идет на убыль, уже настает время заговорить музам и что Талия имеет такое же право голоса, как и остальные.
— Простите, я перебью вас, — сказал товарищ Покорный, напряженно слушавший Грама. — Кто, вы говорите, имеет право голоса?
— Талия, муза театра.
— Ага, — снова сказал товарищ Покорный и, опустив голову, стал смахивать остатки пищи с Центросоюзного стола.
Грам продолжал. Он указал на то, что в центре, в Москве, революционные зрелища стоят уже на должной высоте, но что мы вследствие своей оторванности должны начать всю работу сначала и прежде всего найти собственный репертуар.
— Я все время повторяю, — взорвался Лева, — что необходимо ехать в Москву. Но так как обстоятельства против, то надо попытаться наладить все это здесь. Нет пьес? В чем дело? Мы сами напишем их.
Все посмотрели друг на друга, и никто не произнес ни слова.
Потом говорил товарищ Покорный:
— Товарищи, я здесь, так сказать, со стороны человек. Но театр я всегда любил, и если бы не то, что время революционное, я был бы теперь, я так полагаю, известен на сцене. Я, когда еще мальчишкой был, все думал об этом, но опять-таки времени не было: то завод, то кружок, то прокламации распространять.
— А вы бы, — сказала Анеля, — их не распространяли. Их можно было бы по почте посылать, а вы в это время могли бы заниматься любимым делом.
— Надо вам сказать, — продолжал, воодушевляясь, товарищ Покорный, — как это у меня первый раз получилось с театром. Было мне дано поручение от наших бросить с галерки прокламации. Пришел я в театр в первый раз в жизни, а было мне шестнадцать лет. Пришел, билет у меня, все как следует. А на сцене, в театре, «Кармен» идет, опера. Как запела она, эта женщина, эта Кармен... Соблазняет офицера, во рту цветок, желтый платок на ней. Простая работница, на фабрике работала,— это меня и расположило к ней. И так я заслушался, загляделся, залюбовался на нее, что забыл о своем деле. В первый раз в жизни забыл. Одни товарищ в партере сидел и должен был мне знак подать. Так он потом рассказывал, что едва ума не лишился. Вынул платок носовой, как было условлено, махнул им до неосторожности ясно, а я — ничего. Потом только спохватился. В тот раз меня и арестовали. Был я потом еще два раза в театре, — продолжал товарищ Покорный. — Как только из тюрьмы вышел, в театр пошел. «Аиду» видел, это хорошо. А вот «Онегин Евгений» слабовато. Совсем слабо.
— Почему? — спросили мы удивленно.
Но товарищ Покорный не понял нашего удивления и, наоборот, сам удивился:
— Как почему?
И он пояснил нам, что Аида — угнетенная рабыня и что на ее примере ясно видно, к чему приводит эксплуатация правящих классов. Что же касается «Онегина», то эта дворянская любовная история мало интересна.
Это был, видимо, настоящий классовый подход к искусству, который до сих пор был нам неизвестен.
Товарищ Покорный выразил желание, чтобы пьесы у нас ставились, «созвучные эпохе и вполне революционные». И еще была одна робко высказанная просьба: чтобы нашлась для него ролька с пением на басах, потому что «верхи у него не выходят».
В этот день новый театр оформился окончательно. У него обозначилось лицо, он получил имя: звали его «Созэп», что означало «Созвучный эпохе». Он начал дышать, молодой «Созэп», сын четырех отцов и трех матерей, потому что труппа состояла из семи человек.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Одного человека спросили:
— Почему вы живете так сложно и хлопотливо? Зачем в вашей жизни столько поступков и встреч? Зачем?
Он ответил:
— Я консервирую воспоминания. Впоследствии вся сложность и хлопотливость испарятся, как посторонняя примесь. И останется крепкий и чистый жизненный экстракт, которым я буду питать свою старость.
Я не принадлежу к поклонницам этого человека. Его скептическая мудрость и расценивание юных дней, как продукта для консервов, мне чужды. Кроме того, сама эпоха заботится теперь о том, чтобы снабдить нашу старость целым ворохом трогательных и грозных воспоминаний.
Но с «Созэпом» случилось именно то, что предсказал неизвестный: все плохое отлетело от него. Забыты все подготовительные муки, остались в памяти только достижения.
Мучительность репетиций, которые не шли, а стояли на месте, когда все не ладилось, когда исполнитель никак не мог войти в свою роль, а суетился где-то сбоку, когда товарищ Покорный хотел спеть тоном выше и не мог, а Анеля Костырько могла бы разговаривать тоном ниже, но не хотела. Все это забыто теперь, остались в памяти только достижения, удачи, славные минуты, когда спектакль шел как по маслу и переполненный театр (двести пятьдесят зрителей: такова была его вместимость) аплодировал нам изо всех сил своих пятисот ладоней.
На первом собрании в своей вступительной речи Аркадий Грам доложил, что в центре, в Москве, революционные зрелища стоят на должной высоте, но что мы вследствие своей оторванности... и так далее. Мы были рады узнать, что Москва так хорошо устроена, но нам было от этого не легче.
На том же заседании Лева Симцис, не знающий сомнений, бросил крылатое слово о том, что — в чем дело, если нет пьес, мы напишем их. И мы написали.
Говоря по совести, далеко не все написанное нами было вполне созвучно эпохе. Положительно, были отклонения от правильной линии, но это объяснялось тем, что мы каждую неделю давали новую программу: ведь публика у нас всегда была одна и та же. Каждую неделю!.. За это многое простится.
У нас, особенно вначале, был смутный репертуар, похожий на испорченный негатив. Пьесы писали мы с Грамом, и тут-то я сделала открытие, что Шуляк, мой бывший начальник, был до известной степени прав: во мне «жужжали» ненаписанные вещи, и как только я коснулась пером бумаги, мне как будто легче стало жить. Почему же я не делала этого раньше, гораздо раньше, когда еще не было в помине веревочных туфель и шерстяных чепчиков, когда у меня было столько ничем не омраченного досуга и лампа из-под абажура бросала ровный свет, не задуваемый ветрами? Я думаю, оттого, что мне слишком хорошо жилось и без писаний.
Счастье утомительно, оно неэкономно тратит свет и тепло души, ему все равно, что будет потом: после него хоть потоп. Расходы на творчество и на счастье нам не всегда по силам, потому что источник средств один и тот же, и мы выбираем что-нибудь одно.
В детстве я писала стихи. Я писала их, отбивая ритм мячом, вечером, в полутьме. Точнее говоря, я не писала их, а придумывала. Я хорошо помню большую комнату — отцовский кабинет, где темнеет. Рядом столовая: там свет, там голоса, там на подносе чайник с чашками, как утка с утятами, плывет, уплывает в чайное море.
Но что сказать о кабинете, где вспыхивают тайны? Я кружусь на небольшом пространстве пола, мяч трепещет у меня в руках. Месяц плывет за окном, тучки висят на нем. Мяч у меня такой, что нельзя рассказать какой. Та-та-та-там, и вот — мяч по ковру идет. Та-та-та-там-та-тит — мяч над столом летит. Летит и разбивает нечто стеклянное на письменном столе моего отца.
Из столовой приходят и говорят, что разбита чернильница, что стыдно мне, что мяч у меня отберут и в кабинет вечером не пустят. Поздно, поздно: мне не стыдно, яд проник в меня, стихотворение уже написано. И как только за мной перестанут следить, я снова удеру вечером в комнату, полную тайн, буду играть в мяч, напишу второе стихотворение и, быть может, разобью вторую чернильницу.
Я писала стихи не только в детстве, — я писала их в юности, в тревожной юности, когда рифмы слетаются, как пчелы, на ученическую тетрадь. То было время расцвета декадентов, когда вокруг зеркал обвивались фигуры девушек фисташкового цвета, состоящие из рук и волос. На уроке физики я писала стихотворение о водяной лилии:
Больной, тяжелой головой
Она склонялась над водой.
Больной, тяжелой головой...
— Мадемуазель, — вкрадчиво говорит наш физик, наша гроза, — что вы мне скажете о рычаге второго рода?
Молчание. Вздох. Единица... Потом писание стихов прекратилось на долгие годы.
Аркадий Грам, простите меня. Я пустилась в экскурс, в туманную область прошлого, в то время как вы сидите один над чистой страницей и обдумываете первую программу для «Созэпа». А ведь мы должны сделать это вместе.
Для первого раза мы написали вещицу, которая нам казалась острой сатирой. Дело происходило в Ноевом ковчеге, приплывшем в наше столетие. Там фигурировали звери, буржуи и пролетарии.
Мы с Грамом писали торопясь, ночью. Чтобы окончательно не изнемочь в муках творчества, мы приготовили себе чай на всю ночь. Чайник с чаем мы нежно завернули в одеяло, накрыли двумя подушками, чтобы дольше хранить драгоценное тепло.
Но в конце первого акта настала минута такого изнеможения, что Грам кинулся на кровать и, перевернув подушки, сунул их под свою усталую голову. И тепловатый чай охладил пылающие виски драматурга.
Открытие «Созэпа» произошло в одну из суббот. Отпечатанные программы были нам не по средствам: написанная от руки афиша, как меню дешевых столовых, висела у входа в театр. Занавес отдернулся, и первые два ряда зрителей выступили из мрака. Легкий ропот прошел по рядам при виде елки на сцене, необходимой по ходу действия.
Никто из присутствующих, конечно, не предполагал, что он увидит настоящую елку: это было бы чересчур наивно. На сцене зеленело картонное дерево, взвихренное бурей возмущения...
Спектакль начался. Рыжий музыкант, член нашего коллектива, встретил появление елочных огней бичующей музыкой, мало приятной для слуха, — но ведь это была сатира.
За правой кулисой, незанятый в пьесе и вследствие этого обремененный обязанностями помощника режиссера, волнуясь, стоял товарищ Покорный с тетрадкой в руках.
Пьеса не понравилась. Сочетание текста и оформления дало редкий по неприятности эффект, очевидно вполне оцененный публикой. Конец был встречен недоброжелательным гулом.
В маленькой задней комнате, где все мы одевались и гримировались, товарищ Покорный среди общего гнетущего молчания высказал мысль, что «спектакль, так сказать, провалился».
Совместное творчество мое и Грама было признано мало удачным. Отныне стихия сатиры и стихия лирики были отделены друг от друга, и каждая получила своего изобразителя; нужно ли добавлять, что на мою долю пришлась лирика.
Вторая наша программа была удачнее: она состояла не из одной вещи (опыт показал нам, что это слишком рискованно), а из нескольких. Она была построена по принципу непроницаемых отсеков судна. Возможная неудача всей программы локализовалась отдельными самостоятельными номерами.
Но сначала о Граме: Грам внезапно развернулся пышным цветом, и я почти не узнавала его. Этот холодноватый и насмешливый человек, выбиравший себе «любимых девушек» с точки зрения продовольствия, которое они могли ему предложить, этот умелый рассказчик анекдотов и любитель поспать, с каждым днем утрачивал свою насмешливость и свою сонливость.
Первая же неудача уколола его: сначала медленно, потом все быстрее и быстрее с него сползало его безразличие, его ленивенькая, холодноватая шкурка. Под ней открылся подлинный жар и умение работать. Он превзошел самого себя, он следил за всем и за всеми. Он ослепил нас разносторонностью своих талантов: он дерзал даже на хореографические постановки. На одной из репетиций совершенно неожиданно он встал на носок правой ноги, а левую отвел назад, в воздух. Руки его были простерты вперед, а клетчатая куртка, сшитая из пледа, приобрела упругость паруса. Он был в коротких брюках и суконных обмотках.
— Раз, два, три, — сказал он. — Потом вы поворачиваетесь вправо, и снова — раз, два, три — уже в эту сторону. Поняли? Когда я скажу «и», начинайте.
Танцующая пара выполнила его требование, и все увидели, что он прав.
Использовав пребывание товарища Покорного на французских и английских заводах, Грам придумал ему прекрасный выход с пением на басовых нотах: песню старого матроса, пересыпанную иностранными словами. На женщин Грам начал смотреть с точки зрения их полезности «Созэпу», и даже Анеле, прекрасной Анеле, он сказал:
— Вы здесь для того, чтобы играть, а не разводить улыбки.
И Анеля заиграла, потому что была далеко не бесталанна.
Вся наша труппа, вся семерка заболела любовью к «Созэпу». Это была настоящая любовь, с нежностью, с порывами страсти, с ревностью к другим театрам, с бессонными ночами и самозабвением. Достаточно было взглянуть на жену Грама, нашу костюмершу, когда она, бледная от вдохновения, непричесанная и неумытая, вдувала жизнь в старые отцветшие тряпки.
Она одевала нас необычайно, но костюмы ее обладали только одним недостатком: сшитые воегда наспех и в крайней экзальтации, они были непрочны. Они жили один вечер, даже меньше. Иногда здесь же, на сцене, они распадались на две половники, и актер выпадал из своей одежды.
Бывало и другое: так как запасы ткани были до смешного незначительны, то жена Грама придумала делать костюмы только наполовину, на «фасад», которым актер обращен к зрителю. Были такие счастливые роли, когда не нужно было поворачиваться.
— Вы поворачиваетесь? — Это был кардинальный вопрос, интересовавший нашу костюмершу.
— Нет, не поворачиваюсь, — ответствовал вопрошаемый.
Но по ходу действия, увлеченный огнями рампы и волной сочувствия, плывущей из зрительного зала, исполнитель все же поворачивался. И тогда зрители бывали потрясены разительным контрастом: роскошно одетая грудь — и спина, на которой перекрещивались бечевки.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
На главной улице города, в доме без вывесок, в большом, пустом и холодном окне затеплилась жизнь. Окно это пустовало два года. Трещина от метко пущенного камня или пули паутиной расползлась по стеклу. За стеклом, внутри магазина, были пустота и разорение, на прилавке лежала бочка.
Теперь бочка была убрана, окно промыто. Там были разложены два куска мыла, мужские подвязки, копченая колбаса и альбом для открыток. Это было начало нэпа. По вечерам все эти предметы освещались кухонной лампочкой.
Облик города постепенно менялся: проступали если не прежние, то, во всяком случае, знакомые черты. Сначала робко, а потом все увереннее начали появляться вывески: на лицо города были наведены брови. Первый трамвай, неумело и нечетко останавливаясь на остановках, пошел по самой важной линии. На два часа в день начали давать воду во все этажи. И наконец — о радость! — в квартирах зажегся свет, хотя и не везде сразу. Город был разбит на районы, каждый район получал свет по очереди, и люди ходили вечером в гости туда, где было светло. Позже всего и труднее всего начинали работать лифты.
Мепялся не только самый город, но и его обитатели. На смену сапогам шли хотя еще грубые, но уже башмаки, на смену платкам — шляпы. И, наконец, первая котиковая шубка поплыла по бульвару в светлый морозный день.
У профессоров завелись рукавицы, и их пальцы, защищенные от холода, увереннее держали кульки с академическим пайком. В переулке позади театра открылся первый ресторан.
«Созэп» приобрел новую публику. Она просачивалась неизвестно откуда. Это были родственники и друзья сотрудников и друзья их друзей. Раньше все было определенно у нас в театре: аплодисменты, если они были, долетали к нам спаянные в один крепкий шум, словно град. Теперь все распалось на отдельные градины. «Очень мило», — произносили то тут, то там снисходительные голоса. Неторопливые руки укладывались: левая вниз неподвижно, а правая наносила на нее легкие мазки одобрения. Это были аплодисменты.
Видя все это, товарищ Покорный томился.
— Ох и публика, ну и публика же пошла! — вздыхал он. — Вон один сидит в третьем ряду, вон платок вынул. Такой что хочешь сделает. Такой тебе и цветочки на сцену послать может в случае чего. Фиалочку в петлицу.
Сказал товарищ Покорный — и сбылось. Неизвестные руки подали нам на сцену корзину — правда, не фиалок, но гортензий. Пышные, словно накрахмаленные, цветы были перевиты шелковой лентой, рыхлая земля прикрыта мхом. В цветах лежала записка: «Молодым женским дарованиям «Созэпа» от постоянного посетителя».
После спектакля вся труппа столпилась вокруг гортензий.
— Бездарные веники, — первым высказался Лева Симцис. — Не сомневаюсь, что скоро будут придуманы новые цветы, основанные на понимании фактуры, а не на анархии природы.
— Недурная корзина, — одобрительно заметила жена Грама. — Мы выкрасим ее и сделаем каску для обозрения.
— Можно попытаться выменять ее на сметану, — сказал практический Грам, очевидно имея в виду наступающую масленицу.
— Это настоящая сказка, — воскликнула Анеля, — тем более прекрасная, что она посвящена женщинам!
Товарищ Покорный молчал.
В тот же вечер, выходя из театра, мы с Анелей наткнулись на толстого, розового человека в инженерской фуражке. Его добротное суконное пальто было распахнуто, из-под него выглядывал прекрасный костюм. Он стоял у фонарного столба и, очевидно, ждал нас.
— Э-э... простите, пожалуйста, — сказал он, и голос его был такой же выпуклый, как и глаза.— Я хотел бы... я чрезвычайно счастлив приветствовать молодые женские дарования «Созэпа». — Он расшаркался перед Анелей и мной. — Разрешите представиться: инженер Альберт. Может быть, слыхали: Альберт, фабрика сельскохозяйственных орудий. Бывшая, конечно.
Анеля просияла, как роза, опрысканная дождем. Увидя эту улыбку, Альберт в свою очередь улыбнулся. Уверенно и спокойно он взял Анелю и меня под руки.
— Ну, я очень рад, что вы такие простые и милые, — сказал он. — По этому случаю мы немедленно, сейчас же, сию же минуту, отправляемся в кафе «Куб», здесь же, рядом, и заказываем блины. Мы заказываем блины, — перебил он меня, видя, что я собираюсь возражать,— и три маленькие рюмочки рябиновой, которые мы пьем за нашу дружбу.
Потом все пошло очень быстро: черная холодная улица мелькнула поворотом, одним и другим. Сплошные темные здания как бы раздвинулись, давая место маленькому, очень теплому, ярко освещенному окну. К этому окну полагалась дверь, и все это вместе представляло собой кафе «Куб» — первый ресторан периода нэпа.
У двери, на мостовой, сидела женщина с ребенком.
— Я голодная, я голодная, я голодная, — повторяла она глухо и монотонно.
В кафе «Куб» было тепло, в кафе «Куб» было светло, в кафе «Куб» играла музыка. «Миллион арлекина» играла музыка — сладкий вальс-бостон. И этот миллион этого арлекина растекался золотом по тарелкам и по стаканам. Хозяин кафе, подергиваясь легким тиком, расхаживал посреди столиков и бережно склонялся к посетителям. Подойдя к нам, он дохнул нежным шепотом в ухо Альберта.
— Есть икра, — прошелестел он, — зернистая икра.
В углу на столе стояли поразительные вещи: красные раки, посыпанные зеленью, серебристые кильки, свернутые на половинке яйца, окорок и апельсины в вазе.
В двенадцать часов дверь прикрыли наглухо, занавесили окна, скрипач вынул из кармана сурдинку, пианист прижал левую педаль, и виолончель притаила голос. С этого часа надо было стараться не производить шума.
Мы выпили три маленькие рюмочки рябиновой и принялись за блины. Я знала, что мне необходимо встать и уйти. Я вообще не понимала, почему я здесь, но я не могла перестать есть. Первый раз за много месяцев я ела такую необычайную и благоуханную пищу.
Сквозь туман блинов и музыки ко мне доносились слова инженера Альберта. Он говорил:
— У меня была фабрика сельскохозяйственных орудий, моя специальность — плуги, по по существу я поэт. Я люблю театр, музыку, искусство. Театр близок мне. Я прежде всего эстет. Да здравствуют молодые женские дарования! (Он выпил рюмку вина). Что я имею против Советской власти? Ничего. Что можно иметь против идеи равенства, которая безусловно прекрасна? Рабочий тоже человек. (Он проглотил блин). Ти-ри-ра! — запел он вместе с арлекином. — Но все это в будущем, мы еще не доросли до этого. Наша страна дика. Не думайте, что во мне говорит жестокость предпринимателя: я очень добр. В детстве я был до смешного добрый мальчик. Когда мучили кошку, я плакал. Мой отец говорил про меня: «Что вырастет из нашего мальчика? Наверное, меценат». Как видите, он оказался прав, мой старик. Кушайте, не стесняйтесь. Человек, еще сметаны! — Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза, покачиваясь в такт вальсу. — Но, между прочим, я хотел сказать вот что: я хотел бы субсидировать ваш театр. Вы все очень талантливы, очень молоды, в вас столько огня. Но ведь вы, простите меня, просто дети. Вы сидите в подвале, в то время как вам надо быть на поверхности. Дайте мне вмешаться — и получится вместо забавы коммерческое дело. С вашей помощью, — обратился он к Анеле и ко мне, — мы сделаем такие, ого-го, дела! Однако позвольте... разрешите...
Он положил салфетку и прислушался. Какое-то движение прошло по всему «Кубу». Музыка сразу прервалась. Цветные бутылки на полке исчезли неизвестно куда, прямо под пол. Сквозь занавешенное окно стали доноситься какие-то голоса и шорохи. Стало совершенно ясно, что несколько человек окружили «Куб» и что они сейчас постучат.
— Облава! — простонал хозяин.
Нас втиснули в темный проход, холодный, пахнущий мышами и котами. Там мы стояли, прижавшись друг к другу, покуда в помещении кафе хозяйничали спокойные, властные люди.
— В чем дело? — спросила Анеля недостаточно тихо. — Что такого мы сделали? Мы ели, пили, говорили о театре. Неужели нельзя говорить о театре? Вы же не против Советской власти, вы сами сказали...
— Тише, черт вас возьми! — зашипел на нее в темноте инженер Альберт. — Неужели нельзя говорить тихо! Я не против Советской власти, но Советская власть против меня, понимаете вы это...
Я шла ночью домой, одна, через весь город. Путь этот был так долог, что я успела обдумать всю свою жизнь. Первые несколько улиц я потратила на детство, следующие — на юность. В начале Канатной улицы я уже думала о своем недавнем прошлом.
«Чепчики, отделанные мехом... — думала я. — На Востоке обходятся без дрожжей...»
На улице Белинского я занялась настоящим.
«Если инженер Альберт находит, что наш театр хорош, — думала я, — то, значит, нужно как можно скорее закрыть его».
В Обсерваторном переулке я перешла к будущему. У каких-то ворот я села на скамью; глубочайшая ночь, еле окропленная звездами, лежала вокруг. Я села на скамью, и тотчас же из-под ворот вылезла собака. Из-за темноты она не имела цвета, почти не имела формы, и только мерное колебание на одном ее конце доказывало, что здесь — хвост. Она села рядом со мной и зевнула... Таким образом у меня оказался собеседник.
— Так вот, — начала я, — как же теперь быть? Что бы ты мне посоветовала? — Собака молчала.— Я верю теперь, — продолжала я, взяв ее за большое теплое ухо, — что я могу писать. Я написала несколько вещей, которые... одним словом, это не так уж плохо. Я написала их для театра. Но самый-то театр — игрушка. Очень надоели игрушечные вещи, ты знаешь. Хорошо бы делать что-нибудь настоящее. Многие едут в Москву, — продолжала я после паузы. — Там много журналов, газет. Что ты скажешь?
Собака, положив морду ко мне на колени, молчала.
С той минуты я начала думать о Москве.
Бывает так, что одна какая-нибудь мысль овладевает одновременно многими умами и многими сердцами. В таких случаях говорят, что мысль эта «носится в воздухе». В то время повсюду говорили и думали о Москве. Москва — это была работа, счастье жизни, полнота жизни.
Едущих в Москву можно было распознать по особому блеску глаз и по безграничному упорству надбровных дуг. А Москва? Она наполнялась приезжими, расширялась, она вмещала, вмещала. Уже селились в сараях и гаражах — но это было только начало. Говорили: Москва переполнена,— но это были одни слова: никто еще не имел представления о емкости человеческого жилья.
Наш хозяин, газетный очеркист, был стар и немощен, но с тем большей жадностью он читал газеты. Он умел их читать как никто, извлекая из них все сведения, все соки. Цвет и качество бумаги, типографская краска, система верстки говорили ему больше, чем самые буквы.
Газета выходила по-разному. Иногда это была тонкая розовая бумажка, в которую раньше заворачивали цветы. Иногда, наоборот, толстая бурая бумажища для больших свертков. Иногда буквы еле касались чрезмерно гладкой поверхности, и тогда газетные сведения как бы реяли над газетой. Иногда шрифт глубоко впивался в бумажную рыхлость, и тогда газету можно было читать на ощупь, как это делают слепые.
Вскоре после блинов в кафе «Куб» я возвращалась домой с репетиции. В этот день товарищ Покорный жестоко рассорился с Аркадием Грамом из-за репертуара. Положительно, миленький маленький «Созэп» начинал чувствовать себя гусеницей, из которой должно было вылупиться неизвестно что: в таком виде он не мог больше существовать.
Я шла. Луна всходила над домами, большая, пылающе-красная; облака стали дымными и золотыми. Пламя луны становилось все больше, оно все разрасталось, как пожар, а самой луны не было видно. И внезапно я поняла, что это и есть пожар.
— Пожар, пожар! — кричали мальчишки, несясь во весь опор к месту происшествия.
Горел наш маленький хилый дом на краю города. «Беда, беда!» — кричали дымные галки над крышей. Ветер завивал пламя то в одну, то в другую сторону; у дома выросли рыжие космы, которые метались от ветра.
Все произошло от хозяйских валенок на плите. Слишком интересна была в тот день газета, слишком далека жена, слишком горяча плита. Результатом всего явился пожар. У нас сгорело почти все. Чужие люди выхватили Киску из горящих подушек, пока Юлия Мартыновна, полузадушенная дымом, медленно приходила в себя в соседнем доме.
От страха Киска потеряла голос. Она пахла горелым, лицо было в саже, невытекающие две слезы стояли в ее глазах.
— Джерри сгорел, — наконец сказала она. — И Юля, кажется, тоже.
Теперь у меня ничего не осталось: разрозненные и неузнаваемые вещи были разбросаны по двору.
Страшнее всех были подушки, полураздавленные и мокрые. Из их цветных оболочек, вместе с пухом птиц, уходило сонное тепло многих ночей, тепло гнезда, которое было теперь окончательно разрушено.
Нужно было начинать жить сначала, и лучше было сделать это в Москве, чем здесь. Пожар сыграл здесь как бы роль помощника. Можно сказать, что это он усадил меня в вагон и махнул на прощанье красным платком.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Вагон был суров: бока его потемнели от тысячеверстных путей. Если бы такой вагон был человек, то я бы сказала о нем, что это жилистый и упорный старик, могущий служить примером более слабым и молодым товарищам. Это был жесткий, кряжистый старик третьего класса, недавно побывавший в бане. Он был тщательно очищен от насекомых и смазан, полит и опрыскан смесью карболки, формалина и йодоформа — страшной жидкостью, от которой задыхались не только насекомые, но и люди.
Самый поезд был несколько необычен: он был мал, короток и состоял из трех наглухо закрытых товарных вагонов и вот этого, четвертого, о котором я уже сказала. Поезд вез в Харьков, в столицу Украины, украинские деньги, карбованцы, напечатанные у нас в юроде. Три вагона были набиты денежными тюками, а четвертый отдан охране.
Товарищ Покорный надоумил меня обратиться к начальнику охраны и попроситься к нему в вагон. Я отыскала начальника охраны на вокзале, где он крупно препирался с начальником станции о дне и часе отправки поезда. Оба начальника были замучены: у первого фуражка была надвинута на самые глаза, у второго сдвинута на затылок. И местоположение этих двух фуражек как нельзя лучше характеризовало позиции спорящих: один наступал, закрыв глаза на все препятствия, другой был приперт к стенке, но сопротивлялся.
Наконец, путем взаимных уступок, соглашение было достигнуто. И тогда выступила я и сообщила, что мне необходимо в Москву. Начальник станции, видя, что это его не касается, исчез. Начальник охраны поговорил со мной подробно.
— Это совершенно невозможно, — сказал он сначала. — Там должна помещаться только охрана, а если там будут посторонние, то какая же польза от охраны? Согласитесь, что, помещаясь в вагоне, можно произвести нападение изнутри. — Потом, поглядев на меня внимательно, он прибавил: — Да и вообще... не могу... неизвестные лица... ценности... мои ребята... В пути мы не застрахованы от неприятностей... — Он упомянул еще о шайках и бандах и заключил твердо: — Не просите, потому что это невозможно. — Он сдвинул фуражку со лба на затылок и обратно на лоб и прибавил: — Никак невозможно. Я Покорного знаю, вместе работали, но сделать никак не могу. По инструкции, данной мне, никак не могу. Да мы едем ведь только до Харькова.
— Ну, хоть до Харькова, а там уж как-нибудь.
— Как-нибудь... как-нибудь, — повторил он с неудовольствием. — Нет, не могу.
И тогда я пала духом. Начальник охраны стал лучистым и туманным, от него пошли колючие лучи: я моргнула и прихлопнула слезы ресницами, но они сейчас же вытекли обратно.
— Эх! — с досадой выговорил начальник. — Ну, уж это просто не знаю, как назвать. Я ведь вам по-русски говорю, что инструкция не предусматривает... Э-эх! — еще с большей досадой повторил он, видя, что слезы, не предусмотренные инструкцией, текут все сильнее. — Ну, тащите свои манатки, — заключил он, отвернувшись. — Сегодня вечером едем. Только чтоб я вас не видел и не слышал в пути. Ну, и кончено, ну, и довольно. Точка.
И вот он настал, час отъезда. Стараясь быть по возможности невидимой и неслышимой, я просила не провожать меня, но кое-кто все же пришел. Вот Юлия Мартыновна, вся в слезах, вот Лева Симцис, умирающий от зависти, что не он едет в Москву. Вот товарищ Покорный.
— Только не дрейфьте, только не дрейфьте, — повторяет он. — Устроитесь, чего там.
И, наконец, Авель Евсеевич, смутный и неясный, как смутен и неясен мой отъезд. В руках у него свертки, кульки, новый жестяной чайник. И отдельно от всего — пузырек с притертой пробкой, несомненно лабораторного происхождения.
Подозревая с его стороны желание сказать мне несколько слов наедине, я отвела его в сторону, в конец поезда. Там возле буфера я увидела, как грустны глаза Авеля Евсеевича. Там он вручил мне все сверточки и кулечки, повесил на руку чайник и передал пузырек. О пузырьке он сказал особо несколько слов.
— Лорд Байрон, путешествуя, — сказал он, — возил с собой серебряную ванну. В некоторых странах, в частности в Италии, это вызвало открытое возмущение. Добродушные и нечистоплотные венецианцы были потрясены развращенностью британского аристократа. К сожалению, я не могу вам предложить даже подобия ванны, хотя в настоящих условиях это было бы как нельзя более кстати. Поэтому я позволил себе принести вам жидкость, которая на девяносто процентов избавит вас от паразитов. Я изготовил ее в своей лаборатории, и мне кажется... я могу поручиться... — В этом месте голос его прервался. Он взял меня за руку и умолк.
Юлия Мартыновна прижимала Киску к сердцу.
— И каждый день ты будешь вспоминать Юлю, утром и вечером, — повторяла она, вытирая слезы. — И каждый день ты будешь аккуратно сама чистить зубы щеткой, утром и вечером. И каждый день...
Лева Симцис со смущенной улыбкой передал мне объемистый пакет, адресованный Наркомпросу. В нем заключался проект дешевой и быстрой раскраски общественных зданий в радостные цвета.
Я не смею утверждать, что это относилось ко мне, но родное небо плакало в минуту расставания. Крупные капли упали на крышу перрона. В запахе влаги и пыли как бы заключался аромат не родившихся еще трав. Снова наставала весна. И внезапно облака разошлись, и высокая нежная радуга, предвестница удачи, приподняла и раздвинула небо: один конец ее упирался в море, другой уходил в степи, далеко на северо-восток, туда, где была Москва.
Не по-теперешнему, не по-мирному, а слишком уж бездомно и раздольно загудел паровоз. Из руки моей, которой я махала на прощание, выпал зажатый меж пальцев чудодейственный пузырек Авеля Евсеевича, моего милого друга. Выпал и разбился о вокзальный асфальт, распространяя невыносимое зловоние. Секунду еще этот запах следовал за нами, а потом отстал. Дождевая ширь незасеянных полей как-то сразу наполнила вагон. И Киска прижалась ко мне бархатистой щекой, которую слезы разлуки и капли дождя овеяли влажной свежестью.
Путешествие обещало быть долгим. Нам предстояли станции, полустанки и разъезды, все это сравнительно тихое и безлюдное. Еще так недавно здесь перекатывались тяжелые валы шинелей, идущие с фронта. Здесь брали штурмом вагоны, наступали, отступали, падали, как в бою.
Нам достался конец вагона с двумя длинными скамьями и двумя короткими. Все остальное было отделено от нас: между нами и охраной была возведена стена из ящиков, мешков и кульков. Мы были одни. Одно из окон было забито фанерой, другое открывалось с трудом. Мы открыли его и долго смотрели, как, постепенно темнея, проходили перед нами степные пространства, потому что сторона наша степная, просторная сторона. Земля уже была подернута зеленью, она слегка кудрявилась: нетронутые лежали степи и ждали руки человека.
На первом же полустанке, где мы остановились, нам показалось, что нашего города не было, что нет нигде никаких городов. Возле полустаночного дома в неглубоком овраге протекала «криничка» — горсточка светлой воды, отражающая золотое закатное небо. В светлой глубине плыли облака и уходили под камыши. А камыш рос задумчивый, певучий. Пока мы стояли и начальник охраны, он же комендант поезда, снова имел какие-то объяснения с начальником полустанка, из травы вышел гусь с гусыней, и оба начали спускаться на дно овражка, к прозрачной воде. Гусь прошел первый, но пить не стал, а поджидал гусыню. Она шла медленно, оступаясь и выбирая дорогу, а он подбадривал ее снизу успокоительным голосом. Наконец гусыня сошла, они одновременно опустили клювы в воду, потом поплыли вместе прямо по облакам и золотому небу. И круги пошли по воде, как морщины у глаз, когда смеется старый и добрый человек.
Мы стояли так долго, что успело совершенно стемнеть, гусиное семейство отправилось спать, закат кончился и большие украинские звезды нырнули в камыши. У наших спутников зажгли огонь, сквозь щели к нам проник свет. Тогда и мы зажгли свечку, покапав стеарином на скамью, потому что вагон наш не освещался никак.
— Мам, — сказала Киска, — это наш дом. Тут наше все. Больше у нас ничего нет.
И правда, вагон был нашим домом, тут было наше все, и больше у нас ничего не было.
Мы были в пути уже несколько дней, у нас уже отстоялся быт: чтобы не жечь даром огня, мы рано ложились спать, мы умывались на станциях под краном и покупали у баб еду, которая подешевле. Светлый чайник — прощальный подарок Авеля Евсеевича — перезнакомился со всеми котлами и баками на станциях и, быть может, даже отметил мысленно кипяточные и бескипяточпые пункты, потому что были такие и этакие. Москва словно утонула, растаяла словно в этом раздолье страны. По вечерам охрана пела за ящиками, мы с Киской подпевали им. И хотя у нас с нашими соседями не было ни дружбы, ни вражды и даже голосов наших не было слышно в общем хоре, но нам было приятно, что мы поем. И так, через песни, мы всех узнали по голосам и даже определили характеры.
Будучи сжигаема жаждой деятельности и открытий, Киска, несмотря на мое запрещение, провертела пошире щель между охранными ящиками, с наслаждением глядела туда по вечерам и сообщала о всех поочередно: «Курит... Сапог снял... Достал хлеб... Снял второй сапог...» — пока я окончательно не запретила ей подглядывать и собственными руками не уничтожила щель.
Все шло хорошо, но на середине пути нас подстерегала беда.
— Вставай, Киска, — сказала я в одно утро. — На этой станции, по-моему, должен быть кипяток. Ну-ка, подымайся.
Но Киска не подымалась. Она припала щекой к чемодану, заменявшему ей подушку. Одна из ее толстых маленьких косичек тяжело, как мокрая, лежала вдоль лица, другая была закинута куда-то назад. Она ответила медленно и как бы сквозь сон:
— Я каждый день чищу зубы, Юля, но сегодня... не могу... я их потеряла.
Я тронула ее лоб, попыталась поднять ее: она была тяжела и горяча. Она не желала взглянуть на станцию и не интересовалась кипятком. Она была больна, — и что же мне было теперь с ней делать?
Я подозреваю, что щель между ящиками была мной уничтожена не окончательно или, быть может, впоследствии возобновлена и что не только моя дочь заглядывала в нее. В тот же день моим спутникам сделалось известно положение дел. И в тот же вечер, когда я, сидя в темноте возле тяжелой и горячей Киски, слушала равнодушный говор колес, охранная преграда без всякого предупреждения распалась от толчка с той стороны. Образовалась брешь, в которую неровно вплыл махорочный дым и теплый воздух, пахнущий кожей и шинелями, и начальник охраны переступил через мешки...
— У вас девочка больна, — сказал он, — так вот, не тиф ли?
— Буржуйские детлаки, они завсегда квелые. Ты на его дунь — он и скапутится, — произнес из глубины язвительный, нехороший голос.
— Ну и дурак, — возразил кто-то другой, тоже невидимый, но, несомненно, большой, медлительный и справедливый. — Сам-то ты от каких буржуев происшедши, а сколько в тебе тифов перебывало? Каково тебя корежило, забыл небось? Только бы языком трепать.
— Ну-ка, помолчите там, — опять заговорил начальник. — Гусятников, дай фонарь, есть у нас в углу, где винтовки.
Зажгли фонарь. Гусятников вышел из полутьмы, неся свет перед собой: это был тот самый человек, который вступился за Киску. Гусятников, как я и предполагала по голосу, был чрезвычайно велик, медлителен, сапоги его гремели, словно каменные. Он поднял фонарь над Киской и осветил болезненно слипшиеся ресницы и рот, подпухший и надтреснутый, как вишня. Начальник, придерживая тяжелую кобуру, стал рассматривать Кискину шею, нет ли сыпи.
— По инструкции, — сказал он, — если кто подозрительно заболевает в пути, того оставляют на ближайшей станции.
— Я так предполагаю, не сыпняк это, — решительно поставил диагноз Гусятников. — Простыла дивчина — и все тут. Рюмку водки если с перцем дать — как рукой снимет.
— Ну, как знаете, — сказал начальник, уходя. — До утра подождем, а утром, если что не так, ссадим.
— Товарищ Гусятников, — обратилась я к нему потихоньку, чтобы другие не слыхали. —Вы ей водки с перцем внутрь не давайте, не надо. А вот если у вас найдется что-нибудь спиртное, хоть немного, я вам большое спасибо скажу. Я разотру ее: мне тоже почему-то кажется, что это не тиф, а простуда.
Он молча, при неопределенном молчании остальных, принес мне какой-то жидкости в кружке и к этому еще небольшую твердую подушку в наволочке из алого бархата.
— Неловко ей лежать, — сказал Гусятников про Киску. — Вы что же это, даже подушки с собой не захватили: здесь вам не ресторан-салон, удобств никаких.
Я объяснила, что подушки сгорели во время пожара.
— Никакого разумения нет, — проворчал он. — Чем бы остричь девчонку, чтобы в дороге вошь не завелась, вы ей волосья отпустили. Обязательно постричь надо.
— Гусятников нянькой заделался, — зло засмеялся прежний голос, но никто не поддержал его. Гусятников не взглянул в ту сторону.
Я крепко натерла Киску принесенным спиртом и тепло укрыла ее. Испарина пришла наконец обильная, как дождь. Она смочила косы, ресницы, щеки и даже подушку кардинальского пурпура. И, ослабев от счастья, от почти невыносимого чувства облегчения, что это не сыпняк, что нас с Киской не оставят на захудалой станции в приемном покое, а не то просто на перроне переживать все фазы сыпного тифа, — я уснула так крепко, что утром, когда Киска сказала мне: «Вставай, мам. По-моему, на этой станции есть кипяток», — я едва приподняла голову и снова уснула.
В тот же день Гусятников коротко постриг Киску, сказав, что у него в деревне три девчонки и что он это умеет. Я была так благодарна ему за все, что не посмела протестовать. И Киска въехала в Харьков если не вполне безволосой, какой была некогда я после тифа, то коротко остриженной, с косым пробором и чубом на лбу, как самый лихой запорожец.
Из Харькова в Москву шли уже пассажирские поезда. Движение было еще не регулярно, оно только еще начиналось. Первые два поезда пошли совсем недавно, и о них говорили с удивлением и восторгом. Мы попали в третий. Он был набит; на полках для вещей спали люди, на каждой скамье сидело по трое человек. Посадка была мучительна, пассажиры лезли в окна, контроль в пути требовал не билетов, которых не было вовсе, а удостоверений и командировок. В вагонах не было ни огня, ни воды. И все же порядок уже реял над всем этим.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Леса, леса бежали вдоль поезда. Острые черные ели врезáлись в медовое северное небо. Солнце только еще всходило, весна только еще начиналась. Мы подъезжали к Москве.
Брянский вокзал, недавно законченный, встретил нас величаво и строго. На его каменных плитах шаги отдавались, как в музее. Была чистота. И хотя урн еще не было, но светильники под потолком лили свет на каждый окурок, за который полагался уже штраф. Два худеньких наших чемодана, да и мы сами растворились в этих холодных просторах... Мы здесь не знали никого, и нас не знал никто. Все было озабоченно и полно в этом городе, и все же нужно было отвоевать себе здесь место. Мы сели в трамвай номер четвертый. Выносливость московских трамваев велика, выносливость приезжих — тоже.
Мы претерпели все, что нам полагалось, получили свою долю испытаний. Мы ночевали в неведомых квартирах, у людей, желавших нам добра, но бессильных помочь. Первая неделя прошла в странных ночевках: ни одна ночь не походила на предыдущую. Мы ночевали в чужой спальне из дерева «птичий глаз», в одной кровати с пышной хозяйкой, чей муж уехал в глубь страны спекулировать мануфактурой. Атласное одеяло с монограммой баюкало нас лебяжьим теплом, но это было чужое одеяло, чужая монограмма и чужое тепло. Ночевали в комнате, разделенной шкафами и занавесками на четыре комнатки. Ситцевые стены колебались от чужих дыханий. На диване спали мы.
Ночевали у зубного врача в его кабинете: я — на узкой клеенчатой кушетке с твердым валиком, Киска — на зубоврачебном кресле, откинутом навзничь, как во время операции. Бормашина сторожила ее сон.
После этого мы провели два дня в подвальной квартире, откуда видны были только ноги и колеса, торопливые московские ноги и колеса, бегущие по своим делам. Бездомные псы, которые в голодные годы почти все были уничтожены и теперь только начали возрождаться, заглядывали в открытую форточку: собаки очень любопытны.
После подвала мы попали на седьмой этаж. Толпы крыш подступали к нашим окнам, вся Москва лежала под нами. Воробьевы горы розовели за рекой. Здесь, на седьмом этаже, мы обосновались...
Трудно сказать, чем руководствовался строитель этого здания, за что покарал его так жестоко, лишив лифта и даже надежды на лифт. Но дело обстояло именно так: никаких подъемных средств в этом доме не было и не предвиделось, и сто девяносто шесть ступеней, отделяющие тротуар от нашего звонка, были утомительны для ног и тяжелы для сердца. Здесь были коты: они пели и плакали на крышах, потому что была весна.
Мы поселились у фельдшерицы, которая нуждалась. Пиявки, банки и прививки не могли прокормить ее, и те небольшие деньги, которые мы платили ей за половину комнаты, отгороженную портьерой, облегчали ей жизнь. Уже потом, почти через год, мы получили самостоятельную комнату в этой же квартире. Комната была мала и ничем не обставлена. Она освещалась двумя большими окнами — ее единственной роскошью: так иногда худенькое личико невзрачного ребенка бывает освещено и украшено огромными прозрачными глазами.
Наша фельдшерица была невелика ростом, очень плотна, говорила баритоном, курила крепкий табак; от ее поступи сотрясалась мебель. По вечерам она рассказывала Киске истории из жизни пиявок, которых она изучила в совершенстве. Оказалось, что пиявки не любят холодной воды, не любят запаха эфира и пахучего мыла, — у них была своя жизнь. Кот, по имени Терентий, присутствовал при этих беседах.
Остальное население квартиры было велико и разнообразно. Все сходились по утрам в кухне, у раковины, с полотенцами через плечо. В ванной комнате было две ванны: одна простая и одна газовая, но пользоваться нельзя было ни одной.
В соседней с нами комнате жил эстрадный актер. Он выступал в ночном кабаре от часу ночи до четырех часов утра; днем он спал. Иногда на рассвете он возвращался не один, и тогда рядом с его шагами шелестели вторые, легкие шаги. Стена была тонка, и сквозь нее доносились слова любви.
— Что вы будете делать завтра? — спрашивала она.
— Благоговея, ждать вас, — отвечал он.
Разговор о любви неукоснительно кончался сожалением по поводу того, что обе ванны бездействуют.
Дальше по коридору жил человек совсем другого склада. Он раньше всех приходил на кухню умываться, для него по утрам призывно трубил автомобиль, в его комнате висели диаграммы (кривые падали и возносились), он служил в Комиссариате путей сообщения.
Северная весна наполняла квартиру бледной солнечной пылью, вместо ночи были закатные сумерки, неизвестные у нас на юге. Рассвет наступал в два часа и долго тлел, не разгораясь. Москва внизу была бледна и пуста, кот Терентий пел на крыше, могуче дышала фельдшерица.
— Что вы будете делать завтра? — спрашивали за стеной.
— Благоговея, ждать вас.
Из всего этого я написала свой первый рассказ. В нем была пустая Москва, кот Терентий на крыше, фельдшерица, актер, подруга актера, человек из НКПС — пучок разнообразных жизней, связанных северной ночью, которая не хочет темнеть.
Рассказ был еще тепел и влажен, как птенец, и таким я отнесла его в редакцию. Я долго думала над тем, в какую именно; я внимательно пересмотрела московские журналы, их оболочку, их содержание и выбрала небольшой еженедельник, в котором помещались рассказы, похожие на мой, только похуже: пишущему часто кажется, что остальные делают то же, что и он, только не так хорошо. В приемный день (четверг, от четырех до шести) я отправилась в редакцию.
Редактора не было, он был в отпуске. Меня принял секретарь, и я была подавлена величием секретаря, который всегда тем величавее, чем незначительнее журнал. Слоистый зной наполнял комнату, в углу стояло гоночное весло, вентилятор над письменным столом издавал стонущий звук, словно оплакивая голову секретаря.
— Видите ли, — сказал секретарь, свернув мою рукопись трубкой и приставив ее к левому глазу, — мы, собственно, обеспечены материалом уже до октября. Но все-таки приходите через неделю.
Через неделю мне вернули рассказ: первый вылет птенца оказался неудачным. Я разгладила его помятые крылышки, стерла пометку о возврате и отнесла во вторую редакцию. В длинном коридоре юная курьерша в маково-красной повязке, взглянув на меня со всей строгостью своих семнадцати лет, указала мне нужную дверь.
В этой второй редакции не было ни весны, ни зноя, окна выходили в тень, и сам редактор принял меня. Он намекнул мне, что журнал загружен рассказами о северных ночах, но, впрочем, просил прийти через неделю.
— Я прочел ваш рассказ два раза, — сказал он мне через неделю. Услыхав это, я искренне обрадовалась: мне все казалось, что секретарь первой редакции не прочел его ни разу. — Я прочел его дважды, — продолжал редактор, — один раз здесь, в редакции, и второй раз у себя дома, когда мне никто не мешал. Мне кажется, что вы действительно можете писать. У вас недурной глаз, вы многое видите, но многое вы видите не так, как надо. И потом — почему все ваши герои идут вразброд, почему ничем не объединены?
— Я именно и хотела показать человеческое одиночество в переходную эпоху, когда старые формы жизни уже разрушены, а новые еще не налажены.
— Допустим. Но даже если и так, то все же конец вашего рассказа для нас неприемлем, слишком печалей.
— Я переделаю конец, — ответила я покорно. — То есть я постараюсь.
— А начало... особенно это место: «И луна взошла над человеческой печалью...» Повторяю, нам нужна бодрость.
— Но ведь есть печаль, которую необходимо испытать, чтобы прийти к бодрости. Впрочем, я переделаю... Я постараюсь.
Редактор взглянул мне в глаза совсем просто, по-человечески, по-дружески.
— Бросьте вы эту волынку, — сказал он. — Старайтесь не старайтесь — рассказ ваш не подходит, и дело с концом. Попытайтесь написать что-нибудь еще и тащите мне. Да чего вы огорчаетесь? Говорю: попытайтесь еще.
Еще одна минута — и я бы сказала ему, что этот рассказ для меня очень важен, во-первых, сам по себе, а во-вторых, потому, что я надеялась получить за него немного денег, которые мне давно уже нужны. Еще бы одна минута... Но как раз в эту минуту вошла строгая юная курьерша, подала редактору бумагу, редактор склонился над ней, и уже он был далеко от меня. Куда!.. не догнать.
Возвращаясь из театра домой, эстрадный актер был то грустен, то весел. Иногда он с легкостью одолевал все семь этажей, прыгая через три ступеньки и едва касаясь перил. У себя в комнате, сняв башмаки, он босиком исполнял небольшую веселую чечетку. Но иногда актер поднимался медленно и трудно, и однажды на рассвете я видела его в передней на стуле: голова опущена, чемоданчик с гримом у ног, длинные руки повисли вдоль клетчатых брюк. Бедный, бедный человек!
Я решила переговорить с ним ночью, потому что днем он спал, а вечером уходил обедать. И вот, выбрав благоприятную ночь, я обратилась к нему с просьбой помочь мне устроиться там, где он работал. Для меня это был настоящий удар, для этого не стоило приезжать в Москву, но другого выхода не было: фельдшерица, которой я задолжала уже за две недели, определенно намекала, что ей очень нужны деньги, что жизнь тяжела и что пиявки нестерпимо подорожали.
У актера помимо звучного англо-итальянского псевдонима (звали его Джек Паулини) было еще незлое сердце. Он обещал и выполнил свое обещание. В один из ближайших дней он повел меня в кабаре, где он работал, чтобы познакомить с директором, режиссером и владельцем. Все это соединялось в одном лице, в одном очень широком, красном, плотном и бритом лице. Седоватые волосы были зачесаны с таким расчетом, чтобы скрыть лысину, но она не скрывалась.
Мы с Джеком Паулини пришли во время репетиции. Меня опахнули запахи и звуки, знакомые мне по «Созэпу»: запах сырых опилок, словно открыли ящик старого винограда, и звуки вступления, где забывали брать диез. Я вспомнила наш «Созэп», и у меня заныло сердце.
Театр назывался «Каравай». Он был в стиле русской избы, такой, какой ее представляет себе наивный иностранец, в стиле трактирного чайника, одеяла из лоскутков, полушалка, гитары с лентой... Самая дорогая и почетная ложа имела вид русской печи, и головы сидевших в ней выглядывали оттуда, как горшки.
«Каравай» был не просто театром: он был кабаре. И не просто кабаре, а ночным кабаре, соединенным с рестораном. Это был театр, где искусство соединялось с гастрономией. Во время исполнения номеров хождение официантов с блюдами было строго запрещено. Исключение делалось только для «судака по-монастырски» (с шампиньонами), который настолько нежен, что, будучи изготовлен, не может ждать ни минуты.
Директор «Каравая» Алексей Алексеевич Рындин, несмотря на седые волосы, был настоящий юноша по пылкости воображения и по искренности. Он твердо верил, что «Каравай» — несказанное достижение революционного искусства и «сильные мира сего» только потому не коротают там своих вечеров, что дела государственной важности лишают их досуга.
Мы договорились с Алексеем Алексеевичем.
— Ты вот что, — сказал он мне, — ты не робей. Подадим тебя публике, как конфетку. Конферирую я сам, я тебя не обижу. Напиши нам что-нибудь такое современное, но изящное, женственное, понимаешь ли, благоуханное.
Алексей Алексеевич в качестве старого актера говорил всем без исключения «ты» и обожал благоухания. Мы сошлись на жалованье в пятьсот тысяч рублей в месяц, за эти деньги я должна была писать и играть.
Пятьсот тысяч!.. Киска, Киска, наши дела положительно налаживаются!
Началась ночная жизнь, ночное бытие. В двенадцать часов ночи я уходила в театр и возвращалась в пять утра. Я ложилась в шесть и просыпалась в три, когда Киска давным-давно уже вернулась из своей «Опытно-показательной школы», куда я ее отдала, и готовила «задание». Я уходила на репетицию, а она оставалась одна. Летом все это было не страшно, но когда началась осень, я забыла, как выглядит день.
Алексей Алексеевич не обманул меня. В первый же вечер моего выступления он представил меня публике, сказав, что сейчас выступит новая актриса, она же и автор, актриса «очень хорошая, потому что плохих мы не держим». В заключение он просил не слишком стучать ножами и вилками ввиду моего слабого голоса. Стремление увидеть «новую актрису» на несколько минут пересилило аппетит, многие оторвали глаза от тарелок и взглянули на сцену, и даже из «русской печи» выглянули две головы. Впрочем, это волнение, вызванное новизной, вскоре улеглось, заговорили вилки, и два «судака по-монастырски» поплыли над головами. Публика «Каравая» была не такова, чтобы долго утруждать себя сценическими эффектами.
Публика «Каравая», махровейшие цветы нэпа, пышные розаны, перед которыми инженер Альберт из кафе «Куб» казался подснежником, — ваш букет, ваш аромат, ваше благоухание... их невозможно забыть. Невозможно забыть соперничество с кулебякой и шницелями, которые всегда побеждали. Я не говорю о судаке, я остерегаюсь говорить о нем. Эта рыба, особенно когда она с шампиньонами, — непобедима. Ее не перепоешь, не переиграешь, не перетанцуешь...
За время моей службы у Алексея Алексеевича, который, впрочем, всегда был добр ко мне, я познакомилась с ночной Москвой. Я узнала ночных извозчиков, — поджидая у театральных дверей конца программы, они толковали о том, что неизвестно, каков будет урожай, а «овес так дорог, что не подступиться».
Иногда, если наше время совпадало, мы возвращались домой вместе с Джеком Паулини. Ночь, тишина, предрассветная грусть, от которой не избавлен ни один город, действовали неодолимо на бедного эксцентрика. Наплыв больших и печальных мыслей заставал Джека Паулини совершенно неподготовленным.
— Ах, боже мой, боже мой! — тоскливо говорил он. — Опять у меня изжога от дежурного блюда. Дают всякую дрянь на маргарине.
Но он был не прав: это был не сытый желудок, а голодное сердце, которое давало себя чувствовать.
— Ничего я в Москве толком не знаю, никогда ее не вижу: я ведь тоже приезжий, — сказал он мне однажды.
— Давайте завтра встанем пораньше и пройдемся по городу. Я тоже мало что видела. Что вы будете делать завтра?
— Благоговея, ждать... — начал он, явно по привычке.
— Неправда, Джек. Не надо этого. Мы и так понимаем друг друга.
И он согласился, что не надо.
...Был вечер, как всегда, вернее — была ночь, субботняя ночь, когда «Каравай» был особенно полон. Глазастые цветы по стенам, красные и синие, были залиты светом, посуда особенно блестяща, белые рубахи официантов особенно белы. Алексей Алексеевич, вытирая платком лысину, вместе со своим помощником смотрел в отверстие занавеса и чуть ли не заметил в публике кого-то из «сильных мира сего». По крайней мере, директорский затылок побагровел еще сильнее, а по спине помощника пробежало восторженное содрогание, словно его окатила теплая волна.
Я стояла на выходе, одетая французской куклой. Кукольный румянец лежал аккуратными кружочками на каждой щеке, вокруг глаз были нарисованы длинные лучеобразные ресницы. На мне был кисейный чепец и бархатный корсаж. Как всегда перед началом, было зябко, и жидкие белила неприятно сохли на голой спине. Моя партнерша, тоже кукла, но русская, деревенская, с кирпичным загаром, подвязывала лапти. Третий партнер, тоже кукла, солдат, стоял рядом, выпрямляя грудь.
Мы стали на наши подставки и окаменели в кукольных позах. Скрипка и рояль заиграли вступление, и пестрый занавес раздвинулся в обе стороны. В лицо пахнуло теплом, жужжание голосов стало глуше. Мне надо было начинать. Я открыла рот, чтобы произнести под музыку свою первую фразу: «Я Мариэтта, родом из Прованса», — так начиналась эта кукольная комедия, — открыла рот, но ничего не сказала.
Наш скрипач, проворный и молодой, делая вид, что ничего не произошло, вторично заиграл вступление, качая головой и скрипкой и грозя мне глазами. Он снова доиграл до рокового такта, но «Мариэтта родом из Прованса» безмолвствовала. Тогда, не теряя самообладания, он встал со своего места, вылез на сцену, поднес скрипку к моему лицу и, смеясь и напевая, как бы желая растормошить неподвижных кукол, в третий раз заиграл вступление, но глаза его, приближенные к моим, были страшны. Тогда я разжала пересохшие губы и доложила, наконец, ужинающим все, что полагалось.
Я молчала не потому, что роль вылетела у меня из головы: это было невозможно, я ведь сама писала все это. Я молчала потому, что, как только дали занавес, справа от сцены, в «русской печи», я увидела: подперев подбородок левой рукой, а правый пустой рукав заложив в карман, сидел мой бывший начальник товарищ Шуляк и терпеливо ждал, когда начнут.
За кулисы, в закоулок между нашей уборной и кухней, где реяли запахи жареного масла, вазелина и потных париков, куда «вход посторонним строго воспрещен», товарищ Шуляк проник совершенно свободно.
— Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? — спросила я его.
— Я здесь по роду своей службы. Меня давно уже интересовало это учреждение. Но скажите мне, что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?
— Я не хотела этого, я пробовала другое, но у меня не вышло.
— Что же другое?
— Я написала рассказ, но он получился печальный. Мои герои шли вразброд, они не были объединены, они были одиноки.
— Ну-ну-ну, — сказал товарищ Шуляк. — Надо попытаться еще раз.
— А если и во второй раз не выйдет?
— Стало быть, еще раз.
— А если и в третий раз, товарищ Шуляк, и в четвертый, и в пятый, — что тогда?
— Ну что ж, — ответил товарищ Шуляк после минутного раздумья, — стало быть, надо и в третий, и в четвертый, и в пятый.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Понедельник — это актерское воскресенье. В понедельник нет спектаклей, нет репетиций, и хотя весь остальной город уже отпраздновал и начинает трудовую неделю, актеры отдыхают.
Moе и Кискино горе было в том, что наши отдыхи не совпадали. Для нее понедельник был скопищем трудностей, он был омрачен таблицей умножения.
— Семь раз восемь, — говорила она с глубоким вздохом. — Нет, ты только подумай!
И все же, несмотря на то что наши праздники не совпадали, я заставила их совпасть, произведя искусственный сдвиг. Я разрешила Киске не пойти одни раз в школу, и таким образом мы с ней встретились. Мы получили в свое распоряжение целый огромный день, мы так разбогатели, что даже растерялись. Хорошо еще, что мы догадались накануне распределить наши богатства. Утренние часы решено было посвятить задушевной беседе, вечерние — кинематографу, а дневные, после долгих колебаний между «Музеем сороковых годов» на Собачьей площадке, Останкином и Зоологическим садом, который не был еще в то время парком, — дневные часы решено было отдать Зоосаду.
Сначала победа осталась было за «сороковыми годами». От ребят в школе Киска слыхала, что там комнаты — «как живые», особенно комната «бабушки», что там наверху есть детские, где жили старинные дети, спали там, читали старинные книжки, повторяли семь раз восемь и шалили старинными шалостями, которые не устарели до сегодняшнего дня. С вечера решено было идти в музей, но когда в воскресенье на заре я пришла из «Каравая», Киска, от волнения лежавшая без сна, объявила мне, что она выбрала Зоосад.
Судьба актеров и школьников была милостива к нам. Она подарила нам столько синевы и тишины, столько осеннего золота, что ими становилось богато любое сердце. Обо всем этом хорошо сказано у кого-то, что в такой день хочется устраивать свою жизнь.
В Зоологическом саду дорожки были посыпаны светлым песком; отсутствие следов было поразительно. В этот ранний час песок был гладок, свеж и нов, как будто ничья стопа — ни нога человека, ни лапа зверя — никогда не касалась его. Синие тени клеток и оград лежали на песке с такой нежной отчетливостью, что жалко было ступать по ним. Трава по бокам была молода второй и последней молодостью, которая наступает осенью; трава была зелена, как весной, и солнечные пятна слагались в счастливые сочетания, как весной. Но над всем этим была опрокинута свежесть, свойственная только осени. Кленовые и березовые листья падали на аллеи.
Перед клеткой с лисицами Киска задрожала от восторга. В клетке был пушистохвостый лис, глава семьи, лисица-мать и пятеро детей: двое спали, а двое других охотились за пятым, который, в свою очередь, ловил собственный хвост.
При виде этих веселых рыжих детенышей у Киски возникло страстное желание взять, схватить, унести с собой хотя бы одного из них. В ней, несмотря на то что она была маленькой культурной женщиной, ученицей «Опытно-показательной школы», знакомой, хотя и недостаточно, с таблицей умножения, в ней проснулись древние-древние инстинкты первого человека на земле, охотника и следопыта, повелевающие взять, схватить, унести к себе в пещеру пушистого зверя, который красив и слаб.
— Возьмем хотя бы одного, — повторяла Киска умоляющим голосом. — Попроси кого-нибудь, чтобы нам позволили. Зачем им целых пять? А он будет жить у нас в ванной: все равно там нельзя мыться. Попросим.
— Они никак не могут, Киска, — отвечала я. — Если они каждой девочке начнут дарить что-нибудь на память, им самим ничего не останется. А вдруг, как на грех, кому-нибудь понравится слон?
— Ты все шутишь, мам, — возразила Киска, не отрывая глаз от самого маленького и прелестного. — А я тебе серьезно говорю.
Она была так взволнована, что готова была даже на преступление.
— Я думаю, его можно взять потихоньку, — повторяла она задумчиво и тревожно. — Надо попробовать. Ты видишь, в одном месте сетка отстала от рамы: вот там можно попробовать.
— А как же ты пронесешь лисенка? Ведь при выходе стоит сторож.
— Спрячу под пальто.
— Нет, Киска, так нельзя. Один мальчик (это было очень давно) поступил так, как ты хочешь, и у него вышли большие неприятности.
— Какой мальчик и какие неприятности? — немедленно спросила Киска.
И тогда, сев на скамью под большим тихим деревом, я рассказала ей историю юного спартанца, который украл лисицу и спрятал ее под хламиду, где она стала грызть ему внутренности.
Выслушав назидательное повествование и, по-видимому, отказавшись от мысли совершить кражу, Киска ушла одна осматривать животные чудеса. Она мелькала то тут, то там, то у лебяжьего полуострова, то у клеток с медведями, а я, сидя под деревом, обдумывала свою жизнь.
Сидя у пруда, греясь на солнце, от которого почти отвыкла, я впала в диковинное, какое-то призрачное и прозрачное состояние, когда явь наполовину поглощена сном.
Вероятно, это длилось недолго, это было кратко по времени, но перенасыщено содержанием, как те доли секунды, в которые вода не успела вылиться из кувшина Магомета; сам же пророк обозрел в это время седьмое небо и все его чудеса.
Глядя на солнце, отраженное в струях пруда, я на миг утратила внутреннюю сопротивляемость, и тотчас же события, слова, человеческие лица, голоса, голоса, голоса обрушились на беззащитное сердце. Все мое недавнее прошлое неслось на меня, мучая и убеждая.
«Вильяма Шекспира не жечь, — сказал матрос с «Алмаза». — Уважайте, гражданка, культурные ценности земли».
«Земля наша — капля капли перед Канопусом, — прозвучал отдаленный голос Авеля Евсеевича.— Шекспир — молекула. Кто знает, жил ли он на самом деле».
«Пусть умирает кто хочет, — твердо сказала товарищ Клавдия. — Но Ворончик должен жить. Спешите, доктор, время дорого».
«Часы продаете, — отчеканил товарищ Шуляк, — упускаете время, которое дорого. Обратите на это внимание, товарищи».
— Товарищи, — произнес надо мной подлинный, не призрачный, звучный и хороший человеческий голос с приятной хрипотцой, — теперь обратите внимание на обезьян.
Я открыла глаза: по дорожке вдоль пруда шли люди, живые существа, родственные мне по плоти и крови. Их было человек десять, и самому старшему из них не было двадцати лет. Трое из них — три девушки — все вместе ели одно большое румяное яблоко, надкусывая его по очереди.
Они прошли толпой мимо меня. И я встала и пошла вслед за ними. Я почувствовала непреодолимое желание обратить внимание на обезьян, хотя за минуту до этого совершенно о них не думала.
В то время Зоосад не был богат, как сейчас, редкостными обезьянами. В застекленном вивариуме не жили заморские шимпанзе и орангутанги, привезенные из теплых стран в меховых одеялах и вскормленные бананами и мандаринами, специально доставляемыми для них на самолетах. В то время простые и веселые мартышки прыгали и скакали в просторных мелко плетенных клетках на открытом воздухе. Они цеплялись хвостами за перекладины, свисали оттуда, словно гирлянды лука, торопливо и озабоченно, мелкими человеческими движениями грызли морковь, моргая глазами и хмуря лоб.
Наша группа подошла к обезьянам и остановилась. Говорю: «наша», потому что хоть я и пришла не с ними, но шла за ними. И то, что объяснял идущий впереди, относилось в равной мере ко всем, в том числе и ко мне.
Мартышки читали в это время газету. Как она попала к ним — осталось тайной, но они наслаждались ею. То, разостлав, они садились на нее, смеясь и болтая. То, укрывшись ею, как плащом, они блаженно замирали, шевеля хвостами и жмуря глаза. В конце концов газетой овладел проворный самец. Он рассмотрел добычу со всех сторон, понюхал ее с такой силой, что даже чихнул, потом затих, ковыряя пальцем строки. И наконец, разостлав бумагу у себя на коленях, оторвал от нее лакомый кусок с объявлениями и жадно съел, на горе и зависть остальным.
— Товарищи, — сказал экскурсовод своим приятным волжским выговором, — вот обезьяны. Они потому особо интересны из всего зверья, что ближе всего подходят к нам, к людям то есть.
Среди экскурсантов был один паренек в веснушках. Его внимание ко всему виденному и восторг были таковы, что он забывал дышать. Я утверждаю, что у него были секунды, когда он не дышал, чтобы не мешать себе. Услыхав, что обезьяны ближе всего к нам, людям, он произнес глубоким горловым голосом, идущим из самой глубины внимания:
— До чего похожи! Просто ест и смотрит, как человек. Только хвост мешает.
— Дело в том, — говорил дальше экскурсовод, — была в науке такая аксиома (очевидно, он хотел сказать: «гипотеза»), что мы, люди то есть, произошли от этих самых обезьян. Теперь это установлено досконально.
В беседу робко вступила одна из девушек, сказав, что, по имеющимся у нее сведениям, человек произошел от амебы, похожей на кисель, она-то и есть зародыш всему. Экскурсовод взглянул на девушку зорко.
— Амеба сама собой. И собака, может, от нее произошла, но нам важно знать, что она идет от волка. И вот в науке стали поговаривать, что мы идем от обезьяньего племени. Дарвѝн, — продолжал он, ударяя на последнем слоге иностранного имени, отчего далекий англичанин Чарльз Дарвин сразу превратился в земляка-волжанина из Нижнего или Саратова, — Дарвин первый утвердил подобное мнение, и теперь почти достоверно, что мы произошли от первобытного человека, который произошел то же самое от обезьяны.
Мартышки прыгали в клетке, осеннее солнце медленно передвигалось в небе, мы слушали рассказ об обезьянах.
Неизмеримо долог и труден был путь от зверя к человеку. Теперь он давно уже пройден. Завершен. Но новые задачи встали перед человеком — вытравить в себе хищника-одиночку. Завоевать себе право объединиться в общем труде.
— Настал день, — сказал экскурсовод, — когда в нашей стране слова «я» и «мое» заменились словами «мы» и «наше».
Он закончил так:
— Вы должны понять, товарищи, что этот день был особенный день. Очень важный, потому что «мы» — это совсем не то, что «я». «Мы» — это... одно слово, «мы»... много нас, значит.
— Ясное дело, — подтвердил паренек в веснушках. — Ясное дело. «Мы» — это значит не то, что «я». — Он выступил вперед, как бы собираясь сказать большую и важную вещь. — «Мы»...— Он вдохнул полной грудью солнце и воздух сада. Он сделал широкий жест, куда включил вселенную. — «Мы»... одно слово. Много нас, значит.
— Ты здесь? — спросила прибежавшая Киска. — А я ищу тебя. Правда, что мы произошли от обезьяны?
— Может быть, — ответила я. — Но важно не это. «Мы». Нас много, и жизнь велика.
Мы провели в саду весь день. Возвращались под вечер, когда уже зажигали огонь.
В одном из окон две девушки починяли стул. Плетеное сиденье было продрано, одна девушка держала стул за ноги, другая затягивала веревочкой пораженное место. Но в ту минуту, когда почти все уже было кончено, веревка лопнула, и пришлось начать сначала.
— Ну и начнем, ну и что ж, — очевидно, сказала та, что покудрявее.
И обе девушки снова нагнулись над стулом, который, по всей вероятности, был им очень нужен.
В другом окне купали ребенка. Там завесили окно платком, но платок упал, и я увидела комнату. В ней было много народу, стоял даже человек без пиджака, в кожаном фартуке. Очевидно, он работал, и вот его позвали смотреть, как будут купать парнишку. А парнишка сидел в корыте и все порывался хлебнуть мыльной водицы.
И тогда, на тихой вечерней улице, меня охватило ощущение жизни с неизведанной до того силой. Я ощутила ее строй, ее ход, ее смысл, как никогда раньше.
«Эти девушки починят стул, — думала я, — и он будет служить им еще долго. А из малыша, который в корыте, вырастет человек и займет свое место под солнцем. Таких, как он, много. Они вырастут и скажут о себе: «Мы».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Если верить Библии, этой почтенной старой книге, все мы произошли от Адама. Но, независимо от того, произошли мы или нет, независимо от того даже, существовал ли Адам на свете, его облик чрезвычайно любопытен. Его история — это первая история любви на земле, отмеченная литературой.
Возникновение Адама, чудесное превращение его ребра в юную золотоволосую Еву, их любовь, яблоня райского сада — вся эта история известна всем. Но далеко не все поставлены в известность, что Ева была вторая жена Адама, что Адам был женат дважды. Что, кроме Евы, у него была еще одна жена, первая по счету, которая именовалась Лилит.
В противоположность Еве, созданной из мужниного ребра и тем самым лишенной индивидуальности, Лилит была сотворена из горсти земного праха и ночного воздуха. Хотя и по-иному, чем Ева, она была прекрасна. Ее походка была исполнена лунного скольжения, черные волосы окутывали ее всю. Она была умна и склонна к ведовству. Она варила тайные зелья и собирала травы. Адам не мог с ней ужиться.
Она вела себя так плохо, что была лишена звания жены первого человека. Ее постигла печальная участь, самая печальная из всех: ее замолчали, и даже в Библии о ней не говорится ни слова. Имя ее встречается лишь в страшных книгах Каббалы и Большой британской энциклопедии. В последней отмечено, что, изгнанная из рая, она долго еще продолжала жить вне его. Она являлась юношам во сне. Кроме того, в той же энциклопедии сказано, что она «любила расчесывать волосы у чужих очагов».
Впрочем, все это не существенно. Достойно упоминания только то, что, истощив все свои темы для «Каравая», использовав свое небольшое знание современности, я отпрянула назад, в библейские времена. Таким образом, благодаря мне Лилит приобрела широкую и, как вскоре выяснилось, довольно печальную популярность в нэпманских кругах, посещавших «Каравай».
Созданные мною персонажи получили окончательное воплощение в нашей костюмерной. Лилит, как демоническое начало, была окутана в черный шелк. На лбу ее ночным блеском горел лунный камень, и ее рукава были широки и перепончаты, как крылья летучей мыши. Ева была кудрява, стрижена. От райского солнца она покрылась легким золотом веснушек. Адам был русый юноша, несколько ленивый, в шелковой косоворотке; отмечено было, что он не любит бриться. Змей — янтарный брюнет в сумрачной пижаме. Кроме перечисленных лиц, был «Ангел для услуг», с крыльями и в переднике. Он носил ключи у пояса и заведовал кухней.
Первый акт уяснял «Караваю» взаимоотношения Адама и Лилит. Их семейная жизнь не ладилась; она протекала в причудливо обставленном полутемном покое. Хозяйство шло вкривь и вкось. Ангел был растерян. Змей наблюдал издалека. Все кончилось бурным уходом Лилит.
Обстановка второго акта радовала зрителя обилием света, плетеной дачной мебелью, атмосферой дома отдыха, где отдыхал Адам после операции извлечения из него ребра. Ева кормила его манной кашей и целовала плохо выбритую щеку. Она порывалась испечь ему яблоко, зная, что это полезно выздоравливающим, но Адам просил ее воздержаться: он боялся яблок.
Все шло бы хорошо в этом счастливом доме, если бы не Змей. Это он внушил Еве мысль, что слушаться мужа не обязательно. Это он поднес ей яблоко, надкусив которое она ощутила свою женскую прелесть. Это он смутил ее янтарной гладкостью идеально выбритых щек. Это он, наконец, раздвинув листья винограда, показал ей далекий мир, полный соблазнов. Это он, это он, это он.
Ева уходит со Змеем из светлого дома, Ангел потрясен, Адам снова одинок. Он сиротливо сидит под фиговым деревом, спелая фига падает к его ногам: это все.
Алексей Алексеевич остался чрезвычайно доволен результатами моего творчества. В его пылком юношеском воображении невинная шутка на двадцать минут превратилась в антирелигиозную сатиру, под красивостью формы скрывающую огненные мечи сарказма, способные пронзить сердца ночных посетителей «Каравая» и обратить их в неверие. С его точки зрения, это была настоящая «благоуханная и современная вещь», в которой нуждался его театр.
У меня были сомнения на этот счет, но я молчала.
Я молчала, а между тем общество Адама и Евы начинало тяготить меня. Образ светловолосых прародителей, выдуманный древними поэтами и подновленный мной для сцены, их легендарно легкая походка заглушались в моем сознании грузной поступью первобытного существа с челюстью обезьяны и мозгом человека. Мне хотелось думать о нем, о первобытном существе, потому что с ним было соединено воспоминание о воскресной прогулке в саду, где дышали люди и звери.
Мне хотелось писать о другом, передать словами, закрепить на бумаге воздух того дня, жест, которым веснушчатый парень обнял вселенную, и всю силу убеждения, вложенную в короткое слово «мы». Для этого требовались слова настоящие, свежие и точные, которые приходят не сразу. Я искала их все время.
Но наряду с этим жизнь шла своим чередом. Скетч об Адаме и Еве увидел наконец свет рампы. В качестве «гвоздя» он был оставлен на второе отделение программы, и это обстоятельство погубило его.
Второе отделение обычно протекало в атмосфере, значительно подогретой рислингом и портвейном, любимыми марками «Каравая». Гроза разразилась на первом же представлении. Перебивая реплику Адама, поднялась за одним из столиков мощная фигура, налитая алкоголем, и громовым голосом пьяного человека потребовала прекращения «богомерзкой пьесы», оскверняющей религиозную легенду.
— Долой!.. — заключила фигура, грузно садясь на место и стаскивая по дороге скатерть с тарелками, бутылками и бокалами.
Звон скандала смешался с плачем испуганной Лилит. Ева прыгнула в оркестр. Ангел скрылся за кулисы, ломая перья. Что касается Адама, то он, самоотверженно рискуя вторым ребром, ринулся в зрительный зал на помощь милиции. Алексей Алексеевич был совершенно убит косностью своей публики, не способной проникнуться антирелигиозным пафосом.
Я снова пришла к редактору, который однажды отказал мне, пояснив, что мои герои одиноки, что каждый живет для себя, что идея «общности» чужда им. Я пришла к нему в дождливые сумерки, после репетиции. Фонари горели сквозь туман и дождь. Туман и дождь были расцвечены радужным сиянием. Возле каждого фонаря в воздухе, на дожде, плыла фонарная тень.
У редактора был ларингит, он издавал гусиное шипенье, горло было многократно обмотано теплым кашне, но, несмотря на все это, он тотчас узнал меня.
— Это вы, — сипло сказал он и снял с шеи одно из колец кашне. — Я знал, что вы еще придете. Притащили что-нибудь?
— Притащила.
Очерк или рассказ (не знаю, как назвать его) был невелик. Редактор прочел его тут же: редкая удача, редкость которой я вполне оценила только впоследствии. Я наблюдала за ним в то время, как он читал. Тусклая электролампа освещала его белесые ресницы, глаза переходили от строки к строке. В одном месте редактор сморщился: я никогда не узнала, к чему это относилось — к моей рукописи или к его больному горлу. В другой раз он одобрительно почесал нос и я, не сомневаясь, приняла это на свой счет. Его глаза светлели, он не улыбался губами, но улыбка была разлита по всему его лицу. Зазвонил телефон на столе — он снял трубку, не глядя, и продолжал читать. Он читал, держа трубку в руке, и слышно было, как другой какой-то ларингит задыхался и хрипел в телефоне, как бы поселившись там навсегда.
Редактор кончил читать и взглянул на меня.
— Вещь пойдет, — сказал он шепотом и снял с щеи еще один оборот кашне. — Я вам говорил, что вы можете писать. Это вы хорошо про паренька с веснушками... Алло! — внезапно спохватившись, просипел он в телефонную трубку, но там уже царило молчание. Он повесил трубку. — Напишите еще. Знаете про что?
— Про что?
— Про вашего паренька. Покажите его яснее, опишите весь его день, от утреннего гудка на фабрике до вечерних огней на рабфаке. Опишите рабочий день. Должно получиться.
— Не могу, — ответила я, болея душой. — Еще не могу. Я еще ничего этого не знаю. Это надо увидать, и для этого нужно вдохновение.
Редактор поставил локти на стол, крепко утвердил в ладонях подбородок. Устроившись таким образом, он сощурил глаза.
— Вдохновение! — сказал он шепотом и с натугой. — Гм... вдохновение. Вдохновение — есть умение приводить себя в состояние, наиболее пригодное для работы. (Он приоткрыл глаза. Там, в глубине, среди белесых ресниц, ярко сверкал зрачок, маленький, как просяное зерно, но чрезвычайно острый.) Да, наиболее пригодное для работы. Запомните это. И если бы машина, например, обладала способностью рассуждать, то, работая полным ходом, она полагала бы, что на нее снизошло вдохновение. Запомните это.
И он окончательно размотал кашне.
На рассвете пал на землю иней. Город посветлел, помолодел, стал совсем юным. Автомобильный рожок у нашего дома воззвал высоким, чистым голосом: он тоже был молод, был нов, в его светлом зове таилось нерастраченное серебро. След автомобильной шины отчетливой елочкой лежал на белой мостовой. Это был первый след этого дня; было раннее утро, все еще спали.
Автомобиль позвал меня, я вышла, и мы пустились в путь. Ничто не задерживало нас, улицы были пусты. Опрокинутый месяц стоял еще в небе, на западе по-ночному синело, но восток был уже залит светом: оттуда наступал день.
Ворота аэродрома раскрылись перед нами. Аэродром был огромен, здесь было видно солнце, оно быстро всходило пламенным шаром, и постепенно иней таял. Но и растаяв, он оставил после себя в воздухе хрусталь и ледок.
На аэродроме, отгороженные веревкой, стояли люди. Невзирая на ранний час, многим хотелось взглянуть, как будет отлетать самолет, идущий в агитоблет далеко на юг. Люди, стоя на земле, разглядывали небо, говорили о крыльях, о ветре, дивились собственным теням, которые по утрам всегда непомерно велики. Шагни раз — и ты перешагнешь аэродром, шагни два — и ты коснешься горизонта.
Двери ангара раскрылись, и оттуда вывели небольшого воздушного конька. Его желобчатые крылья сверкнули на солнце: он как будто окунулся в утро и вынырнул оттуда весь в серебре.
К тому времени «Каравай» был оставлен мною навсегда. Я не питала к нему злобы, мысленно я рассматривала его отвлеченно и беззлобно. Взамен его мне открылся доступ в несколько редакций. Особенно я полюбила одну из них, чья стеклянная стена, поднятая высоко над городом, всегда вызывала во мне ощущение полета. Теперь мне предстояло лететь на самом деле. Этот полет был для меня первым серьезным испытанием: до того я не подымалась выше Зоосада, выше московских улиц, построек, школ и пионерских лагерей. Теперь мне предстояло лететь высоко над линией рек, далеко на юг, увидеть сверху родные степи у моря, где я родилась, и еще дальше увидеть земли нашей страны, где я не была никогда.
Летчик Ротов был потрясен тем, что корреспондент от газеты, данный ему для агитоблета, оказался женщиной. Женщина приносит несчастье машине, будь то бритва или паровая турбина, в это верят под всеми широтами земли. Японские водолазы, после посещения женщиной места их работы, сыплют соль на палубу и трап, чтобы древней очистительной силой перебороть недоброе влияние.
Летчик Ротов был советский летчик, он был выше великих таких предрассудков. Каждое утро, невзирая на погоду, он обливался ледяной водой на открытом воздухе. Но все это вместе взятое не могло окончательно смыть с него предубеждения против женщины-журналиста.
— Вы женщина, — сказал он, увидав меня перед полетом.
Я не посмела отрицать этого, и наши отношения были временно испорчены.
Итак, мне предстояло лететь. Мне предстояло узнать упругость воздуха, беспыльные просторы, где жизнь течет иначе, чем на земле. Предстояло узнать множество людей, задавать вопросы, получать ответы, запоминать их надолго. Летчик Ротов, с которым мы скоро подружились, запомнился мне одним своим ответом. Как-то раз в пути (не в воздухе, а на земле, конечно) я спросила, каковы профессиональные болезни летчиков и их механиков. И летчик Ротов ответил мне, подумав:
— Профессиональные болезни? Кроме смерти, как будто никаких.
Но об этом потом. А сейчас через слюдяные окна кабинки видна такая пока еще близкая земля и срезанный кусок неба. Мой спутник, Ефим Семенович Кромаров, инструктор от Авиахима, опытный воздушный волк, весь оплетенный ремнями, как на фронте, плотно усаживается в кресло. На груди у него восьмикратный бинокль, в руках план местности. В пути Ефим Семенович будет произносить речи с крыла самолета, объясняя в деревнях значение «несущих плоскостей, стабилизатора, хвоста» и прочего. «Задавайте вопросы, товарищи, — скажет Ефим Семенович. — Кто чего не понял, тот выходи и говори».
И выйдет старый сивый дед, которому девяносто лет, протрет тряпочкой старые глаза и задаст «технический вопрос», почему козы пугаются машины больше, чем овцы, а уж на что овца пуглива. А еще прибавит, что он, крестьянин Емельян Мочало, не прочь сделаться членом «Общества друзей», потому что он, крестьянин Емельян Мочало, прекрасно все понял про воздушную флотилию и готов внести членский взнос.
А потом выступит его правнук, комсомолец Гриша, и, с благоговением глядя на Ротова, громогласно заявит, что все они, комсомольцы Украинской Социалистической Республики, будут по мере сил своих поддерживать наш славный авиафлот и наших летчиков, которые лучшие в мире. И бабы и мужики, собравшиеся по случаю самолета и базарного дня, зашумят и прихлынут к самолету поближе, поближе к самолету, так что Ротов закричит в сердцах: «Эй, мальчишки, не лазать под крылья, не то вздую!» Но все это будет потом. А пока самолет идет по земле все шибче; сзади него ветер, впереди — гул. И вот он уже не на земле, а в воздухе. Непривычное тело теряет свой вес, и — ух! — падает непривычное сердце.
Москва отходит от нас, как пристань от корабля. Внизу плоская зелень и маленький синий камень: это круглый пруд Зоосада, над которым мы летим. Того самого Зоосада... Кто это сказал, что осенью хочется устраивать свою жизнь? Жизнь устроена, дорога найдена. Мы забираем все выше и выше. Летчик Ротов, обратив ко мне свое лицо в шлеме, улыбается. Он улыбается и головой показывает вниз на Москву.
— Москва, — говорит он, и мы угадываем это слово по движению губ: о-а.
А внизу лежит Москва, лежит земля, освещенная солнцем. Рокочет пропеллер голосом высот, мотор великолепно дышит. И весь самолет, его светлые сильные крылья, грудная клетка, все вместе, летя навстречу заре, с каждым разворотом воздуха все больше и больше вникает в пространство, поглощается движением, приводит себя в состояние, наиболее пригодное для полета. И если бы самолет обладал способностью думать, он подумал бы, что на него снизошло вдохновение.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лучшие книги — это те, которые не нуждаются в предисловиях и послесловиях. Литературное произведение говорит само за себя, и еще Флобер утверждал, что вещь должна быть написана так, чтобы читающие сомневались в наличии автора. Он хотел творить безошибочно и безлико.
Наше время не есть время холодных объективностей. Все, что мы пишем, хорошо это или дурно, мало или велико, окрашено участием автора в описываемых событиях, овеяно его дыханием. Автор есть, его нельзя скрыть, он участвует во всем, он добавляет и поясняет, если это нужно. Нечто подобное происходит и здесь.
Если данная книга не дышит полной грудью, если она недостаточно передает веяние эпохи, то это послесловие приходит ей на помощь и предлагает рассматривать ее как простой перечень нескольких жизней трудного времени. Они жили, эти люди. Многие из них прошли и скрылись, как будто их ноги никогда не топтали легкие седые травы у дороги. Их следы остались только на этих страницах. Я видела этих людей и рассказала о них.
1928
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







