ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
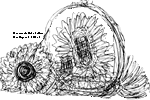
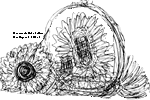
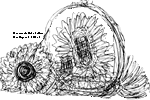
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Дубровская Татьяна 1985
1
Красная Шапочка была невысокая, румяная и скуластая, и ей было
восемнадцать лет и четыре месяца.
Больше всего на свете она любила кисло-сладкие яблоки, купание в Великой
и долгий-долгий сон...
Но в этот день, о котором пойдет речь, в это прекрасное утро в конце
августа (кажется, было двадцать шестое, да, двадцать шестое, потому что на
двадцать седьмое у нее был номерок к зубному врачу), она не то чтобы не
выспалась, но, по ее понятиям, даже не подремала. Где это видано, чтобы лечь в
одиннадцать и встать в пять утра! И все из-за того, что мама сама не может
съездить к бабушке.
Шатаясь и зевая, Красная Шапочка вышла на улицу. Городские автобусы еще
не ходили, и она пошла на автовокзал пешком. Утро было свежее, и она замерзла в
батистовой кофточке с короткими рукавами, зато окончательно проснулась.
Разойдясь, по привычке зашагала большими шагами, застучала деревянными
подошвами, но вдруг вспомнила про весь свой наряд: вышитая блузка, передник с
кружевными прошивками, алый блинчик на макушке, корзинка на руке — и пошла
тише, вальяжней.
Она шла по Рижскому шоссе, и никто не попадался ей навстречу, и никто не
шел сзади. Только она и Псков. Будучи соней, она редко ходила по Пскову так
рано и сейчас смотрела и любовалась им впервые.
Так, наверно, ахнул летописец Стефана Батория, ксендз Пиотровский, когда
Псков высоко открылся за Великой: «Боже, какой красивый город! Почти Париж...»
Красной Шапочке было восемнадцать лет и четыре месяца, и все это время,
если не считать праздничных поездок в Ленинград к двоюродной тетке да
пионерлагеря «Печки» в шестом классе, она прожила в Пскове.
Мало сказать — почти ничего не сказать: ей, мол, нравилось жить в
Пскове, она любила Псков — и все такое прочее. Нет, Псков был член ее семьи!
Папа, мама, бабушка, Красная Шапочка с младшей сестренкой и — Псков.
Он был морщинистый, круглый и добрый, как бабушкино лицо. Уютный, как
старый диван с высокой спинкой...
И даже еще.
Красная Шапочка была богата Псковом. Он был ее наследством или, может
быть, приданым... Каждое воскресенье, выспавшись как следует, она обходила свои
владения, начиная с нелюбимого Завеличья и кончая любимым Запсковьем. На
Запсковье, в каком-нибудь укромном уголке (их было у нее семь), она, бывало,
часами просиживала, сторожа нечаянное богатство: осыпающиеся крепостные стены,
белые церкви, гулкие башни, мелкий говорок Псковы, тихие переулки, пропахшие
яблоками и пестро пылающие от георгинов и астр, переспелый шиповник заброшенных
кладбищ и треснувшую могильную плиту с полустершейся надписью: «Здесь покоится
ушедшая на 29-м году Временнаго Бытия Акилина Феофилактовна Сывороткина», —
словом, все то, что, очарованная и раздраженная накопительством, она успела
прибрать к рукам за восемнадцать лет.
Но с недавних пор Красная Шапочка стала чувствовать себя старухой с
новым корытом.
В это самое прекрасное утро в конце августа, идя на автовокзал, чтобы
ехать к бабушке, она уже не как всегда, а с маленькой болью и даже досадой
думала про Псков.
Причиной боли, неслучайной занозой стал вчера (на самом деле гораздо
раньше) Эрик Питкевич.
Подавали заявления на общежитие. Она, само собой, не подавала, смотрела,
как подают другие, и Эрик Питкевич, блестящий Эрик Питкевич из Таллина, сделал
круглые глаза: «Так ты скобарка? А я все время думал — из Ленинграда».
И отошел.
Она отчаянно покраснела и прошептала: «Я не скобарка — псковитянка», но
он не слышал. Тогда она побежала сказать ему, что еще Иван Грозный... что
Римский-Корсаков... Но куда там! Эрик уже спустился по лестнице и пропал где-то
на первом этаже.
«Так ты скобарка...» Она с пеленок знала, что всех, кто из Пскова и
области, презрительно называют «скобарями», причем никто, ни называющий, ни
называемый, уже не вдумывается в истинный смысл слова. И, уж конечно, не помнят
о Петре Первом, который так и не смог своей ручищей сжать псковскую скобу. Все
забыли, если вообще знали, и про Петра, и про скобы, стали стесняться, что они
скобари, стали скрывать псковский выговор. А деревенские не забыли и не
стеснялись. Вон позавчера в автобусе одна старуха, увешанная связками баранок,
с большущим мешком, набитым хлебом, пристыдила ее: «Да, дочуш! И что с тябя
выйдя, коль ты на встав ляная!» А Красная Шапочка вовсе не «ляная»: держала на
коленях сетку с тяжеленными словарями и не успела вовремя вскочить. И вовсе она
не якает! Ей, правда, кто-то сказал, что нужно говорить «двадцети», а не
«двадцати», как она, потому что на «а» — это какой-то подмосковный выговор. Но
не псковский же!
Впрочем, для Эрика Питкевича из Таллина такие подробности были не важны.
Она была скобаркой уже тем, что жила во Пскове.
И раз так — он отошел. Он отошел от нее в свой пропахший Европой Таллин,
оставив ей запах сырых снетков. Тоскливый запах Пскова...
И все кончилось, не начавшись. Она даже и не плакала, потому что плакать
было не по чему.
Но так хотелось!..
«Что с тобой, доча, происходит?» — спросила вчера мать, и Красная
Шапочка, легко огрызнувшись, пошла сразу мыть посуду. Откуда она знает, что
происходит! Происходит, и все...
«Ты вот что, — сразу другим голосом заговорила мать из комнаты, — к
бабушке надо завтра съездить. Помидоров свезешь, по полтора рубля брала у
молдаван, яблочек. Я уж и билет тебе взяла, ложись пораньше; автобус в шесть
тридцать...»
Красная Шапочка нарочно загромыхала тарелками. Какой автобус, какая
бабушка, когда она завтра собиралась весь день искать Эрика! Прочешет все
столовые, все библиотеки, и если найдет, то скажет: «Хочешь, я покажу тебе свой
Псков?», как другой бы сказал: покажу жизнь. Но мама какова! Когда надо —
никуда не пустит, а как почувствует что-нибудь такое — ну прямо назло! Она так
сильно стала тереть сковороду, как будто только сковорода была виновата, что
Красную Шапочку посылают к бабушке. Она бы, пожалуй, дотерла сейчас до дыры!
В общем, что-то происходило с Красной Шапочкой.
Она еще не знала — что, но как будто в себе с недавних пор (с того
момента, когда она вместе с Эриком Питкевичем подавала документы на факультет
иностранных языков) что-то обнаружила.
Как бы нащупала случайно нужный позарез пятачок. Сначала один, потом
еще, еще... тут и два гривенника, и засохшая ириска, и даже пропавшая месяц
назад перчатка, — батюшки, целый клад провалился через дырку в кармане за
подкладку пальто! Надо же, носила все с собой — и не чувствовала легкой,
приятной тяжести.
Надо же, изумленно думала она о себе, прожила на свете почти
девятнадцать лет и не знала, что умеет так мечтать, так думать и краснеть, так
скучать, так злиться.
Неужели он ей... нравился?!
Впрочем, это ни о чем не говорит. Ну да, нравилась его клетчатая куртка
с карманами и «молниями» (она бы и сама с удовольствием такую надела),
нравились его длинные рассыпчатые волосы. Даже золотая фикса, когда он
улыбался, немножко ей нравилась...
Нет, все это не то, как-то по-другому называется то любопытство, с
которым она издали следила за ним. Та очарованность, с которой она вслушивалась
в его произношение. Тот робкий восторг, испытанный ею, когда он спросил однажды
в столовой: «Хочешь еще компоту?» — и принес не только компот, но и ватрушку с
творогом! А то досада — как вчера...
— Девушка, садитесь!
Вот здорово! Прошуршало мимо нее и остановилось вдруг такси.
— Куда это вы рань такую? На базар?
— Почему на базар? — обиделась Красная Шапочка, но все-таки села.
— А с корзинкой.
— Нет, я в Остров. И еще дальше. Вы не знаете, Рубилово от Острова очень
далеко?
— Чего не знаю — того не знаю. А был бы помоложе, — шофер повернул
зеркальце так, что Красной Шапочке лучше стали видны его морщины и седина, —
мигом бы вас домчал. Поехала бы со мной?
— Не знаю, — честно сказала Красная Шапочка, — у меня б, наверное, денег
не хватило.
— Да я бесплатно! Симпатичную такую...
Симпатичную? Она покраснела и сразу простила шоферу базар, и так и
сидела, красная, до автовокзала, а расплатившись, запуталась в ручках, открывая
дверь.
Симпатичная... Неужели?! Ведь всегда была ничего особенного: нос почти
картошка, веснушки на верхней губе, прыщик на лбу, хоть и закрыт волосами. И
вдруг говорит прямо в глаза: симпати-ичная!
Улыбаясь, она дождалась посадки в междугородный автобус Псков — Пыталово
и приникла к окошку, но стекла были такие пыльные, что своего отражения увидеть
не удалось.
Возле Красной Шапочки села полная женщина с ребенком, длинноголовым
беленьким мальчиком. Она отлепила от тела зеленую болонью, сложила ее квадратом
и сказала:
— Девушка, будьте добреньки, положьте наверх.
Красная Шапочка встала, положила болоньевый квадрат на веревочную сетку
и села, несколько раз расправив под собой юбку. Автобус мягко тронулся, и
Красная Шапочка стала смотреть в окно.
Улицы были еще пусты, раскрытые окна занавешены. «Проспать такое утро!»
— удивлялась Красная Шапочка, забыв о том, что первой соней в городе была она.
Она даже решила всегда так вставать, дабы получать не захватанное чужими
глазами утро и небо.
Возле моста был закрыт шлагбаум, и, пока стояли, Красная Шапочка,
изогнувшись, с завистью разглядывала на Великой одинокое каноэ. В шестом классе
она тоже записалась в гребную секцию, сходила несколько раз на занятия, ее даже
похвалили за сугубо гребную выносливость рук, но надо было так рано вставать!
Автобус уже давно шел по Черехе, а Красная Шапочка все еще жалела, что бросила
спорт. Эх, как бы сейчас она поразила Эрика Питкевича в этой узенькой легкой
лодке, летящей по Великой!
— А быстро из Пскова выехали, — заметила женщина, и Красная Шапочка
ревниво заторопилась:
— Да потому что надо было через Кресты ехать! А вообще-то Псков в другую
сторону растет: на Завеличье и на Запсковье. Там знаете сколько уже настроили.
Но женщина рассеянно перебила:
— Артур, смотри, еще одна речка. Лодочки, видишь?
— К окоску хоцу, — мальчик заплясал на материных коленях.
— Артур, тише, всю юбку маме стоптал. У окошка девочка сидит.
— Пожалуйста! — Красная Шапочка встала. — Я по этой дороге сколько раз
ездила, пускай он посмотрит.
— А вы, девушка, куда? — спросила женщина, когда все устроились на новых
местах. — Вам не до Острова?
— Мне дальше.
— Ой, хорошо! Поможете мне чемоданчик вынести, ладно? Телеграмму поздно
отбили, боюсь, не встретит нас баба Вера. А, Артур? Встретит? — Артур молча
засопел у нее на коленях. — Ой, хорошо, если встретит. У нашей бабы Веры сейчас
сытно, да, Артур? Яблоки поспели, курочки несутся, Зорька молоком заливает. И
кот Никита на крылечке сидит, Артура дожидает. Только Артур за хвост не будет
дергать, да, сынок? А то я Артура в посылку запечатаю — и обратно в Калинин
пошлю. Хочешь к папке? Во-от. И кота мучить не будешь, и бабу Веру слушаться. А
она тебе молочка стопит. Вот так, вот и хорошо. Поспи, мой славный, хватит
мамке юбку мять. А вы, девочка, куда же будете?
Красной Шапочке уже слегка надоело, что женщина не дослушивает.
— Мне дальше еще, в Рубилово. Вы не знаете, от Острова это далеко? Я
тоже бабушку проведать.
— Не знаю точно, но километров пятнадцать будет. Быстро там доедешь. Ты
во Пскове что же, школу кончаешь?
«Ну вот! — снова обиделась Красная Шапочка. — Паспорт, что ли, возить с
собой!»
— Что вы! Год как школу кончила. Год стажа уже, курьером в
Сельхозтехнике работала. А в этом году в наш пединститут поступила.
— Учительницей, значит, хотите... А по предмету какому?
— Английский. Английский и немецкий — у нас два языка будет.
— Два языка, ишь! — Женщина наконец с интересом посмотрела на Красную
Шапочку. — Ну, а паренек-то есть у тебя?
Она спросила это так неожиданно и доверительно, как будто они знакомы
уже целый век, и Красная Шапочка жарко почувствовала, как желанно и сладко было
бы ей соврать: «Эрик Питкевич!»
— Нет, — сказала она, как будто извинялась.
— И не горюй! — женщина махнула рукой. — Учись, высшее получай, а там
выберешь самого что ни на есть. Такая красавица. Не горюй.
— А я и не горюю, что вы! — Красная Шапочка аж взвенела от счастья. Уже
даже не симпатичная — красивая. Это она-то? Но, может, правда? Может, что-то не
только внутри с ней происходит? — Никогда и не горюю, — продолжала она, с
благоговейным страхом ощущая по-новому натянувшиеся мышцы лица. — Знаете, в
прошлом году тоже поступала в наш пед — и не поступила, английский на тройку
сдала. А все по глупости. Побежала, в общем, в туалет, а экзаменационный лист
на подоконник положила. Прибегаю — нет листа. Я туда-сюда, у девочек спрашиваю
— нет, и все. Я в учебную часть, прошу новый выписать, а они мне: нельзя. «Что
же мне делать?» — говорю. А они: «Ничего. Собирай свои чемоданы и уезжай
домой». Я говорю: «Я местная», а они: «Тогда иди пешком». Вот ужас был! А мне
смешно. Девочки за меня пошли просить — никак. А время-то идет, экзамен скоро
кончится. Что делать? Думала-думала — и вдруг ка-ак брошусь вон из института!
Бегу во двор — ничего. Я дальше, на рынок, там, знаете, за институтом был
рынок, теперь его снесли. И точно. Валяется мой бедный листик почти у мясного
павильона, и фотография гру-устная такая. А это кто-то окно открывал, он фьють —
вылетел. Но, по правде, ответила-то я неважно не из-за листа: у меня
произношение так себе было. Я артикль «the» почти как чистое «зе» говорила...
— Да-а, как бывает! — Женщина удивленно зацокала и закачала головой. — В
окно вылетел. А я только семь классов кончила. В восемнадцать замуж, там
мальчишка первый — уже не до ученья было.
Женщина замолчала, прищурилась. Солнце било в окошко, нахальное, щедрое,
забывшее, что почти осень, что надо бы себя поберечь к зиме.
— Ах ты мой славный, солнышко в носу защекотало? Будь здоров, расти,
сынок, большой! Это младший мой, четвертый годик. Старший, разбойник, в
Калинине с папкой, в седьмой класс пойдет. А я-то, — женщина нетяжко вздохнула,
— рожать к маме еду. Третьего ребятеныша — одурела баба! Девочку хочу. Мальцы
надоели, сил нет! Девочка бы тихая, что курочка, — так скучаю по девочке!
Анжеликой назову. Вот ты кончай, отдам тебе Анжелику. Будешь ее двум языкам
учить.
— Давайте, — засмеялась Красная Шапочка, — только ждать долго, пока я
кончу.
— Нам не к спеху, пока подрастем... Она у меня не то что я, недоучка, —
высшее получит. Сама, дурочка, в восемнадцать, а эту до тридцати замуж не пущу.
Выучится, нагуляется вволю. В тридцать в самый раз. Ой, не выходи замуж рано,
наплачешься! Спи-спи, сынок, еще не приехали. Баю-бай, баю-бай.
Красная Шапочка притворилась, что тоже дремлет, даже слегка отвернулась,
чтобы нельзя было догадаться по ее лицу о жаркой, сладкой волне.
Как с ней говорит эта женщина! Мало того что спросила, есть ли паренек, —
еще и про замуж, про рожать. Неужели она уверена, что у Красной Шапочки все это
будет?! И что она будет женой? Неужели правда? А если спросить еще раз: «Как вы
думаете?» И неужели она скажет: «А как же?! Ты такая, как все, — значит, тебе
такое, как всем. Вот смотри: ты боялась, не знала, как это — быть студенткой. А
теперь ты студентка — и все, ничего с тобой не случилось».
Красная Шапочка, не раскрывая глаз, недоверчиво покачала головой.
Студенткой — это правда. А женой, матерью? Ведь на нее никто-никто
никогда-никогда не обращал внимания. И виноватой, наверно, в этом была она
сама, хотя и была не только симпатичной, как выяснилось сегодня в такси, но
даже красивой, как объявила ее соседка.
И все же Красная Шапочка, всегда и во всем торопясь, и здесь как бы
предчувствовала чье-то будущее внимание, будущую заинтересованность собой — и
первая приглашала на танцах, писала открытки к двадцать третьему февраля. Она
всегда и всюду первая — сама хотела этого. Всего этого! И не потому, что это
все какое-нибудь такое восхитительное, как в фильме «Шербургские зонтики».
И потому тоже!
Ей до обидных слез бывает жалко, что никто не видит, как молодо и
одиноко звучат ее шаги в старой доброй гармонии Запсковья, как сияют ее глаза
каждому, кто попадается ей навстречу и — о, до чего равнодушно! — проходит
мимо. Только кошки спрыгивают с крыш сараев и, брезгливо стряхивая с лап мокрый
снег или пыль, перебегают ей дорогу. Одни только желтые абажуры светят ей вслед
да тихие глаза псковских старух.
Наконец, это уже невыносимо, что никто не видит, не знает того Пскова,
который открылся только ей.
Того Запсковья.
От ее дома до Запсковья было рукой подать, они всегда ходили с мамой
полоскать на Пскову́ белье, и
однажды, подоткнув сарафан и держа в руке босоножки, она перебралась на ту
сторону по скользким шатким камням. Ее Запсковью предшествовал острый холодок
уже остывшей воды. «Куда ты! Упадешь!.. — кричала мама, видя, как она
спотыкается, нащупывая устойчивые камни. — Шла бы по мосту, дурочка».
А она и сейчас уверена: пройди тогда по мосту, как ходила много раз, —
Запсковье так и не открылось бы ей. Она не смогла бы сухими руками сорвать с
него равнодушную печать «бывшей северной окраины». Она оправила сарафан, надела
босоножки и, махнув маме, полезла в гору, цепляясь за кусты и осыпая легкие
белые камни.
Первое, что тогда пришло на ум и что помнила даже среди мороза и снега:
«Так, верно, в Греции. В той послеантичной Греции, которая уже разрушилась,
выветрилась, выгорела. Здесь те же плиты, трава, кусты, небо — все белое,
сухое, пыльное. Здесь тоже никого нет, одна я на этом острове. Сижу и слушаю,
как что-то стрекочет и щелкает снизу и сверху: кузнечик и какая-то птица,
застрявшая в кусте бузины».
Красная Шапочка еще не знала, что так же одиноко и высоко могла сидеть в
Царьграде княгиня Ольга, оставившая позади не только детство — языческую Русь.
Уже забылось, что слышала о коварной княгине Ольге, псковитянке по рождению, на
уроках истории в седьмом классе, и если ей хотелось кем-то стать, то вон той
ящеркой, скользнувшей в щель между плитами, и так же сухо, легко, празднично
пробыть здесь всю жизнь.
«Надо же! — корила она себя. — Родилась и столько уже лет прожила во
Пскове — и всегда пленялась его центром: витринами, мороженым, разноцветным
фонтаном». Так индейцев пленял дешевый блеск европейских стекляшек. Но она
вовремя спохватилась, вовремя выросла — и уже ни за какие на свете приманки не
отдаст тот розовый вечерний свет, который возносит над Псковой осторожный и
гордый силуэт Гремячей башни.
Ту тишину и нежность белой ночи.
Того хриплого осеннего ветра, который обязателен перед первым снегом,
как чья-то последняя воля.
Тех январских восходов, когда алеют снег и стены церквей, а звонницы
просвечивают насквозь, как ладони.
Она никому не отдаст своего Пскова!
Но что это? Ведь она только и
думала, только и хотела в последнее время,
чтобы поделиться. Определенно что-то происходило с Красной Шапочкой! Какая-то
странная жадность и странная расточительность боролись в ней. Она вся стала как
огороженная артезианская скважина, и из нее щедро и бесполезно хлестала во
Пскове жизнь.
— Ахти тошненько! — Соседка вдруг всполошенно приподняла спящего Артура,
и Красная Шапочка увидела на ее юбке темное пятно. — То ничего, а то как
напрудит. Что ты будешь делать! Подержите, покуда я...
Красная Шапочка подержала на руках мокрого тяжелого Артура, пока мать
промокала юбку газетой и вытирала пол.
— Спасибо, помогли. Что будешь делать? Сиди теперь, — она сердито
тряхнула Артура, и тот, как заведенный, затрясся и запрыгал сам, — разводи до
Острова мокриц. Девушка, хотите яблочка? У меня вкусные, калининские.
Красная Шапочка с удовольствием бы попробовала калининских, но так не
хотелось отвлекаться от своих мыслей.
— Ой, нет, спасибо, у меня тоже есть. Да и вообще, за лето столько яблок
съела.
— Да уж, лето так лето! Мама пишет, помидоры на грядках краснеют. Уж
поедим вволю, так все магазинное надоело.
— Да, да, — вяло поддерживала разговор Красная Шапочка и думала совсем о
другом.
Когда же все это началось? Она не знает когда, знает только, что сразу.
Как только его увидела. Такого высокого, с сумкой «Adidas» через плечо. Такого
нового, такого всего чудесного! Он весь был новость! И потому, что он из
Таллина, где она никогда не была и столько слышала про всякие кафе, где на столике
горит только одна свеча и подают кофе с орешками. И потому, что он уже немного
старый (кто-то сказал, что он после армии), хоть и молодой и юный. Но его
юность была какая-то другая, не псковская. У него было бледное лицо, всегда
грустные глаза, худые кисти рук, длинные тонкие пальцы.
Ах да, потому, наконец, что он просто блестяще сдал все экзамены! У него
произношение, как у Лоуренса Оливье. И подсказывал он на экзаменах, как
самый-самый одноклассник. А свои-то, скобари, тряслись над шпаргалками, как какие-нибудь
опочецкие кулаки!
И вот она уже не может больше ни о ком думать. Только Эрик да Эрик. Но
что она ему, длинноволосому викингу из Таллина! Он же назвал ее скобаркой.
Но ведь нет же, нет! Красная Шапочка, замирая, как на качелях,
чувствовала, что в ней все противится самоунижению. Она ведь псковитянка, в ней
капелька крови «Великой княгини Российския Ольги»! Она встречала на вечевой
площади победную дружину Александра Невского. Лила с крепостных стен на головы
врагов кипящую смолу. Ткала холст и пела песни Пушкину.
Он должен узнать, должен почувствовать ее родину и ее гордость! А если
нет, то зачем было приезжать во Псков?! С таким произношением мог бы поступить
и в Таллине.
А если он приехал ради нее?! У Красной Шапочки всполошилось сердце. Если
предчувствовал ее, как... Татьяна Ларина — Евгения Онегина! Все может быть,
может быть, и предчувствовал. Но как узнать... А никак! Только дотерпеть,
только немножко проведать бабушку — и поскорей назад, во Псков. Найти и
объяснить ему. Что он... Что он — Татьяна Ларина?!
Она засмеялась тихонько и почувствовала себя самой красивой во всей
Псковской области.
— Ой, где это мы? Остров скоро?
— А считай, что Остров, Карпово уже. Будем выходить, так вы, девушка,
эту вот сеточку в коробку, ладно? А я чемоданчик.
— Давайте я чемоданчик, вам же нельзя.
«Ох эти румяные сильнорукие девы-псковитянки!» — с удовольствием
подумала Красная Шапочка. Одна лихо управляла паромом, не забывая кротко
опускать очи перед заезжим киевским витязем, другая вынесла, как ридикюльчик, и
грохнула об островскую площадь двухпудовый чемодан.
— Спасибо, девушка, милая. Нет нашей бабы Веры, поздно отбивали. Иль
подождать? Ну, спасибо тебе. Ты вот что, заезжай-ка на обратном пути. Ягоды у
мамы, яблоки. Улица Набережная, дом шесть «а», к Маркеловой Таисии, это я. Ты у
бабки-то долго собираешься гостить?
— Да нет, не очень. Сегодня же обратно.
— Чего ж так?
— Да так. Бабушка там не живет, она временно. В больнице.
— Ах, вон что... — Женщина вдруг как-то странно посмотрела на Красную
Шапочку. — В рубиловской, говоришь, больнице. Ну ладно, иди, иди, автобус
пойдет. Спасибо тебе, заезжай. Маркелова Таисия, дом шесть «а».
Красная Шапочка воротилась в автобус и увидела, что на ее месте сидит
румяный бородатый дед в выгоревшей гимнастерке и зимней шапке с кожаным верхом.
— Никак, дочуш, я сиденье твое занял?
— Ничего, дедушка, мне скоро уже выходить, я рядом сяду.
Поехали по Острову. Мимо собора-музея, мимо цепного моста, такого
узкого, что попробуй разъедься, мимо собственно острова — зеленого островка на Великой
с семейством боровичков посредине — Никольской церковью... Переехали реку по
новому мосту. Проехали Кресты, откуда шла дорога на Новгородку и Пушкинские
горы.
Дед смотрел в окно с раскрытым ртом, то и дело оглядывался.
— Да-а. Ишь как Остров застроился! Большой город стал. Все дома, дома...
Тут раньше только чайная в поле стояла, чай с баранками пили, а теперь,
видишь... В пять этажей строют.
— Вы, дедушка, не из Рубилова? — спросила Красная Шапочка.
— Не, дочуш, — дед охотно поворотился к ней, и она вдохнула запах шерсти
и овчины, — я из Дубков. Слыхала? Зубья в городе делал, во.
Дед с удовольствием оскалился, и Красная Шапочка подумала, что зубов ему
сделали все сорок, зато и рот не закрывается.
— Гожусь теперь в женихи?
— Годитесь, — засмеялась Красная Шапочка, — а вам лет сколько?
— Рождения одна тысяча восемьсот девяносто седьмого года! — отрапортовал
дед.
— Ух ты!.. А я думала, пятьдесят с чем-нибудь.
— Пятьдесят сыну моему, в Выборге учительствует. А тебе сколь?
— Почти девятнадцать.
— Внучка, значит. Маловато для невесты.
Дед наклонился к ней и, дыша гипсом, зашептал:
— Жениться хочу. Старуха моя два года как померши. Корова есть, борова
держу. Обряжаюсь-то сам, а одному скучно. Телевизор сын купил, пензия хорошая,
а все одно, без старухи скучно... Рассказали люди про одну в Грызанине, съездил
— так подстарок оказалась, восемьдесят два года. Ни спеть, ни сплясать, и
рукоделия бегает.
Красная Шапочка рассмеялась. Какие в этих краях деды веселые!
— У тебя, дочуш, бабки лесливой [Лесливый — местное выражение, то есть
ласковый, пригожий.] нет на примете?
Красная Шапочка весело задумалась.
— А ведь есть! Это же бабушка моя.
— Старая? — озаботился дед.
— Ну... нормальная. Кажется, семьдесят пять... В общем, помоложе вас. Я
как раз к ней сейчас еду. Если хотите, скажу про вас. Как вас звать?
— Мамонов Кузьма Григорьев. Скажи, дед хороший, непьющий. Сойдемся как
вар с дратвой...
Дед вдруг приник к окну. Там трактор тащил на железном листе, как на
противне, порядочный стог сена.
— Те-ефника! — Дед уважительно покачал головой. — Что только не
придумают, благо дорога что струна. Тут яйцо пусти — не разобьется... Да,
дочуш, тефника нонечь главное дело! Ты посмотри: поля ровно скатерти, конца и
краю не видать! А раньше, бывало, тут одни горы да каменья, да кусты торчат.
Все тефника.
Поговорили о том, о сем: о мелиорации, об урожае, причем Красная Шапочка
путала зябь и озимь, но дед ее рассуждения понимал хорошо.
— Рубилово, — сказал шофер, — есть на выход?
— Есть...
Красная Шапочка заторопилась к выходу, и дед крикнул вслед:
— Так скажи, дочуш!
— Скажу, скажу... Вы не знаете, где здесь больница? — спросила Красная
Шапочка у толстого молодого шофера.
— Вон, — шофер кивнул на длинный бревенчатый дом в саду недалеко от
дороги, — а зачем это вам больница?
«Подумать только! — горделиво зарделась Красная Шапочка. — Сегодня я
нравлюсь всем псковским шоферам!»
— Я к бабушке. Спасибо вам. А когда вы назад поедете?
— Примерно так в два пятнадцать — двадцать в Рубилове, посигналю.
Красная Шапочка выпрыгнула на дорогу и, чувствуя взгляды из окон
автобуса, разбежалась и так лихо перемахнула канаву, что опасно зазвенели банки
в корзине.
2
Красная Шапочка пошла к больнице прямо через некошеную траву, вспугивая
бабочек, стрекоз, пчел.
«Как же начать, — думала Красная Шапочка, — об институте сначала или про
жениха?» «Бабушка, представляешь, я тебе жениха нашла!» Нет, испугается еще.
Тогда так: «Бабушка, я студентка теперь». А хотелось бы: «Бабушка, я теперь
такая счастливая!» Если бы не Эрик...
Она подошла к больнице и пожалела, что не спросила у мамы, какое
бабушкино окно. Тогда бы она взобралась. Бабушка, непременно улыбаясь, вяжет
носок или варежку, и вдруг — батюшки! — в окне Красная Шапочка. Вот диво-то,
вот радость.
«Впрочем, нет, — подумала Красная Шапочка, — еще измажусь, изомнусь. Уж
лучше потерпеть и предстать перед бабушкой во всей красе».
Красная Шапочка вытерла башмаки о решетку перед крыльцом, еще раз — о
тряпку возле двери и еще раз — в начале коридора.
— Э, э, постой, куда? Ты к кому?
Большая, как бы двойная, в нечисто-белом халате, встала на пути тетка с
потным лицом.
— Здравствуйте, — скромно, но достойно сказала Красная Шапочка, — я к
Ксении Романовне Крестьянкиной.
— Это сперва к Катерине Тимофеевне зайди, вон последняя дверь. Погоди,
погоди, ноги вытери.
Тетка обмакнула тряпку в ведро, прополоскала, выжала большущими руками и
шмякнула Красной Шапочке под ноги.
— Спасибо, — Красная Шапочка старательно вытерла башмаки. — Скажите,
пожалуйста, это заведующая — Екатерина Тимофеевна? Мне мама сказала с
заведующей поговорить.
— Заведующая хламом, — незло сказала тетка и, видя, что Красная Шапочка
удивленно подняла брови, пояснила: — У нас же тут хроники.
— Что-что? — переспросила Красная Шапочка. — Как вы сказали? Это что
такое — хроники?
— А вот поглядишь — узнаешь. Иди-иди, мне мыть надо.
Красная Шапочка пошла по коридору, стараясь одновременно не запачкать
свежевымытый пол и не очень стучать деревянными башмаками.
«Что за хроники? — недоумевала Красная Шапочка. — Хлам — это понятно:
какой-нибудь старый сарай, и в нем старые телеги, сани, грабли, лопаты, то есть
все ненужное, сломанное. И Екатерина Тимофеевна заведует этим сараем вместе с
этой больницей. Хлам — это понятно. А что такое хроники? И что еще за запах? —
Красная Шапочка внюхалась очень внимательно. — Хлорка — само собой, еще что-то
больничное, это не в счет. Но еще что?.. Что-то незнакомое, слегка даже
приторное».
Одна дверь была раскрыта, и Красная Шапочка с любопытством заглянула
внутрь: в маленькой солнечной палате сидели на кроватях и мирно беседовали друг
с другом две одинаковые старушки в серых теплых халатах, в белых в черный
горошек платочках. «Как близняшки», — улыбнулась Красная Шапочка.
— Заходите, — услышала она на свой вежливый стук и, слегка волнуясь,
открыла дверь.
В очень чистой и белой комнате за белым столом сидела и писала вся
белая-белая, как бы только что слепленная из снега, женщина. Красная Шапочка
уморилась от жары, и ей было приятно очутиться в белой прохладной комнате.
— Здравствуйте. Я из Пскова. Приехала проведать Ксению Романовну Крестьянкину.
Заведующая подняла от бумаг большое красивое лицо, похожее на спелое
яблоко сорта «штрефель».
— А Крестьянкина уже и не ждет никого.
Заведующая, не скрываясь, подробно рассматривала Красную Шапочку.
— Почему? — улыбаясь, сказала Красная Шапочка. — Потому что мы не
писали, да?
— К нам сюда, девушка, не пишут, — заведующая усмехнулась и поерзала на
стуле, — это мы пишем, да и то когда писать уже не о чем. Чего ж мать или кто
еще не приехали?
Красная Шапочка что-то не понимала. Заведующая говорила о чем-то таком,
к чему Красная Шапочка была не готова, ее мама не предупредила. Или, может
быть, забыла?
— Мама очень хотела, но не могла. У них на работе комиссия, всю неделю
будут...
— Чего ж вы бабку сюда заперли? — перебила заведующая. — Она ведь у вас
не безродная.
Красной Шапочке стало неприятно, что ее перебили, но еще неприятней эти
слова: «заперли», «безродная»...
— Да так получилось, понимаете! — волнуясь, начала она, но заведующая,
не переставая ее рассматривать с ног до головы, снова перебила:
— Чего стоишь-то, вон табуретка за шкафом.
Красная Шапочка, суетясь, взяла белую табуретку, поднесла к столу, села,
привстала, чтобы расправить юбку, снова села.
— Понимаете, получилось так. Наш дом на капремонт поставили, паровое
будут проводить и квартиры расширять, и нам теперь будет отдельная, а пока мы в
переселенческом доме, все в одной комнате: папа, мама, я и сестра. Бабушка сама
попросилась сюда, она здесь жила давно. Нет, не в больнице... Ее муж был отсюда
родом. Мама сказала, что если бабушка захочет назад, то мама сразу приедет. Мы
не могли в одной комнате, понимаете? Комната маленькая, мы с сестрой вместе
спим, а родственников больше нет, чтобы бабушку взять. Мама не хотела, но
бабушка сама. Но мама приедет. Через неделю приедет и заберет.
Красная Шапочка с раздражением почувствовала, что заведующая не слушает,
а только, улыбаясь, все рассматривает ее. Невоспитанная какая! Постеснялась бы!
— Какое теперь назад! Разве что вперед ногами.
— Что... что вы говорите? — жалко улыбнулась Красная Шапочка.
— Ладно, это не с тобой разговор. Пойдешь к бабке-то? Она в шестой
палате, в том конце.
— Пойду, спасибо, — Красная Шапочка встала, ничего не понимая. То
«ногами вперед», а то — «в шестой палате»...
— Нянечка тебя проводит. Полы моет, видела? Верой зовут.
— Видела, спасибо.
Красная Шапочка взяла с полу корзинку и пошла, пятясь, к двери.
— Что там у тебя?
— Сливы, помидоры, груши, кефир.
— Ой, господи, да где ей съесть! Сама скушай, тебе на пользу.
— Я не хочу, спасибо, я сыта. — Красная Шапочка смотрела на заведующую,
сбычившись, она была почти оскорблена предложением съесть гостинец.
— Халат у Веры попроси. Потом зайдешь.
Заведующая снова стала писать, а Красная Шапочка, вздохнув почти с
облегчением, вышла.
«Ничего себе! — подумала она. — Вот так встретили... Но мама хороша! Нет
чтобы сказать, предупредить: там, мол, такая-сякая заведующая, но ты не бойся,
разговаривай уверенно. Ну что все-таки за запах? — она тревожно принюхалась. —
Больницей, само собой, но что еще?»
— Стой, руки вверьх! — Нянечка встала на пути, как трехстворчатый шкаф.
Красная Шапочка нашла, что вообще-то нянечка и заведующая похожи, только одна
свежеслепленная, а другая уже тает, чернеет.
— Тетя Вера, — как можно ласковей попросила Красная Шапочка, — вы не
дадите мне халат? Мне заведующая разрешила.
Красная Шапочка не захотела почему-то сказать: Екатерина Тимофеевна.
— Ага, только мне теперь в провожатые записаться, — буркнула нянечка,
нагнув к ведру лицо, но Красная Шапочка уже почувствовала, что ей ярко приятна
и ласковость просьбы, и обращение на «вы».
Тут мама права: ласковый теленок двух маток сосет!
— И полы, Вера, намой, и задницу подотри, — продолжала нянечка, и
Красная Шапочка вежливо слушала, — и голову расчеши, и в магазин слетай. Уколы
осталось только. Погоди, ведро вылью да руки ополосну, — своим наконец голосом
сказала она. — Не ходи одна, без халата вход воспрещен.
Красная Шапочка стояла на том месте, где ее остановила нянечка, и
осматривала на всякий случай стены, потолок. Все было чистое, надежное,
влажное. Пахло откуда-то не отсюда.
— На, надевай, и пошли, а то у меня делов полны руки.
Красная Шапочка пошла за нянькой, как аккуратный вагончик за потным
паровозом, шла, вдевая руки в рукава халата и выпрастывая поверх воротничок
блузки и кружева передника. Чтоб обрадовать бабушку нарядным видом.
— Крестьянкина, встречай гостей! — нянечка распахнула дверь и пропустила
вперед Красную Шапочку, которая, впрочем, не без труда протиснулась.
О, господи! Солнечная, тяжелая, мутная волна ударила в нее, и она,
захлебываясь, оглянулась. Нянечка толкнула ее:
— Да вон твоя бабка. У окна лежит, загорает.
— Здравствуйте, — выдохнула Красная Шапочка и, не дыша, чтоб не тошнило,
осторожно пробралась между двумя кроватями, тесно стоящими у двери.
Она постаралась ни на кого и ни на что не смотреть, пока шла к цели,
указанной ей нянечкой. Она пробиралась, вытянув шею и улыбаясь. Она хотела
издали увидеть, узнать бабушку. Ее бабушка была пряменькая, аккуратно
состарившаяся, с прибранными в косицу волосами, со светлыми, как бы
застиранными глазами. И, как всегда, за вязаньем: копошит спицами и улыбается
сама себе.
Красная Шапочка на цыпочках подошла к кровати у окна и остановилась,
жарко покраснев.
Кто это?..
Ее обманули или посмеялись?
То, что лежало на кровати, никак, никогда не могло быть ее бабушкой!
В сбитых, белых простынях лежало чье-то желтое высохшее тельце в белой
грубой рубахе с завязками на горле. В лицо она не посмотрела — боялась
смотреть. Она беспомощно оглянулась на дверь, но нянечка уже ушла.
— Садись на тубаретку-то, чистая, — прошелестел сзади чей-то голос, и
Красная Шапочка, вздрогнув, оглянулась.
Тощая, махонькая, как птичка, старушка сидела на кровати и болтала
маленькими сухими ножками в детских чулках в резинку. Красная Шапочка
пододвинула табуретку и села, не поправив юбку...
«Поглядишь — узнаешь...» Красная Шапочка, дрожа, смотрела в бабушкино
лицо — и не узнавала.
Бабушкино лицо стало совсем маленьким, ссохлось, глаза были закрыты,
седые длинные волосы, давно не чесанные, спутались, одна прядь прилипла к щеке
и губам. Но самое ужасное было не это — рот бабушкин был раскрыт, и там,
внутри, трещало и хрипело что-то. Что-то как будто забралось в бабушку через
открытый рот и, треща и хрипя, переворачивалось, как бы недовольное теснотой
бабушкиного тела.
Эта седая прядь, прилипшая к губам, эти желтые тесемки на горле и,
главное, этот ужасный внутренний треск — все было так неожиданно, так нелепо и
гадко, что Красной Шапочке сделалось стыдно и страшно.
Как такое случилось с бабушкой? С ее собственной бабушкой, которая месяц
назад еще потихоньку бродила сама, только что в баню ее возили на такси, читала
без очков Евангелие и вязала Красной Шапочке белые носки для лыж? Как же она?
Прошел всего месяц, даже, кажется, меньше, мало совсем прошло. Что было за этот
месяц? Ах да, она поступала и поступила, было много страху, волнений, она не то
что бабушку — себя забыла. Экзамены, консультации, а то еще шпаргалки ночью
писать. Да и дома собраться было нельзя. В маленькой комнате, где они жили
теперь, не повернуться, только и смотри, чтобы не стукнуться об угол
чего-нибудь. Бабушка, кажется, уже не ходила, лежала, она не помнит точно,
месяц назад было. Некому, совершенно некому было ухаживать за бабушкой: мама с
отцом днями на работе, сестренка еще маленькая, а у ней одна забота —
поступить. Она теперь не помнит, как все точно произошло. Что-то такое. Мама
звонила, бегала повсюду, узнавала. В Пскове нигде не было мест, ни в одной
больнице, и ей предложили Рубилово. Мама не хотела, заплакала, а бабушка не
плакала, даже улыбалась и сказала, что поедет. Места знакомые. Что-то такое. По
крайней мере, однажды Красная Шапочка пришла домой поздно вечером и не застала
бабушку. Бабушку увезли на «скорой помощи» в Рубилово.
Прошел всего месяц — и вот. Бабушка стала хроником. «Вот что это такое!
— содрогнулась Красная Шапочка. — Это то, что там, внутри. Что трещит и хрипит,
как бы лопаясь, и все не может лопнуть до конца».
Красная Шапочка дрожащими пальцами убрала прядь волос с бабушкиного лица
и, не зная, что делать, потрясенная, погладила бабушку по спутанным липким
волосам.
— Буди́, буди́, — зашелестела сзади подсказка, — она сегодня, считай, и не
просыпалась.
Красная Шапочка, дрожа от жалости и страха, нагнулась к бабушкиному уху.
— Бабушка, — четко и медленно сказала она, — ба-бушка, здравствуй!
Она подождала и сказала еще раз, нежно и настойчиво:
— Ба-бушка, это я. Бабушка, ты слышишь? Здравствуй. Я гостинец тебе
привезла...
Бабушка продолжала трещать и хрипеть, но ее веки задрожали. Они дрожали
и не могли раскрыться из-за склеившихся ресниц. Из-под правого века выкатилась
мутная слезка и скатилась к уху — к губам Красной Шапочки. Она поспешно
вытащила из кармашка кружевной платочек и осторожно, краешком, вытерла бабушке
глаза.
— Ба-бушка, это же я, — сказала Красная Шапочка совсем громко, и
бабушкины глаза, сначала правый, потом левый, приоткрылись.
— Лю-ба, — прохрипела бабушка, заглушаемая внутренним треском, но
Красная Шапочка услышала и обрадовалась.
— Это я, бабушка! Мамы нет... Ну посмотри, узнай меня. Узнала?
— Лю-ба...
— Бабушка, миленькая, узнай, пожалуйста! — Красная Шапочка отчаянно
зашептала прямо в ухо бабушке: — Мамы нет, но она приедет, слышишь? За тобой
приедет. Чтоб везти тебя назад, во Псков. Она мне это сказала тебе передать.
Бабушка!
Бабушка снова закрыла глаза и затрещала, захрипела.
— А я в институт поступила, — сказала Красная Шапочка пусто, — в
педагогический.
— Лю-ба... — Бабушка протянула к ней ссохшуюся желтую руку.
Красная Шапочка схватила бабушкину руку и стала гладить и дуть на нее.
Бабушкина рука замерла ненадолго, почувствовав тепло, и слабо высвободилась,
принялась мелко ощупывать внучкины колени.
— Лю-ба...
— Не узнает? — прошелестела сзади старушка, и Красная Шапочка, не
поворачиваясь, помотала головой. — И не узнает теперь.
— Но как же?! — почти крикнула Красная Шапочка, оборачиваясь и смаргивая
крупные обидные слезы. — Я же не могу так уехать, чтоб не узнала! Я сказать ей
приехала, что мама заберет, понимаете?! Что ничего, что мы в одной комнате. А
она не понимает, кто я.
Старушка смотрела на Красную Шапочку с тихим любопытством.
— А... а покушать ей можно? — спросила Красная Шапочка, остыв внезапно.
— Чего ж нельзя... Да только не съист, с ложечки надо.
— А где ложечка? Вот эту, из стакана, можно?
Ложечка была в засохшей простокваше, и Красная Шапочка, вспомнив, что
сразу у входа в коридоре была дверь с надписью «Умывальная», встала.
— Я пойду вымою, — сказала она и вышла, еле-еле сдерживая слезы.
В умывальной Красная Шапочка закрылась на крючок и, присев у стены на
корточки, чтобы не было видно с улицы в окно, дала себе волю. Больше всего на
свете ей хотелось сейчас съежиться в комочек, в такой маленький, чтобы
втиснуться в какой-нибудь уголок, в щель, и плакать там, уткнувшись в колени.
Она даже выбрала такой уголок — под крайним у двери умывальником, темный,
плесневелый угол, и, громко всхлипнув, представила, как заберется туда и будет
там сидеть: на нее будет литься грязная мыльная вода, ей будет холодно, мокро,
гадко, но ни за что она не вылезет оттуда.
Гадко ей было от всего. От того, что мама месяц назад послушалась
бабушку и привезла ее сюда. Гадко, что заведующая подумала про нее, что они
какие-нибудь такие... безжалостные. Гадко, что никто-никто не виноват, что
здесь или в Пскове такое все равно бы случилось с бабушкой. Гадко, что
случилось именно здесь, а не в Пскове и видит это и не может ничем помочь
только она, Красная Шапочка.
Слез было много, и плакать было легче, чем сидеть там, в этом запахе.
Она бы проплакала весь день и всю ночь, но надо было возвращаться кормить
бабушку. Она вымыла лицо, утерлась носовым платком и стала мыть стакан и ложку,
споласкивала, пока не кончилась вода в рукомойнике. Тогда она встала у
раскрытой форточки и, дыша глубоко, постояла, чтобы прошли следы слез на лице.
В коридоре ей уступила дорогу и оглянулась на нее тихая, как мышь,
старушка, но Красной Шапочке теперь не хотелось ни на кого смотреть.
Открыв дверь в шестую палату, она уже привычно задержала дыхание и
вдруг, неожиданно для самой себя, выдохнула. Возле двери стояли две близко
пододвинутые друг к другу кровати. Одна из них была пуста, а со второй в упор
на Красную Шапочку смотрели совершенно белые глаза.
Красная Шапочка никогда не видела таких глаз и, пораженная,
остановилась. Совсем еще молодая женщина смотрела на нее в упор и не моргала.
«Почему она так смотрит? — Красная Шапочка залилась краской. — Я ведь тогда со
всеми поздоровалась... Но могу еще, раз она так смотрит, может, она тогда
спала».
— Здравствуйте, — прошептала она и улыбнулась через силу.
Женщина ничего не ответила, только закрыла глаза. «Вот какая, — немного
обиделась Красная Шапочка, — я здороваюсь, а она не отвечает. Значит, и в тот
раз не спала, зря я повторяла».
Вобрав голову в плечи, она осторожно прошла к бабушкиной кровати и села
у изголовья. Еще в умывальной она решила, что ей надо делать, и сейчас, вытащив
из корзинки большую спелую грушу, выковыряла самое сочное место и поднесла
ложечку с мякотью к сухим бабушкиным губам.
— Лю-ба... — прохрипела бабушка, и Красная Шапочка неловко протиснула
ложечку между бабушкиными губами. Губы зашевелились, попытались забрать мякоть
и беспомощно застыли. Красная Шапочка обтерла бабушкины губы и снова поднесла
ложечку ко рту. На этот раз ей удалось протиснуть ложечку глубже, и бабушка вся
слабо зашевелилась, почувствовав мякоть во рту. Она жевала голыми деснами и
глотала, не раскрывая глаз.
Кое-как Красная Шапочка сковыряла треть груши и остановилась, не зная,
что делать со всем остальным: кефиром, сливками, помидорами.
— Не ест? — прошелестело сзади.
Красная Шапочка не ответила. Ей было обидно и горько признаться в
неудаче.
— И не будет. Утром Вера простоквашей кормила, так она хорошо если три
ложечки съела. Положь, что не портится, в тумбочку, Вера скормит.
— А сливы куда? Они мягкие.
— Куда хошь. Хошь, сама съешь, хошь, мне дай попробовать.
Старушка шелестела без выражения и болтала детской ножкой.
— Да-да, конечно, — засуетилась Красная Шапочка, — я сейчас... всем
попробовать. Вот, пожалуйста.
Она положила шелестящей старушке пяток слив и два яблока, подошла к
двери, положила гостинец на тумбочку перед пустой кроватью и, вдруг задрожав и
жалко улыбаясь, прибавив к порции грушу, положила все на другую тумбочку —
возле белых потухших глаз.
— Не хочу я, — еле слышно сказала женщина и отвернулась, но Красная
Шапочка, улыбаясь и заискивая, спросила:
— Господи, а вы-то что здесь — такая молодая?..
Женщина молчала и не поворачивалась. Красная Шапочка постояла немного и,
заливаясь алым цветом с головы до ног, отошла уже с уверенной обидой.
— Иди-ка, иди сюда... — поманила вдруг старушка, и Красная Шапочка
подошла и села возле нее. Самым приметным в старушке, как показалось вблизи,
был ее подбородок: сухонький равнобедренный треугольник, при разговоре-шелесте
часто и ритмично задирающийся ко рту. — Ты не спрашивай, я тебе скажу. Рак у
ней... Во Пскове операцию делали, обе сиськи отрезаны. Она тутошняя. Доживает,
считай, дома.
Красная Шапочка кусала губы, но надо было что-то говорить, спрашивать.
— А вы сами откуда? — спросила она шепотом, не подымая глаз.
— Я с Вышгородка, дочуш.
— А вы почему здесь? — она покраснела, мучительно чувствуя праздность
вопроса.
— По старости, — равнодушно зашелестела старушка, перекатывая во рту
подаренную сливу, — семьдесят девятый мне, дочуш.
— Так вы не очень старая еще, — как можно искренней прошептала Красная
Шапочка.
— А что ж ты будешь делать? Годы не вышли, а сил моих нету. — Старушка
выплюнула сливу в руку, чтоб легче было говорить. — Дожила, что ни поесть, ни в
уборную — все помощь нужна. Одна я, сын в городе, кто смотреть пойдет.
— А где ваш сын?
— Во Пскове живет. Улица Льва Толстого, дом один.
Она перестала вдруг шелестеть, и Красная Шапочка тоже молчала, слушая,
как жужжит и бьется в стекло осенняя муха.
— Он ученый у меня, мастером на заводе. Внуков двое. Двадцать рублей
присылает, спасибо. Все денежки сохранила. Ова, — и старушка отогнула матрац,
но так проворно, что Красная Шапочка ничего не разглядела. — На улице Льва
Толстого живут, дом один. Он высокий, рыжий, мальцы тоже рыжие, веснушчатые —
не встречала?
— Дом один по Льва Толстого? Это что у Дома пионеров, двухэтажный,
деревянный, черный такой?
— А-а, как раз такой. Не встречала?
— А ведь его снесли. Да уж давно снесли, там теперь клумба. Я знаю, у
меня за Домом пионеров учительница по английскому живет, я к ней на той неделе
ходила. Там клумба.
— Раз снесли — квартеру дали, — старушка снова зажевала и задвигала
подбородком.
— А почему же он вас не берет? — спросила Красная Шапочка и прикусила
язык, вспомнив о своей беде.
— Ай, на что я теперь гожа! Одно горе со мной.
— Ну что вы! — с болью воскликнула Красная Шапочка. — Вы же ничем таким
не больны, вы, наверное, просто ослабли.
— Не, дочуш. Катерина Тимофеевна говорит, твоя, мол, бабушка, болезь
лечению не подлежит. Только чтоб хуже не делалось, а лучше ни один дохтор не
поможет.
— А что это за болезнь? — сникла Красная Шапочка.
— Не сказать мне, дочуш. Такое как-то...
— Острое нарушение мозгового кровообращения, — вдруг громко и четко,
каким-то неживым, печатным голосом сказала женщина от двери, и Красная Шапочка
одновременно испугалась и обрадовалась неожиданной силе этого голоса.
— А-а, — сказала она в сторону женщины и даже покивала понимающе, хоть
ни разу не слышала о такой болезни.
— Во-во, — кивнула и старушка. — Дуся все скажет. Болезь тая, что сама
не понимаю, что со мной случивши. Ног не протянуть, все немило. То не заснуть,
а заснешь — как навалится что. Руки-ноги не поднять, будто отнявши, и страшно,
хоть криком кричи, а крикнуть никак. Лежу-лежу, пот, что роса, холодный, а ночь
длинная. Утром сползу, схвачусь за крюк, крюк в избе был вбит, и вот иду, все
иду, иду по стене, а когда и свалюсь что мешок. Это я думаю, дочуш, — старушка
нагнулась к Красной Шапочке и зашептала испуганно и доверительно, — думаю,
впотьмах-то смерётка ко мне похаживает.
— Кто? — сразу не поняла Красная Шапочка, а когда поняла, что-то вновь
содрогнулось в ней. — Да нет, что вы! Это, наверное, от одиночества, это просто
так. А вы лечитесь? Лекарства какие-нибудь?
— Дают, дочуш, и порошки, и питье на ночь — и все-то.
Она замолчала, снова взяла в рот сливу и вдруг оживилась:
— Я еще, бывало, что... Кровь у меня худая, а сказали, сахар хорошо. Так
я накуплю на всю пензию — и ем, ем, и с чаем ем, и с кашей, и с супом каким, и
голый. Не хочу, а силком пихаю.
— И кровь лучше?
— Кто знает. Может, лучше, а может, все такая.
— Ну, так вы ешьте, — Красная Шапочка пододвинула на тумбочке яблоки. —
Они как раз сладкие, ешьте, пожалуйста.
— Не жжевать мне, дочуш, — сказала старушка, но все же взяла яблоко и
стала надавливать им на голые десны.
— Девчата, кто на перевязку? — дверь шумно открылась, и Красная Шапочка,
оглянувшись на нянечку Веру, закивала ей как знакомой. Женщина возле двери высунула
худую голую руку и слабо замахала:
— Ох, Вера, быстрей, миленькая моя! Мухи летают, лезут, поганики.
Красная Шапочка напряглась, чтобы снова услышать в этом голосе то, что
ее испугало в первый раз, — и ничего не услышала, кроме обычного нетерпения.
— Перевязку будет делать, — прошелестела старушка и легла ровнехонько,
будто палочка, — вонь пойдет, что вздохнуть ни боже мой.
Красная Шапочка встала с табуретки и пошла к бабушкиной кровати. Бабушка
лежала недвижимо, с закрытыми глазами и вдруг зашевелилась, закряхтела и даже
подняла и бессильно уронила руку. Красная Шапочка торопливо нагнулась, чтобы
разобрать в бабушкином кряхтенье какое-нибудь слово, но бабушка уже замолчала.
«Обиделась! — горько догадалась Красная Шапочка. — Обиделась, что я
слушаю и думаю про других, а про нее, самую здесь родную, уже почти забыла».
Стыдясь и негодуя на себя, она стала мелко хлопотать над бабушкой:
подтыкать простыню, расправлять складки на одеяле. Она уже не пугаясь смотрела
в чужое бабушкино лицо. Надо было сделать еще что-то, и она, достав из кармана
передника резной гребешок, принялась расчесывать бабушкины волосы. Занятие было
бесполезным, волосы спутались так, что никакой гребень теперь не разодрал бы
их, но она со скорбной сосредоточенностью пыталась разделить хотя бы одну
прядь. Она крепко держала волосы у корней, но все равно, наверно, дергала, и
бабушке было больно.
— Ну потерпи, потерпи, — шептала Красная Шапочка, — сейчас такая
красивая станешь, такая красивая.
Что-то вдруг зашевелилось в ней, одно только робкое движение; шорох — и
Красная Шапочка вся напряглась, чтоб не спугнуть, дать взойти памяти о чем-то
глубоком, давнем.
— Такая красивая... что Марфа-царевна, — продолжала она шептать, уже
дрожа от слез, но память все поднималась и поднималась в ней, сладко и больно.
И какие-то слова вынесла, сначала томительную невозможность их выговорить, а
потом изумленный страх: как будто в чьем-то чужом рту чужим языком и голосом
выговорилось:
...Град срединный... град сердечный...
И сразу сделался белый ослепительный свет, и холмы за окном сделались
горами...
Было утро и запах пирогов, который пробрался в самое дно сна и там так
стал щекотать ноздри, что невозможно было ни спать, ни просто лежать, ни
одеваться. Внучка, румяная со сна, с распущенными по рубашке волосами, босиком
вбегала к бабушке на кухню. «Ты чего тут делаешь?» — «Пирогов тебе напекла».
Внучка забиралась на табуретку: «Ну, давай». — «Каких тебе? Вот эти с малиной,
эти с черникой». — «А эти?» — внучка указывала на самые крайние, самые
маленькие и аккуратненькие, как воробышки. «А эти, доченька, с молитвой». —
«Давай с молитвой!»
Внучка хватала горячий пирожок, откусывала. Сейчас она распробует, что
за молитва такая. Наверно, еще слаще, чем малина, и еще чернее, чем черника.
Еще раз откусила, еще — и пирожок весь кончился. «А молитва где?» — «Как где? —
удивляется бабушка. — Ты ее уже проглотила». Внучка прислушивается, но ее живот
молчит. «А там одно тесто было». — «Ну как же, — бабушка укоризненно качает
головой, — я ее сама творила, сама запекала». И внучка верит, что и вправду
проглотила, но второго пирожка ей почему-то не хочется. «Давай-ка я теперь тебя
расчешу», — говорит бабушка и садится возле окна, зажав внучку коленями. Внучка
чувствует большую бабушкину руку у себя на голове, и ей сразу делается сладко и
сонно. Но спать бабушка не дает. «Вишь, какая красивая стала, что
Марфа-царевна. А теперь давай стишок поучим». — «Не хочу стишок, — упрямится
внучка, — давай лучше в полотенце играть». — «Сперва поучим, потом поиграем».
Красная Шапочка сидела не шевелясь и не дыша. По щекам у нее катились
слезы, она ловила их ртом и беззвучно глотала.
Неужели это было с нею, с нею и бабушкой? С этой самой бабушкой, которая
лежит теперь и не узнает ее? Красная Шапочка не моргая смотрела в лицо бабушке,
силясь узнать в ней ту, и тот жаркий и душистый от пирогов летний день, и то
стихотворение, вспомянутое бабушкой из давней школьной книжицы.
Град срединный... град сердечный...
«Бабушка, бабушка! — нежно и изумленно думала она. — Это ведь я! И это
твое стихотворение. Я забыла его навсегда, но оно само пробилось. А где ты?
Зачем ты такая, бабушка?! Я все вспомнила. И как ты чесала мне волосы, и как я
дергалась в твоих коленях, притворяясь, что больно. Даже свой восхищенный
страх, когда ты, помнишь, грозно вопрошала: «Кто, силач, возьмет в охапку холм
Кремля-богатыря?.. Кто собьет златую шапку у Ивана-звонаря?» И твое лицо
разглаживалось, ты глядела куда-то вверх, и я приподнималась на цыпочки, чтоб
тоже — разглядеть. «Процветай же славой вечной, город храмов и палат, град
срединный... град сердечный... коренной России град...» Я тогда ничегошеньки не
понимала, не знала, что это такое: «Кремль-богатырь», «Иван-звонарь», и только
без конца картавила за тобой: «град срединный, град сердечный...» — и
чувствовала, как от тебя ко мне переливается великая радость и сила».
«Бабушка, миленькая! — тайно и страстно зашептала Красная Шапочка. — Не
уходи. Будь снова моей бабушкой, пеки пирожки с молитвой, расчесывай волосы,
учи стихотворение, — только не уходи, останься».
— Барышня, а барышня! — громко и ласково сказала вдруг женщина, и
Красная Шапочка очнулась, утерла слезы и оставила бабушку. — Ты дала б мне
зеркальце. Верно, есть у тебя зеркальце. Такая красивая барышня.
— Да, пожалуйста, сейчас дам! — с забившимся сердцем, благодарная, даже
немножко гордая, что она все-таки замечена, что нужна, что сейчас хоть так —
зеркальцем — облегчит страдание, она нагнулась и поспешно вытащила из корзинки
овальное зеркальце.
— Тш-ш... — зашелестела вдруг старушка, подняла с кровати голову и показывала
знаками, чтоб Красная Шапочка подошла к ней. — Что ты, что ты! Ни боже мой! Она
ж рану хочет смотреть, травиться...
— Ой, нет... извините, — залепетала Красная Шапочка, пряча подальше
зеркальце, — забыла, кажется. Ага, точно забыла. Все взяла, а зеркальце забыла.
Она старалась не смотреть в ту сторону, где шла перевязка, где все
жужжала осенняя зеленая муха, — и все-таки смотрела... Краем глаза, крадучись
от самой себя, жадно смотрела.
— А смотреть-то, Дусь, нечего, — притворно равнодушно сказала нянечка
Вера, кидая в таз грязные бинты, — подживает славно, ишь как подсохло.
— Ай, ты, Вера, добрая. Ты все похваливаешь...
Женщина засмеялась, и Красная Шапочка, стыдясь и ненавидя вдруг себя,
почувствовала, что женщина еще верит и еще надеется...
— Ну вот и слава богу. Лежи теперь спокойно, жди обеда. Оголодали у меня
небось.
Вера поднялась.
— Верушка, что сегодня на обед? — подняла голову старушка.
— Ох, баб Кать, ты и поесть горазда! — засмеялась нянечка. — Молочный с
вермишелью, биток и кисель с вишен. Обирала давеча вишни, перецарапалась —
впору перевязку делать. Дусь, делай перевязку, ты у меня ученая.
Нянечка вышла, веселая, большая и здоровая.
— Кабы с охоткой ел, — вздохнула старушка, — а то пихаешь силком. Ни
вкусу, ни запаху.
— Зато потом запах, — вдруг дробно рассмеялась Дуся, и Красную Шапочку
всю обновил ее смех. — Ночью хоть противогаз одевай.
— Ай, Дуся, Дуся, не блажи, — обиделась старушка. — Моя вонь не вонькая.
Тебе перевязку делают — я лежу, дыхнуть боюсь.
Женщина сразу замолчала.
— Ну, коли так, — сказала она с расстановкой, — погоди маленько. Мало
осталось. Чисто тогда вздохнешь.
Она поперхнулась, закашлялась. Остановилась с трудом, но дыхание было
тяжелым, прерывистым.
Красная Шапочка сидела помертвевшая. Она ненавидела сейчас шелестящую
старушку, но больше всех — себя за здоровье и молодость.
Снова стало тихо, но тишина была нехорошая.
— Хоть вольно посидеть, — вдруг послышалось сзади.
Красная Шапочка неприязненно оглянулась и увидела, что старушка сняла
чулки и болтает, как девочка, босыми сохлыми ножками.
— А то сопрела вся.
Она даже встала с кровати и, держась за спинку и оставляя на полу
маленькие следки, подошла к окну.
— Ишь, сад выкосили. Какая трава бывши! А покосил бы! — Она
встрепенулась. — Я, бывало, кошу-кошу. Не покуль хватит, а покуль искорки с
глаз.
Она вдруг схватилась за подоконник, стала тихонько оседать.
— Ой, дочуш, — выдохнула, — пособи сойти.
Красная Шапочка вскочила, подхватила легонькое сухое тельце и почти
донесла до кровати.
— Спасибо тебе, — отдышавшись, выговорила старушка. — Все теперь так.
Что былина в поле.
Красная Шапочка снова села и, не замечая, стала бессмысленно
раскачиваться на табуретке. Она как будто бы сама состарилась и сама ждала
своего конца.
— Дусь, а Дусь, — вдруг весело закричала из-за двери нянечка. — Женька
твой подруливает. С гостинцем!
Дуся зашевелилась, попыталась даже приподняться, но сил не хватило.
— Помочь? — встрепенулась было Красная Шапочка.
Дверь приоткрылась, вошел беленький тихонький мальчик в синем школьном
костюмчике и, не здороваясь, потупив голову, подошел к Дусе. Та снова подняла
голову, хотела что-то сказать, но вдруг кашлянула, потом еще, еще — и вдруг
повалилась назад и, захлебнувшись, закашляла так хрипло и так страшно, что
Красная Шапочка, побледнев, вцепилась в табуретку. Мальчик стоял как
провинившийся, терпеливо ждал, но когда мать, борясь с кашлем, выдохнула одно
только слово: «Песок!» — он нагнулся, быстро вытащил из-под кровати туго
набитый мешочек и осторожным ловким движением уложил матери на грудь. Она
кашляла, но уже не так страшно, легче и реже, наконец совсем перестала.
— Ну, что там, сынок? — постанывая, бессильно спросила. — Цыпок
накормил?
— Накормил, — не отрывая глаз от пола, сказал мальчик.
— А Зюрьку?
— Покормил...
— Папка — что? Не пил вечером?
— Не пил.
— Ну слава богу.
Красной Шапочке было стыдно и больно, что она снова подслушивает, но не
слушать, отвернуться совсем — не могла. Как будто кто-то велел ей выслушать,
запомнить навсегда этот бескровный голос, эти тусклые пряди, выбеленные
страданьем глаза.
— Что же ты мне принес? — спросила мать, разглядывая мокрый полотняный
мешочек.
— Творогу.
— Сам творожил?
— Сам.
— Ай, Женя, сынок, кушайте с папкой сами. Попроси бабу Нюшу, она вам
творожников пожарит, покушаете с маслом. Масло есть еще?
— Есть.
— Кушайте масло, не жалейте! А если кушать не будете, я расстроюсь, мне
тогда и больница не впрок, не поправлюсь. Будете с папкой кушать?
— Будем.
— Книжки теперь все есть? Ну и хорошо, а за тетрадками в Остров с папкой
съездите. С портфелем походи, сынок, со старым, ладно? А на другой год я тебе
новый куплю, с двумя замками. Ну, ладно, иди, сынок, нам обедать скоро. Ты
пришел иль на велосипеде?
— На велосипеде.
— Езжай осторожно, по краешку. Ну иди, иди...
Мальчик, не прощаясь, вышел.
Красная Шапочка смотрела в бабушкино лицо, гладила ее руку и слушала без
страха, как бабушка хрипит.
«Хоть бы глаза открыла, — тоскливо думала она, — хоть бы знаком каким
показала, плохо ей или нет. Но ведь от боли другое лицо, искаженное, в кино
сколько раз видела, а у нее только что бессмысленное, а так почти нормальное.
Что же все-таки это — самое страшное или еще нет? А если нет, то что же самое
страшное?»
Красная Шапочка не успокоилась, но как бы отупела от жары, духоты,
бабушкиного хрипа, жужжанья мухи. Хотелось есть — и противно было думать о еде.
Она сделала все, что могла: кой-как причесала, покормила бабушку,
протерла тумбочку, сложила туда гостинец, поправила подушку, задернула
занавеску, чтобы солнце не пекло. Можно было и надо было уходить: обратный
автобус останавливается в Рубилове в два пятнадцать. Но она сидела как
приговоренная к душной палате с жужжащей мухой, к жаркому ленивому солнцу, к
бабушкиному хрипу — ко всей этой новой и уже не страшной жизни. Ей не хотелось
уходить, она хотела остаться. Она не знала, ка́к помочь. Может быть, вытирать им лоб, мыть пол, щипать вишни, пересилив
себя, делать перевязку. Или просто сидеть, как сейчас сидит, ничего не делая,
не думая ни о чем, не дыша.
— Нынче день какой, дочуш?
Она не вздрогнула, не обернулась на шелест.
— Двадцать... Двадцать шестое августа, четверг.
Муха пожужжала еще и затихла.
— Лю-ба... — прохрипела вдруг бабушка, и Красная Шапочка нагнулась к ее
лицу.
— Люба, да, Люба! Это я, бабушка. Мамочка моя миленькая, — горячо
зашептала она, целуя бабушкину руку, — я приеду за тобой, недельку подожди. Это
я, я... Ты узнала? Я приехала и увезу...
Бабушкина рука ощупала ее колени и замерла. Красная Шапочка нагнулась,
поцеловала бабушку в лоб и в волосы и встала, чтобы уходить.
Шелестящая старушка снова сидела, болтая босой ножкой.
— До свидания, — сказала Красная Шапочка, — мне пора...
— Раз пора, вам молодым все пора.
— Так, может, найти вашего сына? — спросила Красная Шапочка. — Как его
фамилия?
— А чего находить? Здоровья еще маленько есть, и денюжки есть. А то
найди! — сказала вдруг старушка, ожив: ожил ее голос, подбородок, ожила и
уцепилась за Красную Шапочку рука. — Полторацкий фамилия. Полторацкий Виктор
Георгиевич, двадцать девятого года. Скажи, хорошо я. Питают хорошо, товарки все
хорошие. Скажи, деньги все целы, может, нужно чего купить — я дам.
— Не плачьте, — сказала Красная Шапочка, отцепляя ее руку. — Ну, не
плачьте, пожалуйста. Я все найду и скажу, только не плачьте.
Старушка, не вытирая слез, улыбнулась и вдруг, погладив Красную Шапочку
по руке, задребезжала:
Как же девушке не плакать,
Как же мне не горевать —
Дружка записывают в списочек,
Не хочут браковать...
— Я обязательно найду, — сказала Красная Шапочка и, еще раз поцеловав
бабушку, пошла к двери.
— До свиданья, — сказала она, повернувшись ко всем.
Она хотела сказать, что не уходит. Она оставалась, она теперь навсегда с
ними. Она еще хотела сказать, что не просто остается, она сделает что-нибудь,
придумает, попросит кого-нибудь, уж постарается...
Она хотела и не знала ка́к, и
только прошептала, опустив голову:
— Поправляйтесь...
3
Заведующая была занята, делала кому-то срочный укол, и Красная Шапочка
не стала ждать. Отдала халат нянечке Вере, угостила специально припасенной для
нее грушей, просила смотреть за бабушкой и обещала, что через неделю приедет
мама забирать бабушку назад.
Она вышла из больницы и пошла не то чтобы куда глаза глядят, но, по
крайней мере, не к автобусной остановке: свернула и вошла в неогороженный сад.
В саду пахло нагретыми яблоками, летали пчелы. Она подняла яблоко-опадыш, надкусила
и бросила. Она шла через сад, как сидела возле бабушки: не думая, не дыша...
За садом был магазин, и она вошла, идя как бы насквозь. Пообвыкла
немного в затхлой полутьме, обвела равнодушным взглядом полки, заваленные
горелыми буханками, заставленные бутылками с подсолнечным маслом, малиновым
сиропом, водкой. Увидела на прилавке выгоревшие пачки папирос «Волна»,
попросила вдруг одну и спички и вышла.
Не думая, повернула к дороге, на солнце, пошла, опустив лицо и
спотыкаясь.
Автобус или ушел, или было еще рано — ей сделалось все равно.
Она вошла в канаву, пошла по ней до первого куста и села под ним на
жесткую пыльную траву.
Она не умела, никогда не пробовала и не хотела курить, но что-то надо
было сделать с собой, что-то совершенно новое, неожиданное, гадкое, как этот
день, как весь свет... Бесполезно перечиркав с полкоробка, она кой-как
раскурила папиросу, вдохнула так глубоко, как только могла, — и закашляла,
зачихала, но папиросу не бросила. Она сплевывала попавшие в рот табачины,
кашляла, чихала, по ее щекам на белый воротник блузки и кружева передника
катились пыльные слезы, ей было жарко и худо и хотелось, чтоб было еще хуже.
Она вспомнила, что оставила в магазине корзинку, хорошенький туесок, и
мстительно обрадовалась: «Вот, пусть. Так и надо. Оставила и не пойду. Пусть».
У нее кружилась голова, билось гулко сердце, мухи кусали ее голые руки и
соленое от пота и слез лицо, — она ничему не противилась. Даже если бы мухи
сплошь облепили ее, она бы не пошевелилась. О, если б ей разрешили за это
бессмысленное терпение купить здоровье для бабушки, Дуси! Она бы век отсидела
под кустом, не думая, не моргая. Солнце спекло бы ей лицо, и она даже не
помочила бы щеки слюной...
Если б можно было! Она отбросила папиросы, повалилась ничком в траву и
тихо застонала от жалости и воспоминаний.
«...Бабушка, хватит «град средний»! Давай в полотенце играть». И бабушка
садится на кровать, а я с визгом бегаю мимо нее, и она несильно щелкает меня
полотенцем. Моя любимая игра! Я не просто бегаю мимо бабушки, а, пробегая, должна
чувствовать момент, когда она поднимет руку с серым домотканым полотенцем, и
вовремя увернуться, а увернувшись, хохотать с восторгом над старой глупой
бабушкой: «Не задела, не задела!»
Никогда этого больше не будет! Не будет пирожков с молитвой, не будет
«град средний», не будет полотенца в бабушкиной руке... Не будет бабушкиной
руки.
С грязным от слез и земли лицом Красная Шапочка перевернулась на спину.
И не будет больше бабушкиной жизни!
Красная Шапочка горько и суетливо что-то отыскивала в своей памяти, но
все было ненужным, отжившим: бабушка родилась на какой-то покров, бабушка пела
в каком-то хоре какого-то барона Фридерикса. Бабушка вышла когда-то замуж.
Кого-то родила еще до мамы. Их как-то звали, девочку и мальчика. Потом они
умерли, и муж бабушкин тоже. Они все умерли — и как будто их и не было. Ни лиц,
ни имен. И совсем скоро так будет с бабушкой...
Все было в последний раз. В самый первый и самый последний, и некого
просить, чтобы все повторилось, чтобы полюбить еще сильней и еще больше запомнить.
А если б и можно остановить или вернуться в ту жизнь, где не было воспоминаний
и слез, то все равно рано или поздно будет так, как сегодня.
Солнце нашло ее лицо, и она вяло прикрылась легкой пыльной веткой.
И солнце, и ветка со свянувшими от жары листьями, и какая-то желтая
мушка, застрявшая в трещине стебля. Зачем все, когда вокруг болезнь, старость,
смерть!
Она снова ткнулась в траву, но трава не холодила, не успокаивала, и
Красная Шапочка раздвинула стебли и прижалась лбом к тоже теплой земле.
С какой острой жалостью она вдруг почувствовала себя обманутой! Так в
детстве на один вечер ее обманывала мама, чтобы уйти с отцом в кино, но сейчас
кто-то обманул на всю жизнь. Сказал: живи, вот она, твоя жизнь, — вот школа,
пионерские сборы, «капустники» и «огоньки», контрольные и экзамены... пятерки,
четверки... тройка по английскому. Вот какая-то Сельхозтехника. Именно
«какая-то»! Она только носила до почты и с почты простые и заказные письма и
бандероли и почти не знала и не задумывалась, что в Сельхозтехнике делают
другие люди.
И жила так же! Жила и не знала, что такое жизнь. Как бы поверила на
слово — и села играть. Играла Псковом, сегодняшним утром, Маркеловой Таисией с
Анжеликой в животе, играла дедом-женихом...
Подняла голову, — а двери закрыты — и уже вокруг болезнь, старость,
смерть!
Она задрожала от слез, вспомнив, как бабушка ощупывала ее колени.
Но почему все так? Так страшно и несправедливо!.. Так почти подло! Если
б она знала, если б хоть кто-нибудь сказал, шепнул заранее, что все выйдет так,
что ее запрут здесь, в канаве, и никого не будет рядом, и не будет выхода —
только болезнь, старость и смерть...
«Но что тогда? — думала она, давясь слезами. — Что, если б знать
заранее? Попросить ключ? Какой, куда? В завтрашний день — в студенческую, в
учительскую жизнь? Или куда-нибудь на край света, в Гималаи, в Непал? Как будто
и там не разыщут и не вернут ее себе болезнь, старость и смерть».
«Зачем я — ведь и я умру?..»
Она затряслась от рыданий. Все, что накопилось в ней за этот день — и
жалость, и боль, и стыд, и страх, — все наконец вышло слезами.
Господи, что ей другие! Какое теперь дело... Ведь она, она сама в
последний раз! Ее самой, такой единственной, никогда больше не будет на
свете...
Не будет просыпаться и, забыв, что был вчерашний день, думать, еще не
умея сказать себе: «Ой... А зачем я здесь?» Не будет картавить «град срединный»
— и вообще никогда больше не будет картавить. Она уже умирает, давно начала
умирать — и теперь уже никак не остановиться.
Кто-то тоненько впился в ее голую шею, и она замерла, почти не чувствуя
боли.
Если б так, если б со всей кровью был высосан и этот страх перед ее
будущим! Она бы вытерпела любую боль... Только чтоб не лопалась с треском
жизнь...
Как все противно — и как хочется жить!
Загудел вдруг совсем близко автобус, и Красная Шапочка с забившимся
сердцем пригнулась и заползла глубже в куст. Автобус погудел и ушел, обдав ее
новой пылью.
«Ах, так?! — вдруг злобно и радостно подумала она. — Тогда пусть, пусть!
Если я — пусть все, все вместе со мной. И толстый шофер из автобуса, и
Маркелова Таисия, и веселый дед с новыми зубами».
И Эрик Питкевич из Таллина?!
Красная Шапочка вдруг вскочила и села, бессмысленно выдернув с корнем
пук травы, стала мять его, кроша землю и выдавливая зеленый сок на передник.
Да что же все это? Как она могла забыть, не вспомнить ни разу за все это
время о главном — об Эрике! Больница, бабушка, Дуся, шелестящая старушка. А где
же Эрик?! Она ни разу не вспомнила о нем за все это время, и он отошел от нее
во второй раз, в мыслях отошел. И она, как бы провалившись, чувствует, что уже
никогда не выберется к нему из этой канавы. Нет ни сил, ни желаний — ничего не
осталось в ней.
«Но раз так, — она мстительно растерла по лицу пыльные слезы, — раз все
так, я скажу до конца. Я теперь знаю, что́ за запах был в коридоре. Я давно поняла. Там уже прошла смерть. Смерть
прошла по коридору, и это был запах ее тела и ее юбок. Если она пришла за
всеми, то за мной первой!»
Задохнувшись, Красная Шапочка выскочила из канавы и побежала по дороге,
теряя на ходу башмаки. Так жутко бывало только во сне, когда гонятся, гонятся —
и вот-вот!..
Сзади зашумела «Колхида», и Красная Шапочка, выскочив на середину шоссе,
отчаянно замахала руками.
Она забралась, как на трон, на жаркое кожаное сиденье и всю дорогу до
Пскова сидела молча... Шофер-литовец ни о чем не спрашивал, стесняясь говорить
по-русски с акцентом.
— Знакомый? — спросил он только один раз, когда Красная Шапочка
высунулась из окна кабины и долго смотрела назад, пока не пропал велосипедист с
белым мешочком на руле.
4
Во Пскове Красная Шапочка вышла и почувствовала, как каблуки
вдавливаются в асфальт.
В автобусе ее сдавили горячие потные тела, и она, не противясь, слушала,
как тяжко бьются об нее чужие сердца. В автобусе говорили о местном футболе, о
соревнованиях гребцов на Великой, об уйме яблок, о сгоревшей картошке, о
школьных формах и нехватке букварей. Она подавленно слушала и не поворачивала
головы, когда ее ругали: «Девушка, ну что ты проход загородила!»
Дома была только сестренка, и она обрадовалась Красной Шапочке, заскакала,
заверещала. Красная Шапочка сняла свой пропылившийся наряд, натянула выгоревший
купальник и сарафан и сказала сестренке:
— Мне еще надо куда-то сходить.
— Ой, и я с тобой, ты на речку, и я... Возьми меня, мама разрешила
купаться, — захныкала сестренка, но Красная Шапочка только хлопнула дверью.
Ее лицо и тело были залиты слезами и потом, серы от пыли, и только вода
могла спасти ее.
Она снова шла по Рижскому шоссе, но Пскова не видела. Кругом были люди,
люди и люди. Они шли навстречу и обгоняли ее сзади, касаясь, задевая рукой или
сумкой, иногда толкая. Люди стояли просто так, или в очереди, или ждали
автобус, заходили и выходили из магазинов, люди молчали, говорили, смеялись, их
было так много, и все они были здоровые, живые, но ей было все равно до них.
Она хотела только в воду, окунуться с головой, чтоб снова не слушать, не знать,
не думать.
Она пошла на свое место к кремлю, разделась и села под песчаным обрывом.
Подумать только!.. Прошел уже год или сто лет с того — сегодняшнего —
утра, она стала старая и неживая, а здесь, на песчаной косе, все еще был день и
люди еще загорали, не думая или вообще не зная о том, что их ждет впереди. В
воде сходили с ума мальчишки, брызги долетали и до нее, она поеживалась, но с
места не двигалась, сидела ссутулившись, обхватив руками колени. Солнце уже не
пекло, народ вставал, собирал свои простыни и полотенца в цветные сумки и сетки
и уходил мимо нее.
Не подымая головы, она угрюмо смотрела на чьи-то босые ноги, на красные
ногти, вздувшиеся вены, растрескавшиеся пятки. Ее душа была придавлена
тяжестью, и она, уже не чувствуя боли, тупо и терпеливо ждала, пока уйдут все.
Что-то вдруг зашуршало над нею, посыпался песок, но она не обернулась.
Она не обернулась, даже когда раздался сверху такой знакомый, такой еще долгожданный,
но уже из той, прошлой ее жизни голос:
— Привет! Сколько зим!..
Она сидела, вобрав голову в плечи, но спиной видела, слышала, как стоял
наверху, как смотрел и улыбался ей Эрик Питкевич.
— Слушай, это настоящая телепатия! Потрясающе!
Он уже не стоял, уже спускался к ней, съезжал по рыхлому горячему песку.
— Ну только-только о тебе подумал — и ты сидишь. Ты что, с неба
свалилась?
Она пожала плечами и скрыла от него потерянное лицо, ссутулилась еще
больше.
— Ты только пришла? А я уже часа три здесь торчу.
Эрик был босиком, в майке и джинсах, сумку и клетчатую куртку кинул на
песок.
— Нет, настоящая телепатия! Только подумал — и сразу.
Она попробовала что-то сказать, что она — тоже, но у нее не получилось.
И она, кашлянув, подвинулась, освобождая ему место на расстеленном полотенце.
Он сел так рядом с нею, что она еще раз подвинулась, и ее губы задрожали от
невозможности счастливо улыбнуться.
— Ну, как жизнь? Скучно стало без экзаменов, скажи? Все дело было. А я
сегодня весь Псков обошел. С восьми утра как встал, так все ходил...
«Значит, — тоскливо думала она, — когда я подъезжала к Рубилову, когда
лихо перемахнула ту самую канаву, когда, страшась, привыкая, сидела возле
бабушкиной кровати, он догонял меня по моим детским глупым следам... Все
поздно, ненужно!»
— Слушай, ничего город! И не потому, что старый, — зелень везде, новые
районы довольно чистые, квас вкусный… А в Запско́вье просто потрясающе!
— За́псковье, — хмуро поправила она.
— И значит, За́величье, да?
Слушай, за рынком был один момент — ну просто настоящая Испания! Представь:
неширокая улочка, без зелени, только плющ на белых стенах, тротуары каменные
раскалены, трава в трещинах. А решетки на узких высоких оконцах впрямь
мавританские...
— Это где, на Гоголя? — равнодушно спросила она.
— Понятия не имею. Где-то рядом с речушкой. Слушай, ты, наверно, здесь
каждый камень знаешь? Я уже хотел тебя найти. У девчонок в общежитии спросил,
говорят, не видели.
«Неужели это правда... — вяло дрогнула она, — все это? Его голос, его
длинные, почти касающиеся моей щеки, волосы, его желтая куртка, брошенная к
моим ногам?..»
— Ты что сегодня делала? Отсыпалась небось?
Она больно закусила губу и снова почувствовала вкус тех слез, той
канавы, той травы.
— Я к бабушке ездила. В больницу для хроников.
Она не собиралась рассказывать ему о своем горе, но молчать и слушать
его беспечный голос было невыносимо
— Ты когда-нибудь слышал, что это такое: дом хроников? — Она благодарно
услышала его внезапное молчание. — Это когда все безнадежно. Там и старые, и
молодые. И они никому не нужны. Я никогда не думала, представить себе не
могла...
Красную Шапочку прорвало. Сбиваясь, путаясь, останавливаясь, она
рассказывала все, что видела и что было потом с нею.
Эрик слушал молча. Она не видела, какое у него стало лицо, но
чувствовала, как тяжесть на ее душе, как бы подмытая, постепенно теряет вес.
Нет! Тяжесть оставалась — Красная Шапочка теперь навсегда там, в палате, — но
одновременно она как бы с грузом уходила в воду.
— Ну скажи, скажи, ты знаешь? Зачем все это — все наши экзамены,
волнения, то, что мы поступили, будем учиться?.. Зачем, раз все равно?
— Ну, ты даешь! — сказал Эрик. — Как зачем?! Чтобы жить.
Она едко усмехнулась:
— А жить зачем? Да нет, можешь не говорить, все это я знаю, слышала.
Если б жизнь! — Она вдруг зло вспомнила о своих гуляньях по Дмитриевскому
кладбищу, о расколотой могильной плите под кустом шиповника. — А то так,
подачка. Временное бытие!
Эрик удивленно посмотрел на нее:
— Слова-то какие выкопала: «подачка», «бытие». Я и не думал, что ты
такая...
— Какая?
— Ну... — пожал плечами, — раздраженная.
Она вздохнула устало: пусть раздраженная, раз он ничего не понял.
— А ты знаешь, — помолчав, сказал Эрик, — я сейчас такое подумал. Только
сейчас. Хочешь, скажу?
Она молчала.
— О неожиданности. Ага, так это почувствовал! Вот ведь шел и едва-едва о
тебе подумал — только подумал, еще обрадоваться как следует не успел, — а ты
уже здесь.
«А ты рад?» — хотелось ей спросить, но она вытерпела и промолчала еще
раз.
— Кто-то как будто додумал за меня — и ты уже здесь... Это я все к тому,
о чем ты спросила. Откуда я знаю, для чего жить? Я только о неожиданности хотел
сказать, но что-то никак. В общем, меня все это просто подкосило. Никого не
было — и вдруг ты. Слушай, а если все так всегда и будет — неожиданно, а? И
старость, и что умирать придется? Мы даже представить себе не можем, как все
будет с нами.
«Я все знаю», — небрежно, как о посторонней, подумала о себе Красная
Шапочка.
— А я — нет! — сказал Эрик так убежденно, что Красная Шапочка даже не
смогла удивиться, как он догадался о ее мыслях. — Я чувствую, что все выйдет
неожиданно, вся моя жизнь... Нет, ты не думай. Я ведь тоже чего-то боюсь, и
все, наверно, боятся. Но во мне интерес, нет, даже не интерес — жадность
какая-то... Да, жадное любопытство к тому, как все выйдет в жизни, сильнее
страха. Даже, наверно, страха смерти...
Красная Шапочка слушала недоверчиво, но Эрик говорил так уверенно, так
почти радостно, что ее лоб и губы сами собой перестали горько морщиться.
— Кто бы мне год назад сказал, что я буду в Пскове учиться? А ведь вот,
пожалуйста. В общем, куча самых разных и самых неожиданных примеров. А самый
главный, — он вдруг лег на песок, не щурясь, стал смотреть в небо. — Я тебе
расскажу, как умирала моя мать.
«Что? — сердце Красной Шапочки сжалось от нестерпимой жалости. — Господи
боже мой! Он сирота...»
— Я почти все это видел, но не об этом речь. Когда она еще жива была, я
слово себе дал, что если она умрет, то и я вместе с нею... Наверно, потому, что
не верил, надежда какая-то оставалась, до самого последнего вздоха. А когда все
произошло, этот выдох — и тишина, и мне надо было бы пластаться от горя,
случилось что-то такое... Мне как будто пинка кто-то дал, выпихнул меня — к
жизни. Так страшно захотелось жить! За нее, за себя — за всех на свете. Я был
как изголодавшийся... Сейчас сам уже не верю, даже кощунственно так говорить,
но зато это чистая правда. И мне хотелось, чтобы быстрее, быстрее все прошло —
похороны, поминки. Особенно похороны. И когда все кончилось, когда закопали
гроб, у меня как будто камень свалился. Нет, что-то другое, не чувство
облегчения — чувство жизни, наверно. Я жизнь вот так, прямо в руке, чувствовал.
— Он крепко сжал руку в кулак, и Красная Шапочка не отрываясь смотрела на его
побелевшие костяшки пальцев, на тонкое мальчишеское запястье. — А на другой день
знаешь что хотелось? — Он взглянул на Красную Шапочку взросло и хорошо. —
Разуться и ходить босиком. Мне казалось, что вся-вся земля — это мамина могила,
что мама везде — там, а потом, уже позже, другое. Что она везде здесь... — он
обвел рукой вокруг и замолчал.
Когда Красная Шапочка почувствовала, что может наконец говорить
нормальным голосом, она спросила, лишь бы что-то спросить:
— Эрик! А почему ты в Таллине не стал поступать?
— А, очень просто, — Эрик вдруг поднялся, подобрал плоский камушек и
ловко пустил по воде. Красная Шапочка насчитала девять «блинчиков». — Видишь
ли, мой папаша женится. Ему пятьдесят один, невесте тридцать. Сама понимаешь,
великовозрастное чадо одного из брачующихся — это постоянное напоминание о
возрастной разнице. Вот я и убрался тактично в Псков. Пусть старикашечка
наслаждается!
— Ну и пусть, — забормотала Красная Шапочка, — пусть женится. То есть
прости. Но ведь правда, одному, наверно, нехорошо, скучно. Мне сегодня какой
дед встретился, а тоже собирается жениться. Ты ничего, не расстраивайся! Во
Пскове тоже хорошо, учиться и вообще.
— А я о чем! Мне правда Псков понравился. Я сегодня одним его квасом
сыт. Такой милый маленький город. Я бы назвал его Псковчик...
Красная Шапочка быстро подобрала куртку и ноги, чтобы не лизнула волна
от «Ракеты».
— А еще лучше — Плесков, — сказала она, — послушай волны: Пле-есков,
Пле-есков.
«Да что же все это?» Красная Шапочка даже осторожно тронула свой лоб.
Неужели правда это и есть жизнь?.. Когда пыльная канава неожиданно впадает в
светлую медленную реку... Когда вот-вот задохнешься от страха — и вдруг что-то
мгновенное и тайное, и твои легкие распахнуты, как объятья, для воздуха и мира.
— Слушай, ну ее, эту говорильню! Давай лучше искупаемся!
Эрик быстро стянул джинсы и майку, и Красная Шапочка с острой жалостью
увидела его худую незагорелую спину.
— Давай.
Она вошла в воду первая и, привыкнув к холоду, пошла вперед осторожными
мелкими шажками. Эрик разбежался...
— Ой, осторожнее, тут обрыв сразу!
...Нырнул, и она, замирая, считала секунды.
— Давай сюда! — Он вынырнул далеко от берега, так далеко она никогда не
заплывала, а нырять-то вообще не умела. Но не поплыть к нему, струсить и
бултыхаться возле берега не могла, как не могла снова сидеть, ссутулясь, и
смотреть на растрескавшиеся пятки стеклянным взором.
Она плыла к нему саженками, по-девчоночьи кругло выпрастывая из воды
руки. Вот, вот его голова, его облепленное волосами смеющееся лицо.
«Сирота, сирота», — думала Красная Шапочка, и жалость и нежность все
росли и росли в ней, рискуя вот-вот превратиться в тайную радость. «Господи, о
чем я думаю! — обрывала она себя. — Это невозможно, это... кощунство», — и
ничего с собой не могла поделать. Ей безудержно хотелось стать ему... матерью —
и она мгновенно состарилась про себя, чтоб отдать ему все то, чем была жива и
молода сама.
— Через реку махнем?
— Ты что! — Она уже задохнулась и легла на спину, не опуская уши в воду,
чтоб не мочить волосы, чтоб слушать его!
— А что... Ты вполне прилично плаваешь, а тут, наверно, метров двести.
— Ой, нет, нет, я боюсь! Что ты!.. Тут тонет столько. Да и милиция.
— Я же с тобой!
Она захлебнулась легкой волной от катерка, закашлялась.
— Давай, — вдруг сказала она, — только медленно.
Поплыть через Великую! Она с ума сошла, видела бы мама! Она десять раз
утонет, тут не такие пловцы...
«Но все-таки поплыву, — задохнулась она от гордости, — уже плыву!
Замирая от азарта и глубины».
— Не торопись! Дыши спокойней. Вдох — выдох, вдох — выдох.
Она так старалась, что даже перегнала его. Но какой там вдох и какой
выдох! Она вздохнула всего один раз, и воздух, наверно, уже затвердел в ней —
ни туда, ни сюда...
— Если устала, ляг на спину.
Она перевернулась, и впервые увидела Троицкий собор с середины Великой.
Он был так близко, так стройно и бело возносился к небу — и так далеко от нее,
что она тут же хлебнула противной теплой воды.
— Спокойней, спокойней, не суетись!
Эрик внимательно плыл рядом с ней, его руки и ноги иногда касались ее
тела, но она почти не чувствовала, слышала только, как набухает в ней страх.
Под нею, наверно, километр глубины, а берега еще не видно. Все не видно и не
видно. Ее ноги вдруг сами собой опали в черную холодную глубину и мягко
потянули за собой остальное ее тело. Она захлебнулась, бестолково заколотила
руками.
— Ложись на меня!
— Как... — Она, уже дурея от выпитой воды, схватила его за плечо.
— Вот так! — Он поймал ее руку, подтянул к себе и мощно толкнул вперед.
Не назад — снова вперед, и она, до глаз погруженная в воду, не воспротивилась.
Кое-как откашлявшись, почувствовав, как сильно и свободно работает его тело,
она попыталась помочь ему, вяло зашевелила ногами.
— Вот так, так. Работай ногами, энергичней. Еще энергичней!
Она теперь думала только о том, чтобы попасть в ритм, старалась, чтоб ее
ноги дополнили его тело.
— Молодец! Последний рывок.
Она почувствовала ногой шершавое дно и встала, покачиваясь в волне. Эрик
все держал ее за руку, как бы забыл. И она как бы забыла высвободить. Так и
вышли из воды и повалились на остывший песок.
— Испугалась?
Они лежали, отвернув друг от друга глаза, губы и сомкнув руки.
— Немножко, — сказала она в песок и почувствовала другое: «Нет, нет,
нет! Совсем не испугалась. Хочу еще...»
— А назад как же? — Она подняла голову, но только чтобы увериться, что
все это не сон, что Эрик, что руки — его и ее.
— В купальнике через мост не пустят.
— Хочешь, кого-нибудь на лодке попросим?
— Нет!
Она поплывет еще раз, потому что так и не поняла — переплыла или нет. И
страх еще остался, маленький, подлый страх, холодный и скользкий, как змееныш в
трухлявом пне.
Ее тело высохло, а купальник приятно холодил. Она лежала с закрытыми
глазами и, почувствовав, как Эрик несильно сжал ее руку, дрогнула от тоненького
тока.
— Пойдем?
Она вбежала в воду и не поплыла — полетела к своему берегу, к их дому,
который уже отмечали ее сарафан и его куртка.
На их стороне, когда они, пошатываясь, вышли на берег, никого уже не
было, был вечер. На песке возились только мальчишки, швыряли друг в друга
мокрые носки, яблоки. Эрик ловко поймал одно, разделил пополам:
— Бери.
Она громко откусила сразу половину и почувствовала наконец, что умирает
с голоду.
— Да ты же совсем замерзла!
Он встряхнул куртку и, накидывая, на мгновенье задержался руками на ее
плечах... А она дрожала и от холода, и от чего-то другого, чему не было
названия и что тоже было — страх.
— Ребята, дайте еще одно! Спасибо. Тебе белый налив, мне вот это, я
сладкие не люблю.
И подумать только! Она уже не боялась. Это тот страх, который она ждала
всю свою жизнь! Но только чтобы не сейчас — когда-нибудь потом: завтра, через
неделю. Она все-таки не готова, хоть и ждала так долго.
— Давай одеваться, а то простудишься еще.
Как она боится! Но пусть он не отходит — без него еще страшней. Пусть
снова накинет ей на плечи куртку, снова возьмет ее за руку, и они пойдут во
Псков, уже немного любимый им.
«Такое однажды будет, случится и с тобой!» Сколько раз она так
успокаивала себя и обманывала, что верит. И вот их двое, и она уже делит Псков,
как яблоко, и отдает ему бо́льшую
часть.
В который уже раз Красная Шапочка перечитывала Псков, давно зная его
наизусть. Но теперь чувствовала его особенно остро.
Словно бы весь он появился когда-то и так долго — то счастливо, то
скучно — существовал на этом свете только затем, чтобы в сегодняшний вечер
отдать себя им двоим.
И все эти бесчисленные орды крестоносцев, поляков, шведов. Все эти
густавы-адольфы, стефаны батории, булак-булаховичи. Да что там!
Сам Александр Невский победил на Чудском озере и въехал на белом коне в
Псковский кремль только для того, чтобы она, Красная Шапочка, через семьсот с
лишним лет с первозданной гордостью могла провести по тем же камням Эрика
Питкевича!
— Ну, ты прямо заправский экскурсовод, — сказал он.
А ей хотелось сказать, что нет, это другое. Просто все оказалось кстати:
и она во Пскове — и Псков в ней.
Впрочем, она даже не слышала, что говорила ему, рассказывая о Пскове.
Она вся как бы оглохла, и только внутренний слух, торжествуя, подсказывал ей:
«Это ты! Это все с тобою происходит. И не надо украдкой щипать свою руку,
потому что это он и ты!»
Они уже шли молча. Хотелось и надо было говорить, но говорить было
невозможно. Красная Шапочка не знала, о чем Эрик сейчас думает.
Но может быть, и он... Ведь что идет и молчит — это тоже не просто так,
оттого что в Таллин не к кому ехать. Он сейчас совсем другой, не тот, с кем она
писала «шпоры», сдавала экзамены, сидела в коридоре на подоконнике, ожидая
оценок. Он другой, хоть только идет и молчит, опустив голову и, кажется,
улыбаясь.
— Смешная ты, — вдруг сказал он, и она похолодела. Всего-то: «смешная».
Ну конечно, еще бы! Так думать, так хотеть! Если не дурочка...
— Помнишь, как мы с тобой первый раз увиделись?
— Ага, — пробормотала она, — в приемной комиссии.
— А потом, помнишь, я к тебе на консультации подошел?
— И спросил: «С вами сесть можно?» — подхватила она, уже смутно и сладко
догадываясь о цели его воспоминаний.
— Ты сказала: можно, а сама отодвинулась на целый километр.
— Да нет! — невидимо покраснела она. — Я тогда заняла место для своей
подруги.
— Для Веретенниковой? А она после этого случая перестала быть твоей
подругой, да?
Она кивнула, изумленная, что Эрик догадался. Значит, он все видел, все
знал. И что другие девчонки тоже отвернулись от нее. Что она впервые в жизни
осталась без подруг — и ей впервые в жизни было так хорошо одной! Она ни с кем
не сплетничала, не ссорилась, никому не завидовала. Потому что появился он!
— Скажи, а почему ты тогда, после литературы, струсила?
— Не знаю, — она снова похолодела, но уже от восторга. — Я тогда,
кажется, к Веретенниковой пошла, она тройку по сочинению схватила, и я пошла,
да, точно помню, пошла уговаривать, чтоб не забирала документы.
— А я уже тогда так хотел тебя проводить!
Красная Шапочка, не выдержав, освобожденно и радостно поддала ногой
пустой спичечный коробок.
Значит, и он, и он тоже! Надо быть слепым, глухим и старым в придачу,
чтоб ничего не чувствовать!
Но что это?
Чья-то рука, чьи-то худые теплые пальцы снова влились в ее руку, в ее
пальцы, полупарализованные от сладкого страха — и все ее нервы опалила нежная,
трепетная боль.
«О, что со мной!» — замерла она, чтоб не дать себе волю: не выдернуть
руку, не расплакаться, чтоб умножалась и умножалась и эта боль, и эта нежность,
и еще что-то изумительное, что вот-вот отпустит ее мышцы, и она взовьется над
собой, над своим телом и Псковом.
Они шли рука в руке и молчали. Красная Шапочка то попадала с Эриком в
ногу, то путалась, то снова попадала. Двухголосной мелодии их шагов уже ничто
не аккомпанировало — ни прохожие, ни машины.
Была уже, кажется, ночь. Давно, кажется, шел дождь. Уже на ее ярко
освещенной, но безлюдной улице, сжавшись при мысли, что он сейчас увидит ее
грязный, облупленный дом и снова подумает, что она скобарка, Красная Шапочка
остановилась, не пуская Эрика дальше. Встала под тополь, ежась от попадавших за
воротник куртки капель.
Эрик тоже остановился, но как-то слишком близко от нее, так близко, что
она почти касалась его тела, чувствовала мокрой щекой его дыхание. Он
улыбнулся, но тоже как-то странно, как-то почти жалко, и она услышала свое
трусливое бешеное сердце. Дрожа, она задержала дыхание, он тоже, кажется, не
дышал, и они почему-то не умирали. Издалека, с неба, из сна, к ней спускалось
его лицо — его лоб, нос, губы.
«Какая щека небритая», — успела она вяло подумать, прежде чем ее нос
приплюснулся к чему-то колкому и мокрому... Она почувствовала, как его губы
нетерпеливо и шершаво ищут что-то на ее лице, умирая, поняла — что и с
послушной жалостью к его слепым губам подставила свой по-птенячьи раскрытый
рот...
Когда Красная Шапочка, как сумасшедшая, ворвалась в дом и тут же,
застыдившись сияющих глаз, растрепанных волос и как бы распухших в пол-лица и,
наверное, синих губ, забилась по привычке в кожаный угол дивана, мама подняла
голову от какого-то шитья и сказала недовольно:
— Да где ж ты бродишь весь день? Я жду-жду.
И все это обычным усталым голосом! Да неужели она не видит, какая пришла
Красная Шапочка! Неужели не видит? Ах, слава богу, что не видит!
— Как бабушка там?
Но неужели уж нисколечко не видит?! Как будто специально на этот вечер
ослепла.
— Ничего. Лежит, правда, не встает, но, кажется, ничего.
Красная Шапочка ужаснулась тому, что сказала! Но сказать правду было
невозможно. Пусть лучше пресное вранье.
Но мама все почувствовала и сразу заплакала, когда Красная Шапочка
сказала как бы издалека:
— Давай заберем бабушку. Как-нибудь будем все вместе. Она ж не
безродная.
Мама плакала, закрывшись шитьем, а Красная Шапочка, уткнувшись в колени,
чтоб не было видно новых глаз и губ, вспоминала, что он ей говорил: «Ты хорошо
целуешься». И она даже язык прикусила, чтоб не похвастать: «А я в первый
раз...»
— Ну, мама, ну перестань! — бормотала она в колени. — Если ты не сможешь
— я снова поеду. Возьму такси и привезу бабушку домой. Перестань, пожалуйста!
Красная Шапочка уверена была, что не заснет. Какое там спать! Только
лежать с колотящимся об диван сердцем и даже не вспоминать, не повторять.
Повторять — если б она соображала, а она до сих пор ничегошеньки. Нет, только
лежать всю ночь с раскрытыми глазами и губами.
Но она заснула, и даже сон был. Что-то ужасно страшное. Какой-то
глубокий пруд, не пруд, а какая-то гигантская квашня, доверху наполненная
грязной водой, а в ней жутко и хрипло шевелящиеся слоновьи туши, их трубчатые
хоботы, безобразно толстые складчатые спины, громадные ноги. Но самое страшное
было то, что нет-нет да и мелькнут в этом месиве по очереди и скроются с пузырями
головы ее сестренки, бабушки, мамы. Показалась однажды и пропала голова
Маркеловой Таисии. Красная Шапочка бегала по краю квашни, и на ее босые ноги
выплескивалась коричневая грязь, она чувствовала жуткий страх и замирала от
сумасшедшего восторга.
Она проснулась внезапно, так, если бы ее позвали. Кто позвал? В комнате
было тихо, только похрапывал за ширмой отец да, кажется, все еще беззвучно
плакала мама. Красная Шапочка как бы почувствовала запах маминых слез.
Но ее кто-то звал. Она полежала немного, вслушиваясь, и вдруг подумала,
как повторила за кем-то:
«А ведь правда — умру!.. И уже растет, и уже, наверно, порядочное то
дерево — сосна или осина, которое однажды срубят, оно будет долго и громко
падать, обламывая свои и чужие ветки. Потом остругают, наделают досок, они
будут кисло пахнуть, и сделают из них гроб для меня...»
И она вдруг так ясно увидела это дерево, даже как бы провела рукой по
его шершавому теплому стволу, прощаясь или здороваясь. Просто так. Но
навсегда...
Через пять дней Красная Шапочка с такими же, как она, первокурсниками
ехала по Гдовскому шоссе на картошку. Первокурсники кричали, пели, визжали. Тих
был только один — Эрик Питкевич. Он сидел рядом с Красной Шапочкой на последнем
сиденье и читал газету «Советская Эстония». Красной Шапочке было досадно, что
он все читает да читает, и немножко назло ему она запела-закричала выше,
громче, радостней всех:
— Тот не знает наслажденья-денья... Кто картошки не едал-ал-ал...
И в этот день в Рубилове перестала наконец мучиться ее бабушка.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





