ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


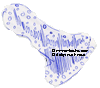
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Дробот Галина 1977
Вовка был грозой нашего двора. Когда пропадали пустые бутылки на винном
складе, разбивалось рогаткой какое-нибудь оконное стекло, срезался
электрический звонок или появлялись на лестничных потолках черные копотные
пятна от ловко запущенных горящих спичек, все, не задумываясь, говорили: это
Вовка.
Ровесники и мальчишки чуть постарше боялись Вовку, а малыши любили:
малышей он защищал, набивая их обидчикам жестокие шалабаны, не разбираясь, кто
прав, кто виноват.
Мне до Вовки не было никакого дела. Наши пути не перекрещивались,
разделенные дистанцией возраста, а так как своих детей у меня не было, то и
волноваться было не за кого. Собственно, я даже не знала, кто из дворовых ребят
этот грозный Вовка.
Но однажды весенним днем я увидела на крыше двухэтажного дома, что прямо
против моих окон, беловолосого, голенастого подростка. Он стоял, широко
расставив ноги в синих изодранных кедах, в красной рубашке навыпуск с
расстегнутым воротом, запрокинув голову. Рот его с поломанным передним, широкой
лопатой, зубом был открыт. Мальчишка разбойничьи свистел и быстро крутил над
головой махалой. По ходу ее, кругами, летали голуби, сизые и коричневые, не
снижаясь и не поднимаясь, по заданной орбите.
— Вовка! — позвала я его из окна, как-то сразу догадавшись, что это он.
Мальчишка чуть повернул ко мне голову, не переставая при этом крутить
палку, длинно сплюнул через щербатый зуб и крикнул ломающимся голосом:
— Чего надо?
Мне ничего от него не было надо, просто уж очень картинно он выглядел.
— Так, — сказала я.
И он засмеялся добро и сказал, как ровне:
— Теть, пшено у тебя есть?
— Для них? — показала я на голубей.
— Для них! — согласился он.
— Заходи! — пригласила я и пошла открывать входную дверь.
Когда взлохмаченная Вовкина фигура появилась на пороге нашего длинного
коммунального коридора, все двери сразу захлопнулись, и лишь в щелочки, я
чувствовала, следят за нами. Вовка стоял за порогом, не переступая его, и
переминался с ноги на ногу. Было впечатление, что он как-то вдруг уменьшился в
росте и пожух.
— Ты чего? — спросила я.
Он не ответил, только громко шмыгнул носом. Потом махнул рукой и
повернулся, чтобы уйти.
— Чего труса празднуешь? — решительно сказала я.
Он обиженно вскинул голову, распрямил плечи — мол, смотри, трус ли — и
двинулся за мной, но шел опасливо, крадучись, словно не ступал, а плыл по
паркету, и озирался.
— Садись, — все так же решительно, чего-то и сама вдруг испугавшись и
стараясь прогнать этот непонятный страх, кинула я. — Сколько надо?
Он не сел. Набычил голову, посмотрел на меня снизу вверх настороженно и
опять махнул рукой: была не была!
— Стакан!
Пшено просыпалось мимо кулька на пол, и Вовка следил за каждым упавшим
зернышком. В глазах его обозначилась тоска.
— На! — наконец сказала я.
Он подобрался, видно ожидая от меня подвоха, но я ничего плохого не делала,
и он быстро и ловко взял из моей ладони кулек и, ничего не сказав, повернулся и
побежал по коридору. И как только захлопнулась за ним дверь, из всех комнат
сразу появились соседи. Они смотрели на меня удивленно и осуждающе.
— Чтобы в последний раз, — сказал мой сосед, комната которого была рядом с моей. — Шантрапу не приваживать. Ясно?
Я разозлилась:
— Нет!
И начался шум, типичный шум коммунальной квартиры старого московского
дома, из которого я разобрала только: хулиган... бандит... голубятник...
Были, да остались еще и сейчас, дожидаясь своей очереди на слом, кое-где
в центре Москвы такие дома. Четырехэтажный, со стенами, выложенными в шесть
кирпичей, дом этот был когда-то, до революции, пушным складом охотнорядского
купца, а потом его переоборудовали, и стал он жилым. Каждая квартира имела свою
планировку, свою загадочную для слесарей домоуправления водную и отопительную
систему. Дом находился в глубине серого, асфальтированного двора, и солнце в
нем заслонял другой дом, «барский» (в нем жил когда-то купец), отстоявший от него
метрах в пяти, с широкой мраморной лестницей и множеством бело-золотой лепнины
на стенах и потолках.
Окна моей комнаты как раз и выходили на этот дом, а вернее, на
пристройку к нему — комнату с кухней и прихожей, в которой жила Лидия
Владимировна Сысоева, оператор с Центрального телеграфа, и ее сын Вовка.
— Высмотрел!.. Глаз-то вострой... — сказал между тем мой сосед. — Что
пропадет — вам отвечать!
— Отвечу! — запальчиво сказала я, ощутив, как всегда при столкновении с
этим человеком, томительное неудобство, и пошла в комнату, про себя повторяя:
«Бывают же уроды!» Впрочем, правой я себя не чувствовала: я совсем не знала
Вовку. Мне просто не был симпатичен мой сосед. Невысокий, с яйцеобразным
животиком, отчетливо выпиравшим из-под туго натянутой рубашки, на коротких
ножках, с вздернутой седеющей головой и снисходительной улыбкой на мясистых
губах, он казался очень благополучным, устроенным. «Конечно, — думала я, —
нажился, иначе зачем хоронится соседей, запирает на ключ дверь своей комнаты,
даже когда идет мыть руки в ванную. Ясно, боится, чтоб не увидели его
богатства. Да и готовит у себя в комнате, чтоб никто не знал, что ест».
Так началось наше знакомство с Вовкой, и с тех пор все, что связано с
ним, почему-то стало меня интересовать. Я старалась пораньше возвращаться
домой, чтобы застать его на крыше гоняющим голубей и перекинуться двумя-тремя
ничего не значащими словами. Чаще всего диалог был таков:
— Здравствуй!
— Здрасть!
— Как дела?
— Как сажа бела!
— А на самом деле?
— Порядок!
Но иногда я не заставала его на крыше, и мне становилось тревожно,
появлялась мысль: «Вовка что-то натворил. Его забрали в милицию». Спросить о
Вовке было не у кого: всем показался бы мой интерес странным.
В такие вечера мне становилось неприютно и даже тоскливо, словно кто-то
уехал от меня, кто-то оставил меня одну. Чтоб прогнать это чувство, я садилась
у окна и начинала ждать Вовкину мать. Мы не были с ней знакомы, но появление ее
во дворе означало: с Вовкой все благополучно. Иногда я замечала в окне справа
моего соседа, который, судя по тому, как часто выглядывал во двор, тоже кого-то
ждал.
Вовкина мать, Лидия Владимировна, выходила из своей пристройки, обычно
когда темнело и спадала жара. Она становилась спиной к своей открытой двери и
заводила беседу с соседкой с первого этажа. Говорили они долго, неторопливо, и
голос Лидии Владимировны был похож на льющуюся из крана воду — таким он был
чистым, однотонным и бесконечным. Лицо ее в темноте я не могла разглядеть, но
ладная, неполная фигура и светлые пышные волосы нравились мне. Нравилось и то,
что о Вовке она всегда говорила с каким-то особым пониманием его мальчишьих
забот и интересов.
— Незадача вышла, — рассказывала она. — Времени совсем в обрез, а нашла
чуток — да в другой конец города маханула. Аж на птичий рынок. Чего там нет,
все есть. Рыбы всякие, птицы, даже собак продают. А Вовке что надо? Вовке
голубей надо, — не меняя интонации, без точек, запятых и других знаков
препинания говорила она. — Без них никак не обходится. Страсть. А голубь
хороший — и пять и десять рублей, где их взять? Премия когда еще будет, в конце
квартала, а на зарплату куда же? Купила так себе голубя. Так Вовка вида не
подал, жалеет меня, а сам расстраивается, я-то знаю!
— Баловство это. Потакаете! — сказала соседка.
— Так кому что надо. Ему в лагерь только в третью смену, а во дворе
одному скучища. Да и меня все нет. Время горячее. Начальник пришел и сказал:
«На тебя, Лида, надежда, опытная потому. Так что не подкачай». И я сказала:
«Как же так подкачать, нельзя подкачать». Вот и вкалываю, — тек и тек ее голос,
чистый, прозрачный, неторопливый в своем течении.
Меня он успокаивал. Я привыкла к нему и, когда Лидия Владимировна не
выходила во двор, скучала. А она в последнее время все чаще стала работать в
вечернюю смену — видно выполняя то самое задание, в котором нельзя было
подкачать, — и Вовка оставался один. Иногда я заставала его сидящим на широком
подоконнике нашего лестничного окна. При моем появлении он начинал независимо
посвистывать и смотреть через окно во двор, точно там обязательно что-то
интересное должно было происходить. На мое «Здравствуй!» он коротко бросал:
«Здрасть!» — и продолжал свистеть, всем видом своим показывая, что ему не до
меня.
Но как-то Вовка поздоровался первый и сказал:
— У тебя много книг. Дай стихи почитать...
— Стихи? — удивилась я. — Какие стихи? Чьи?
— Про войну, — сказал он. — Я про войну люблю.
— Про войну?! И много ты их читал?
— Читал! — Он насмешливо улыбнулся, потом посмотрел на меня таким
невинным взглядом, что я опешила.
Переправа, переправа! —
начал он
тихим, заученным голосом, —
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы —
Ради жизни на земле.
Ну как?
Может, знаешь, кто написал?
— Знаю. Твардовский, — ответила я.
— Ишь ты, сразу видать — учителка. А это?
Пожар стихал. Закат был сух.
Всю ночь, как будто так и надо,
Уже не поражая слух,
К нам долетала канонада...
— Симонов это. А ты зазнайка!
— Впрямь?
— Точно!
Он засмеялся:
— Не злись. Это тоже знаешь, ну, скажи, скажи, знаешь?
Шли в бой по снегу моряки.
Была ясна степная даль.
На всем пространстве от реки
Сверкали тонкие штыки,
Трехгранная дышала сталь...
— Завидная у тебя память, — сказала я.
— Ага, значит, не знаешь, не знаешь, — запрыгал он, захлопал в ладоши.
— Нахал ты! Яшин это!
— Хм! — хмыкнул он. — А это?
Здесь залегла неметчина в приволховском песке,
И в лоб идут разведчики, гранату сжав в руке...
Тихо приоткрылась дверь в нашу квартиру, но никто не вышел, и я поняла —
подслушивают — и сказала резко:
— И эти знаю. Только ночь уже. Ты почему, между прочим, не спишь, а
толчешься тут у нас на лестнице, а? Нашел время читать стихи. Поэт! А Славку из
восьмой квартиры вчера побил!
— Доложили! — обрадовался Вовка, не заметив перемены в моем тоне.
— Сама знаю.
— Нет, доложили. Обо мне все докладывают, — похвалился он.
— Да кто ты есть? Больно нужен ты всем!
— Нужен не нужен, а ты за Славку. — И вдруг выпятил грудь, словно
приготовился к драке: — Хочешь знать? Да? Хочешь? Потолок этот он изрисовал, а
сказал на меня. Звонок в том парадном для своей машины тоже срезал он, а сказал
опять на меня. Что же мне его, по головке гладить?
— Ябеда ты!
— Я... — запнулся он, опустил голову, — видно, стал соображать что-то,
потом улыбнулся широко, как умел улыбаться, когда ему было хорошо.
— Интересная ты, однако, — сказал. — А про Славку, это точно, я зря. Сам
выдал ему, самому и отвечать!
На Спасской башне начали бить часы. Мы стояли молча, глядя друг на друга
и про себя считая удары — один, два, три... Раскатистые, они неслись над
городом.
— Двенадцать! — сказала я наконец. — Это что за манера у тебя шататься
по ночам? Мал еще!
Вовка прислушался, уловил недовольство в моем голосе, удивленно
посмотрел на меня, ничего не сказал, повернулся и медленно пошел с лестницы,
став маленьким и точно побитым. Уже закрывая дверь, он пробурчал:
— Поговорили, называется!
В голосе его была обида, и я подумала: «Наверное, Лидия Владимировна
работает ночью. Одному в комнате страшно. Взять бы его к себе» — и посмотрела
на дверь, которая была чуть приоткрыта. И не пошла за ним. «Кто он, в самом
деле, Вовка?! Нашла с кем водить дружбу! Маленькая я, что ли!» От мыслей таких,
однако, пришла ко мне злость, и я шагнула к двери, откинула ее на всю ширину,
ударив ручкой об стенку.
За дверью никого не было, в коридоре не горел свет, и только из комнаты
моего соседа, перерезая коридор надвое, тянулся тонкий, прямой луч.
«Подслушивал!» — утвердилась я.
А Вовка и в самом деле обиделся, потому что больше не появлялся на нашей
лестнице. Когда же я входила во двор, не глядел на меня и как-то особенно, зло
крутил свою палку, свистел и, казалось, весь был во власти того азартного
чувства, которое вызывают голуби. Впрочем, хороших голубей у Вовки не было —
сизари или полукровки, бело-коричневые и бело-сизые. Но он научил их летать,
как настоящих почтарей, и любовался ими, и любил их, и они любили его и
слушались. Если же в небе появлялась белая, сверкающая пятерка моего соседа,
Вовка сникал, становился угловатым, несчастным и вместе со своими голубями
отправлялся на чердак, сидел у окна и исподлобья, воровато следил за белыми
красавцами.
Зачем мой сосед завел себе белых голубей — не мальчишка, лет под
пятьдесят уже, — мне не было понятно. Но я заметила, что выпускал он их только
тогда, когда Вовка бывал во дворе, и на лице соседа в такие минуты стояла
устойчиво самодовольная улыбка. В другие дни его голуби томились и плакали в
большой клетке, висевшей у него на окне, мешая не только мне, но и всем
остальным в квартире. Замечаний, впрочем, ему никто не делал: не хотели
вязаться, можно было и перетерпеть. Вовка тоже не вступал с ним в конфликт, а
просто смотрел на белых голубей, и в глазах его стояла тоска.
Лето катилось к середине. Во дворе стало почти безлюдно: все ребята в
лагерях и на даче, стариков и старушек тоже вывезли, и остались только коренные
жильцы, те, которым с утра на работу. Вовка скучал. И вот он снова появился на
нашей лестнице.
— Здравствуй! — сказала я ему.
— Что покажу! — ответил он.
— Невежа ты, между прочим, Вовка!
Он улыбнулся, показав свой щербатый передний зуб:
— Ладно, здравствуй! Пошли ко мне.
Я заколебалась.
— Не бойся. Мать в ночную. У них теперь во сколько работы. Я был, видел.
Ей и голову поднять некогда, не то что меня сторожить. Не бойся.
И я пошла. Вовка вынул из необъятного кармана штанов маленький ключик на
неожиданно розовой, девичьей ленточке и первым прошел в комнату. Я остановилась
на пороге и поучительным, скучным от неловкости происходящего голосом сказала:
— Женщин, Вовка, надо пропускать вперед. Так делают воспитанные люди.
Он не ответил, вышел из комнаты и стал ждать, пока я войду. Потом мы оба
засмеялись, и неловкость прошла. Я огляделась. Комната была квадратная,
светло-голубая и казалась вся ломкой от белизны накрахмаленных занавесок,
подзоров, салфеточек. На стенах висели окаймленные белой ленточкой Почетные
грамоты, выданные в разное время Лидии Владимировне Сысоевой за отличную,
ударную, самоотверженную работу по обеспечению посевной, уборочной и т. д. и т.
п. На самом же видном месте, над широкой тахтой, застланной яркой тканью, висел
в самодельной лакированной рамке фотографический портрет смеющегося, курносого,
в конопатинках, сержанта, игравшего на гармошке, и под ним была надпись крупным
детским почерком: «ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА...» Я вгляделась в фотографию, и мне
показалось, что я ее уже видела, и стала вспоминать — где? Почему-то мне это
стало важно. А Вовка перехватил мой взгляд и сказал:
— Отец! — И посмотрел на меня, словно чего-то ожидая.
И тут я отчетливо вспомнила один из первых больших, с цветными
вкладками, послевоенных номеров журнала «Огонек» и фотографию этого сержанта в
нем. Теперь же сержант этот стал мне старым знакомым, потому что я вспомнила
его, мы как бы встретились через много лет, и я улыбнулась ему. Потом
спохватилась и посмотрела на Вовку, сравнивая его лицо с лицом сержанта. Нет,
они не были похожи. Да и лет Вовке, видимо, было двенадцать, от силы
тринадцать.
А Вовка сказал:
— Шел солдат с фронта и пришел на фронт... Помнишь? На границе он.
Служба у него такая, — стал он мне пояснять. — Не каждый может, а он вот какой
уж год!.. — Вовка улыбнулся своей широкой и радостной улыбкой.
Я молчала. Вовка не знал еще законов биологии и просто любил все, что
про войну.
— Белого голубя обещался прислать, — гордился Вовка. — Как думаешь,
скоро пришлет?
Я опустила глаза, стала внимательно рассматривать мережку на белой
скатерти, сделанную, видно, не машиной, а рукой, даже пальцем ее потрогала.
— Не веришь! Не пришлет, значит! — сказал Вовка глухим, отрешенным
голосом.
— Почему же? — попыталась я исправить свою бестактность. — Почтовые
голуби всегда знают, куда им лететь!
— Хитрая ты! — сказал он. — И все врешь!
— Вовка!
Он озлился:
— Что Вовка? Тринадцать лет — и все Вовка!
— А ты грубый!
Он не ответил, пошел через комнату к углу, в котором стояла этажерка,
заставленная книгами. Потом резко обернулся ко мне:
— Все тебе книжки, книжки, книжница!.. А он все равно пришлет! Вот
увидишь, пришлет. Пришлет! Пришлет! Пришлет!..
— Вполне даже может быть, — сказала я как можно спокойнее. — Раз обещал.
Рамку-то сам мастерил?
Он смотрел на меня затаенно, видно, старался понять, поверила я ему или
притворяюсь. Но так, наверное, хотелось ему, чтоб я поверила, что он утвердился
в этой мысли и ответил вполне мирно:
— Не в магазине же брал! И зачем ему магазинная, такая у каждого может
быть, у кого есть деньги. Моя ему лучше!
— Лучше! — согласилась я и снова посмотрела на портрет и снова поймала
себя на том, что помню по иллюстрации в «Огоньке» этого веселого, в откинутой на
затылок фуражке, из-под которой вихрился завитой чуб молодого сержанта,
растянувшего от края до края мехи гармошки, точно играл он широкую, свободную
песню. Мне даже показалось, что слышу ее, ту, нашу, фронтовую, которую пел в
дивизии мой хороший знакомый, белоголовый солдат, и стало мне грустно.
Вовка потолкал меня рукой в плечо:
— Держи!
Он протянул мне томик Прокофьева «Стихи о России» и сказал:
— Оказывается, и такой есть поэт. Вчера достал. Не о войне, а хорошо. Ты
не знаешь почему?
Я обняла его за тонкие, костистые плечи:
— Разве только о войне писали хорошие стихи? Глупый!
Он посмотрел на меня сузившимися глазами и улыбнулся снисходительно, как
улыбаются взрослые, слушая несмышленышей.
— Смешная ты, право. Самые главные стихи всегда о солдате, — сказал
поучительно. — Остальные — так, для времяпровождения!
— Да? — спросила я.
Он опять посмотрел на меня странно, точно соображал — сказать или нет, и
решился:
— Слушай, я когда вырасту, тоже поеду к отцу на границу. Мне совсем не
страшно. Не думай, я не боюсь! Есть у пограничников голубиная связь. Слыхала,
может? И голуби у меня будут белые-белые, как у пеночника!
Глаза у него заголубели, заискрились.
— У тебя-то будут, — протяжно оказала я, думая о своем, а он осторожно
снял мою руку со своего плеча, заглянул мне в глаза, спросил:
— Ты почему живешь одна?
Я вздрогнула и ответила не сразу:
— Как там: «Шел солдат с фронта...» — И подумала: «Шел мой хороший
знакомый, белоголовый солдат, с фронта и шел чубатый сержант с фронта, и обоим
им дорога вышла мимо нашего дома. По-разному, однако все равно мимо. И может,
хотели они прийти сюда, а вот не легла дорога, и остались мы с Вовкой одни!»
— Чего молчишь-то? Хоронишься!
— Поздно уж, Вовка, — устало сказала я. — Домой мне время. Наговорились.
— Ты не бойся, мать только под утро придет, — по-своему понял он, и мне
стало смешно.
— Поздно, — значит, поздно! Приходи ко мне утром, пока не уйду на
работу. Я тебе хорошие стихи почитать дам. Может, и поумнеешь!
— Хм! — хмыкнул Вовка, сразу став опять тем задиристым и несговорчивым,
какого боялись дворовые мальчишки.
— Ладно, проваливай! — грубо сказал он. — Разговора не было, — и
распахнул передо мной дверь.
Дома меня поджидал сосед, и, как только я появилась на пороге, он вышел
из своей комнаты и стал смотреть на меня жалеющим и вместе с тем грустным
взглядом, от которого я почувствовала себя в чем-то виноватой. Мне было трудно
это чувство, и я злилась на себя.
Утром я проснулась от шумного и тревожного говора белых голубей и от
вскрика соседа:
— Полез! Полез!
На моем открытом окне верхом сидел Вовка, одну ногу спустив в комнату, а
вторую перекинув на улицу.
— Ты почему так? — спросила я.
— Чтоб тихо было, а то проснется тот, пеночник, крику будет...
— За что ты его так?
— Не знаешь, что ли? Он торгует в пивном ларьке. Богатый на пивной пене!
— Ох, Вовка, и в кого ты такой!
— Непутевый! — засмеялся он. — Мать тоже говорит: «Непутевый ты у меня».
— Верно говорит. Отвернись, я оденусь.
Он перегнулся в окно, засвистел, и сизые его голуби посыпались из
чердачного окна ко мне в комнату. Они стали ходить по полу, по столу, по
книгам.
— Ты что же это делаешь? — возмутилась я.
— Не хороши? Не аристократы? Не белые? Эх ты! — сказал он укоризненно,
свистнул и соскочил во двор, уводя за собой голубей.
Я подбежала к окну:
— А стихи?
Вовка махнул рукой:
— Ладно!..
— Через окно, — распахнул без стука мою дверь сосед. — Поглядите, люди
добрые, поглядите!
— Что вам надо? — резко спросила я. — Какое вам дело до него и меня?
Он осторожно прикрыл дверь, без приглашения сел, положил на стол
короткие руки. Я отвернулась, чтоб не видеть их: я почему-то уверена, что люди
с короткопалыми, мясистыми и некрасивыми руками — плохие люди.
Он сказал вкрадчиво, словно извиняясь:
— Вы недавно приехали в наш дом. Я ж тут родился. Я всех жильцов
досконально знаю. Послушайте меня.
В голосе его была такая неподдельная мольба, точно от того, выслушаю я
его или нет, зависит что-то очень серьезное.
Меня это удивило, и я спросила миролюбиво:
— Почему вы все время подсматриваете за мной?
— Я не подсматриваю. Я иначе не могу. Я должен вас упредить, —
втолковывал он мне, как маленькой. — Не приваживайте Вовку. От него все
несчастья, все! — сказал он раздраженно, не умея скрыть свою неприязнь. —
Ничейный он в нашем дворе.
— Как ничейный? — не поняла я.
— Нагулянный, значит. А Лидия Владимировна...
Я не хотела больше слушать его, он стал мне омерзителен.
— Не смейте! — крикнула я и словно услышала заботливые и понимающие
Вовку слова Лидии Владимировны: «Во дворе одному скучища. А Вовке что надо?
Вовке голубей надо. Без них никак не обходится. Страсть!» И подумала: «Любит
его, жалеет». И ожесточилась против продавца: — Не смейте!
Он неожиданно вскочил, заходил торопливо по комнате и стал говорить
быстро, видно решившись на что-то крайнее.
— Ничего-то вы не знаете, ничего. Думаете, Вовка книжки читает, так и
все. А книжки денежки любят. Рупь, да два, да три... Смекаете? Лидии
Владимировне их негде брать. А бутылочки-то на складе винном, между прочим,
тю-тю! Штук этак сто недостача! Двенадцать рубликов. Смекаете? А вы его в окно!
— и замолчал, как будто устал, и лицо его стало совсем некрасивым и жалким. Я
ненавидела его.
— Лидия Владимировна... — сказал он тихо, словно только себе одному. —
Она ведь все сама да сама, одна, значит. Отец-то с матерью ее в войну погибли.
Без ласки она, без любви... Думаете, это ее Вовка?! Не-э-т! Из детдома взяла.
Годовалого! Не возьми его — разве так бы сейчас жила... Дом бы был свой!..
Семья!.. Дети свои — не приемыш!.. Любили бы ее!.. А теперь!.. Все Вовка...
Вовка все, говорю... — Он качнулся ко мне, как пьяный, и посмотрел гневно.
Я стояла ошеломленная. Мысли сменяли друг друга, были хаотичными,
несобранными: сирота сироту взяла. Какая же великая потребность в любви, нежности
толкнула Лидию Владимировну на этот шаг! И как мужественно, самозабвенно служит
она своей любви, научившись быть Вовке матерью, оберегая его от злословья дурных
людей. Дурной же человек стоял передо мной.
Я не могла его больше видеть.
— Уходите! — сказала грубо.
— Уйду! — согласился он. — Только вы мои слова попомните.
— Уходите! — повторила я.
Он вышел.
— Вовка! Вовка! — подбежала я к окну.
Вовки не было. Тогда я пошла искать его во дворе. Пустой, серый, без
единого деревца, без травки, заставленный огромными бочками, двор наш давно
пропах вином. Его горькие испарения устойчиво стояли в воздухе, делая его
густым и смрадным. Я увидела все это как бы со стороны, посторонним взглядом,
увидела впервые и подумала: «Как же Вовка читает здесь стихи, мечтает о белых
голубях и выпиливает рамку для смеющегося сержанта?» А мне сейчас нечем было
дышать и нужно было сейчас же, сию минуту сказать Вовке какие-то очень важные слова,
приласкать его, что ли, потому что не может быть человек ничейным даже в этом
винном дворе. Но Вовку я не нашла ни в то утро, ни вечером, когда вернулась с
работы. Я долго ждала его. То смотрела в окно, то выходила во двор. Стало
темнеть. Потом на Спасской башне часы пробили одиннадцать. В Вовкиной
пристройке не горел свет. И вдруг я услышала ровный голос Лидии Владимировны.
Она, как всегда, стояла у раскрытой своей двери, и светлые ее волосы пятном
легли на стену.
Я прислушалась к ее словам.
— Мстит он мне. Вовку простить не хочет. Напраслину на него возводит. А
Вовка день-деньской в Доме пионеров. Туда я его определила, чтоб не скучал да
при деле до лагеря находился. Учитель же ихний книги ему дает, какие сам
прочитал да ему лишние...
— Что же он так, пеночник? — спросила соседка.
Лидия Владимировна засмеялась, но смех у нее получился невеселый.
— Так женишок же он мой, давешний. Обидно ему, однако. Пока Вовки не
было, все ложилось у нас одно к одному, а потом пошло и пошло... Теперь только
вражда, одна вражда между нами и осталась... Так уж, видно, надо, люди все,
поди, разные... — Она помолчала и, не меняя интонации, заговорила опять: —
Вовка вчера ночь |плакал, ровно девка какая. Совестливый. Стыдно ему перед
соседкой со второго этажа. Дружба у них завелась или что, а только плакал:
вдруг поверит...
Я засмеялась тихо и радостно и больше не стала слушать ее слов. Теперь
мне не нужны были ее слова, а только однообразный ритм голоса, который как бы
сообщал мне: с Вовкой ничего не случилось. И я слушала и слушала этот голос и
не заметила, как заснула. Мне снился огромный двор, над которым летали белые
голуби. С каждым кругом их становилось больше, потом они закрыли все небо,
превратились в снежный холм, и я увидела на нем молодого чубатого сержанта. Он
играл на гармошке, широко растягивая мехи, и беззвучно пел песню о темной ночи
и о любимой, которая где-то не спит и у детской кроватки тайком слезу вытирает.
И вдруг оказалось, что эта женщина я сама, еще молодая, еще в шинели, а в
кроватке лежал Вовка и улыбался во всю ширь лица, открывая щербатый зуб. А мимо
шел белоголовый солдат, уходил от этой песни, словно боялся ее, и лицом солдат
был похож на Вовку, только старше. Я звала солдата, звала, а он не отзывался, и
уходил, и ушел совсем, а я оказалась снова посреди нашего двора, и бочки, от
которых горько и душно пахло вином, зажали меня со всех сторон...
Скандал разразился вечером следующего дня. Впрочем, может быть, он
начался раньше, но в тот момент, когда я входила во двор, достиг своего апогея.
Вовка стоял на бочке, прижимаясь спиной к стене дома, и на плече у него
сидел белый красивый голубь. Он то склонял головку к Вовкиному плечу, как будто
что-то говорил ему по секрету, то тянулся к людям, окружившим Вовку, то
переступал красными лапками, расправлял крылья, готовый вот-вот улететь. А
против Вовки, тыча в него рукой, стоял продавец пивного ларька.
— С поличным! — говорил он гневно. — Мой голубь! Белый! У него отродясь
белого не было! Смотрите все! Смотрите! Украл!
— Не крал я, — угрюмо говорил Вовка.
— Позову милицию! — грозил продавец.
— Эй, Вовка, признайся — и разойдемся миром. Подумаешь, голубь,
добра-то! — просил сторож винного завода.
— Не крал я! — повторял Вовка.
— А голубь откудова?
— Не крал я!
— Милиционера! — закричал продавец и замахал руками, наступая на Вовку.
Я отстранила сторожа и встала против продавца.
— Что кричите? — сказала я. — Голубя ему отец прислал.
— Кто? — изумленно спросил сторож, а Вовка перегнулся ко мне и посмотрел
испуганными глазами, часто, часто заморгав.
— Отец, говорю, прислал. Что тут непонятного? — сказала я и подумала,
что Вовке от моих слов будет радость, а отец вполне мог найтись. Вдруг да он в
самом деле искал Вовку столько лет да вот нашел. Могло же быть!
— Чего непонятного? — поддержала меня соседка с первого этажа, с которой
любила вечерами беседовать Лидия Владимировна.
— Отец! — заполошно выкрикнул продавец. — А ты видела его, — перешел он
со мной на «ты» — отца-то того?! Что в рамке, на стене, — того Вовка из журнала
вырезал. Не было у него никакого отца! Говорил я тебе, упреждал, детдо...
Я закричала изо всех сил, чтобы Вовка не услышал его слов.
Продавец пивного ларька подался назад.
Стало тихо, и в тишине, как пощечина, прозвучали слова соседки с первого
этажа:
— Подлец ты, однако! Незамужник!
— Правда, что ль? — заинтересовался сторож. — Видать, правда. Ай-яй-яй!
При твоих-то достатках, да бобылем!.. Что-то тут не того, не чисто!..
— Вы... Вы... — задохнулся продавец, а я позвала:
— Вова!
Вовка высунулся из-за меня и вдруг решительно снял голубя со своего
плеча, всунул его в руку продавца.
— Подавись, пеночник! Не видать тебе моей матери! Моя она! Моя! — И
побежал по бочкам, перепрыгивая с одной на другую, и скрылся за воротами.
— Как же так, зазря на парня? — спросил сторож, а продавец мял в руке
голубя, и тот рвался из его пальцев, крутил головкой, плакал.
— Пошли! — сказала я. — Посмотрим. У него их пять. Я знаю.
— Дело, — охотно согласился сторож, а соседка с первого этажа сказала:
— Стыдоба!
И мы пошли, и мне почему-то было совсем спокойно, хотя я не знала, где
Вовка взял белого голубя, чей он.
Продавец плелся сзади, словно все происходящее теперь уже его не
касалось, как будто не к нему в комнату мы собрались. Он вобрал голову в плечи,
и они мелко подрагивали. Потом он что-то непонятное сказал, побежал, обогнал
нас, первым оказался в коридоре и бросился к своей комнате, заслонил ее спиной,
видно забыв, что она у него, как всегда, заперта.
— Не пущу! Не имеете права! — взвизгивал он.
— Если все путем, почему? — удивился сторож.
— Если по совести! — сказала соседка.
— Завязал кашу, хлебай до конца, — уточнил сторож. — Может, и бутылки не
Вовка, а?
Соседка подвела черту:
— Совсем без совести!
И продавец вдруг сдался. Он сник, смотрел на нас затравленно и,
казалось, изнемог.
— Давай, давай! — подгонял сторож.
Продавец стал открывать дверь, но руки у него дрожали, ключ заедало, он
проворачивался в замке.
— Эх ты! — оказал сторож, отстранил продавца и отпер замок.
Пять белых голубей повернули к нам головки, увидели шестого и
заволновались, запрыгали по клетке, заговорили что-то на своем голубином языке.
Но я уже не смотрела на них: прямо передо мной, во всю ширину межоконного
проема висел огромный портрет Лидии Владимировны. Она была на нем молодой,
смеющейся, с косой, уложенной вокруг головы. А под ним, на гвоздике, вбитом в
стену, висели три деревянные вешалки, и на них были аккуратно расправлены яркий
бархатный синий, с кружевами, халат, купленный, видно, в комиссионном,
джерсовый голубой ненадеванный, с магазинным ярлыком, женский костюм, какие
носили несколько лет назад, и с ярлыком же женский болоньевый плащ...
— Их пять, — сказала соседка.
Сторож сплюнул на пол:
— Смотреть на тебя тошно! — махнул рукой и вышел.
— Стыдоба! — подтвердила соседка и тоже ушла.
Продавец устало сел на единственный стул, обронив по его бокам красные
от вечного мытья стаканов, с взбухшими синими венами, руки. Я осмотрелась и
увидела, что в комнате, кроме этого стула, был еще только квадратный стол,
потрепанная тахта, фотография на стене и женские вещи, висевшие на гвоздике.
«Так вот какое богатство хранил он от всех под замком!» — поняла я и
ужаснулась. Мне бы нужно было сейчас что-то сказать ему, предложить помощь,
объяснить, что так нельзя, что он во всем виноват сам, что все еще можно
исправить, но слов таких у меня не было, и я просто сказала, снова посмотрев на
портрет и женские платья:
— Отдайте птицу!
Он проследил мой взгляд, и глаза его стали размытыми, белыми. Он
протянул голубя.
— Это все для нее, — сказал. — Могло ведь и пригодиться. — И добавил: —
Меня зовут Иваном. Иваном Павловичем...
В своей комнате я закрыла окно, чтоб голубь не улетел, стала ждать
Вовку. А он не шел. Уже стемнело, зажглись звезды. В окне его пристройки не
горел свет.
Голубь устроился на книжной полке, присел на лапки, нахохлился, опустил
головку на грудь, — видно, заснул.
Выпустила я его утром — не оставлять же в запертой комнате: Вовка
вернется, станет искать. Голубь постоял на открытом окне, почистил перышки,
кивнул мне и взмыл вверх. Он облетел несколько кругов над Вовкиным двухэтажным
домом, точно запоминал его, и скрылся. Вовку я не дождалась и ушла на работу.
День тянулся медленно, томительно, мне хотелось скорее домой. У входа во двор я
встретила сторожа с винного завода.
Он поздоровался и сказал:
— Человек называется! Все у него есть и чужое надо...
— О ком вы? — не поняла я.
— О пеночнике, само собой!
— Не надо его так называть. У него есть имя: Иван Павлович.
— Жалеете? — удивился сторож.
Я пожала плечами.
Вовка не появился ни в тот день, ни на следующий, в окне его пристройки
было темно и не струился у двери чистой водяной струей голос Лидии
Владимировны.
— Уехали. До осени. Он — пионером, а она — воспитательницей! — сообщила
мне соседка. — А тот, — она показала на окно Ивана Павловича, — все тут.
Совесть не мучает!
Я взглянула на его окно и успела заметить, как он быстро отскочил в
глубь комнаты. «Ждет! — поняла. — Не находит в себе силы уехать из нашего
дома!»
Лето между тем подходило к концу. Кое-где на деревьях уже желтели
листья. Во дворе стали появляться загорелые девчонки и мальчишки. Они шумными
ватагами носились между бочек, играли в прятки, кричали зычными, привыкшими к
полю и лесу голосами. Старшие по привычке поколачивали маленьких, и те с ревом
бежали жаловаться матерям, потому что другой защиты теперь не находили во
дворе. На лестничных потолках чернели свежие копотные пятна, у кого-то из
жильцов срезали звонки, администрация винного завода недосчитывалась пустых
бутылок, и у подъездов на скамейках судачили старушки, а в беседке забивали
козла старики. Жизнь входила в свою осеннюю колею, и оживший двор не казался
мне больше серым, пропитанным винными парами: он был большой, усыпанный желтыми
листьями, которые приносил ветер из соседнего сквера.
С Вовкой мы больше не встретились, и только однажды пришло от него
письмо. «Голубя я не крал! — писал он. — Мне его подарили во Дворце пионеров.
Мы с ним и мамой живем сейчас в лагере. А во двор к нам я не приеду больше.
Мать сказала — она не врет: отец меня в Суворовское определил. В самом деле!
Буду там жить вместе с голубем и слать тебе стихи, все новые, какие прочту. А
когда буду солдатом и уеду на границу, сам стану сочинять. Для тебя. Ты
хорошая, однако. Вовка».
Вот и все. И все же каждый раз, когда я возвращаюсь домой, смотрю на
крышу «барского» дома — и мне кажется, что сейчас появится на ней невысокая
мальчишеская фигура. Паренек расставит ноги в изодранных кедах, упрется ими в
крышу, запрокинет голову так, что станет видно курносое, веснушчатое его лицо.
Улыбнется во всю ширь щек, открыв широкий, лопатой, передний щербатый зуб, и
засвистит, и голуби сизые и коричневые, повинуясь ему, пойдут кругами над нашим
двором, и зашумит песня, какую играл на гармони чубатый сержант с огоньковской
вкладки и какую пел у нас в дивизии мой верный друг, белоголовый солдат, — и
станет мне хорошо и грустно...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





