ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
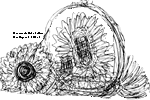


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Оксанен Ауликки 1976
Как я здесь оказалась, непонятно. Видимо, я спала, когда меня перенесли
и поставили на самую высокую полку, но кто и когда поставил и почему так высоко
и в таком труднодоступном месте — никак не могу понять. Мне помнится лишь какой-то
хаос, грустный шелест рваных страниц, картонные коробки и обрывки людского
разговора; помнится прикосновение холодных неопытных пальцев и — печаль. Да,
конечно, я помню печаль.
Родные Лаури Айролы нисколько не интересовались ни мной, ни мне
подобными. Нас таскали и бросали как попало; не потрудились даже произвести
самую элементарную сортировку. Книги по этнографии рассеивали и мешали с
изданиями по физиологии растений, а разрозненные тома о премудростях зоологии
выли по-волчьи и мычали, как коровы; альманах царского времени был порван и
крошился, как пересохший цветок из гербария. На редкость грубые руки в одно
мгновение разрушили тот превосходный порядок, который складывался десятилетиями.
После этого обо мне долго не было ни слуху ни духу. Как во сне,
придавленная горем, без человеческого участия. Трудно сказать, когда я
пробудилась. Помнится только, что однажды омут пустоты начал заполняться, кружиться,
он кружился в лад с биением жизни, поднимаясь все выше, выше, за пределы
видимости. В этом спиральном круговороте я видела рождение и смерть человека,
видела движение жизни — это вечно обновляющееся чудо. И сквозь все это я
услышала голос друга: он звал, его любовь требовала меня к себе. Долго я
упорствовала в поединке забвения и памяти, с трудом просыпалась в мертвенно-холодном
поту, и не было у меня другой опоры, кроме голоса друга.
Здесь я уже довольно давно. Месяца два, а то и три, по грубым подсчетам;
мое перемещение сбило меня с толку. Разумеется, если иметь в виду мою жизнь,
которая измеряется главным образом толщиной пыли, оседающей на моем корешке.
Конечно, этот счет не может быть точным без учета различных причин, например
того, сколько раз проветривают помещение. Да и состав здешней пыли немного
иной, чем там: дверь тут открывается прямо на улицу, и ветер заносит песок и пепел.
Отсюда, с высокой полки, я смотрю лишь в одно оконце. Наискосок от себя
вижу край покатой улицы: этот пятачок полон шума и гама, здесь устраивают
сражения местные пьяницы, проститутки и наркоманы, но, как бы то ни было,
благодаря ему я нахожусь в курсе современных нравов. Откуда берутся эти
сонливые наркоманы, мальчишки с финками, бездельники, человекообразные мешки,
снующие на улице? Откуда вся эта удушливая пыль, от которой першит в горле?
Простите, мне вовсе не хотелось бы плакать вам в жилетку, но что-то всколыхнулось
у меня в душе: пыль напомнила мне о Лаури Айрола. Он не давал мне задохнуться
от пыли, сколько раз брал он меня в руки, гладил и листал, углубляясь в меня
мыслью и душой; как пишут в любовных романах, мне помнится нежность и теплота
его рук. Однажды в деревне — с тех пор уже прошла целая вечность — в один
прекрасный летний вечер, когда уже смеркалось, он лежал в лодке и читал меня, и
я, созданная ради людей, отдавала ему всю себя, всю свою жизнь. Он читал,
окруженный глубокой, спокойной, как шелк, водой среди засыпающих кувшинок и
камыша, сидел и читал под ясным безоблачным куполом неба. Я не собираюсь
впадать в патетику, в притворную чувствительность, не хочу ничего
приукрашивать, ведь для подобных мне, иные из которых бессмертны, это было бы
опасно, как сама смерть. Но именно Лаури Айрола со своим интеллектом, восторженностью
и страстью вдохнул в меня силы, вселил веру в самое себя и в человеческие
возможности, в нашу пламенную дружбу. Он научил меня говорить живым языком,
ведь без языка все мое племя погибло бы, умерло бы давным-давно, не оставив
наследства.
Вселил веру... но как же поколебалась во мне эта вера теперь! Не знаю,
нужна ли я еще кому-то, интересуется ли мною кто-либо вообще. Представляют ли
еще какую-либо ценность эти четыреста пожелтевших и израненных страниц,
рожденных в прошлом веке? Меня, видимо, нарочно поставили на эту недоступную
полку, где собрано все ненужное, бесплодное и вымирающее — то, что взвешивает
безмен времени, чтобы предать забвению, как все потерявшее цену. Кого еще может
заинтересовать описание жизни лопарей прошлого века? Кто еще интересуется терминологией
растительного мира Лёнрота или «Энеидой» Вергилия, первого из древних поэтов?
Нет, я уже устарела для этих помпезных шкафчиков и шифоньеров, для современных
стеллажей, где между причудливыми графинами для вина и фужерами едва-едва
найдется место для двух-трех книг с кричащими суперобложками.
— Внутренний вид королевской камеры во дворце термитов! Шедевр
ювелирного искусства!
Соседка опять принялась читать лекцию по зоологии. Молю бога, чтобы по
соседству со мной была бы не столь громогласная и заносчивая особа, а такая, с
которой можно было бы побеседовать не только о животных. С другой стороны, и то
счастье, что поваренные книги и пособия для молодых родителей на четыре полки
ниже меня. Эти просто режут слух чудовищной какофонией, да еще в сопровождении
стихов общества народного просвещения.
— Теперь матка сокращается! Ой, ой! Помните, не забывайте, в таких
случаях надо сосредоточиться и делать упражнения!
Да, я крещеная! И дети мои — тоже!
Умеешь ты легко произносить
слова, которые всего дороже.
А сможешь ли их делом подкрепить?
— Языки промывают сперва холодной, потом горячей водой, снимают кожицу и
кладут в кипящую подсоленную воду...
Я устаю от этих голосов, от этого словесного извержения, от этих
диспутов и возбужденных излияний моих соплеменников. Под моей полкой вечно
вздорят двое: кто из них лучше, — а на дальней полке кто-то выдает чьи-то
наветы чуть ли не за шедевры. И все же мы связаны одной нитью, нам не обойтись
друг без друга: все наше большое семейство просто-напросто не может жить без
общения, любовной связи и продолжения рода.
Звенит колокольчик над дверью. Простите меня, не удивляйтесь, но я не
могу сдержаться. Каждый раз, когда кто-то входит в лавку, у меня дух
занимается, я готова спрыгнуть с полки, я надеюсь, требую, молю, прошу, чтобы
вошедший обратил на меня внимание.
Совсем еще молодая девушка! Отсюда мне плохо видно. Девушку заслоняет
стеллаж для газет. При виде ее вьющихся волос меня охватывает дрожь, их
молочная белизна западает в душу. И вот она уже скачет где-то по мне — то
легкой поступью жеребенка, не знающего подков, то пугливо, как северный олень;
она бежит, распахнув душу, с поющим сердцем; куда она бежит — ко мне или от
меня? — это еще неизвестно. Разочарование, горечь и уныние смыло как ливнем, и
я жду ее, тоскую, желаю ее, пылаю к ней любовью всех беспредельностей и вечностей.
Я люблю ее, как воду, солнечный свет и ветер, как биение сердца, я люблю ее,
как рысь любит шелест листьев на верхушке дерева. Люблю жадно, лижущим пламенем
лесного пожара, люблю покорно, как замшелые девственные дебри, льну к ней
капелькой пота, притаясь на ее груди, или как дождь, охлаждающий ее пылкий лоб.
Я люблю, чтобы и она полюбила, обрела очи орлицы и голос океана.
Я шуршу, трепещу, каркаю по-вороньи, заливаюсь свирелью. Неужели ты не
слышишь! Неужели не чувствуешь, как я тоскую по тебе, ты — звезда моего
небосклона, ты — сладостный звук флейты, ты — нежный аромат земляники! Не
оставляй меня, не рви собственных глубоких подводных корней! Слушай меня,
смотри на меня, смотри на свое отражение в зыбучей глади бездонных вод, смотри
и расцветай, ты, проросшее временем семя, кладбище древних челнов, ты,
родившаяся из пыли ракушечника ясная кувшинка.
Сюда, сюда, подними же свои глаза повыше! Взглянет ли на меня,
дотронется ли сейчас до меня своими тонкими пальцами, сдунет ли с меня зыбкие
тени и слои пыли, избавит ли меня от давящего, сковывающего грудь страха, шершавого,
как личинка моли? Я зову девушку, но тщетно. У меня нет ничего, кроме слов и
мыслей, на гребне которых я мчусь, гонимая вечной тоской и желанием; стремясь к
своей цели, я спотыкаюсь, расшибаю колени, плача и стеная от боли, с тяжелым
сердцем, колотящимся, как волна о каменную глыбу; но вот я вновь обретаю легкость,
взлетаю и парю, как стриж под куполом неба.
— Дорогой друг, выслушай меня, позволь мне сказать! Да, я стара, на моем
переплете давняя дата: 1858 год. Но я все-таки верю в себя и дерзаю пригласить
тебя, я, рожденная в Финляндии, первородная дочь финского языка, я, несущая на
своих нежных страницах речения, найденные самим Лёнротом; я, жердь, обломок
метлицы, сникшая повилика, дряблый клубень, стебель которого повсюду изъявлен;
я, соцветие и метелка, незрелая тычинка, бесплодная пыльца, радужный пузырь!
Нет, она даже не поворачивает голову. Да и слушает ли она? Вслушайся,
услышь, тише... погоди, я шепну тебе на ушко:
Он пел дороги лун, затменья солнц,
Рождения людей, зверей, дождей и зноя;
Созвездья пел, Медведицу Большую,
И отчего так рано в море лед,
И летнее исчезновенье ночи...
Как она далеко от меня! Она не слышит, она уходит? Еще нет, она только
отворачивается от меня, наклоняясь к стеллажам. Что-то берет там, какую-то книжечку,
заглавия отсюда не различить. Вижу на обложке лишь красивое женское лицо в
слезах, приникшее к мужской груди. Девушка расплачивается и собирается уходить.
Ее светлые полосы шевелятся при дуновениях воздуха; вот она и ушла, я снова
одна.
Сердце мое сжимается, немеет, я впадаю в какое-то оцепенение, я в
отчаянии. Весь вечер я как истукан; дверь открывается и закрывается, но мне не
до посетителей. Кто-то спрашивает про старые карты Хельсинки, кто-то ищет
биографию Пааво Нурми. Не волнуют меня и события на уличном пятачке. Начинается
головокружение; откуда-то издалека возникает странное тяготение, готовое увлечь
меня за собой, поглотить мое сознание, вернуть его мукам смерти и пустоте.
— В жертву... в жертву... солнцу и луне — самца, но только не черной
масти...
В нос ударяет какой-то раздражающий, резкий запах. Я вдыхаю, знакомый
винный дух распространяется по полкам. Я прищуриваюсь: пришел Тату Итконен,
хочет сбыть книги, украденные на барахолке Армии спасения или раскопанные на
помойках. Сторгуется ли он — меня не волнует, я не хочу ни видеть, ни слышать
ничего. Меня воротит от всего этого. Запах дешевых сигар Пиетикяйнена соперничает
со зловонием гнилых зубов и лохмотьев Тату.
Мне не хочется смотреть... Но я все же вижу, слышу, ощущаю запахи и не
могу не думать. Происходящее подстегивает, делает меня очевидцем, выводит из
оцепенения и подавленности. Тату Итконен стряхнул с меня сон.
Пиетикяйнен листает книги из пачки, принесенной Тату. Он всегда дает
Тату несколько монет, сумма которых редко меняется; пусть Тату купит себе рюмку
самой дешевой водки.
Пиетикяйнен фыркает, просматривая принесенные книги, боясь испачкать
руки: обложки иных залиты какой-то уже высохшей жидкостью. Когда он назначает
цену книге, на лице у него появляется всегда одно и то же бесконечно
равнодушное выражение. Даже если в пачке, случается, и заблудились какие-то
ценные экземпляры, узнать это по его лицу невозможно, да, скорее всего, он
вообще не может отличить редкостное от рядового. Он из того нового,
деградировавшего молодого поколения, интересующегося редкостями в зависимости
от выручки, которую можно за них получить. Явную порнографию этот доморощенный
интеллектуал, правда, боится сбывать, хотя, с другой стороны, как он объясняет,
должно быть право выбора, поэтому, согласно его принципам, он сам предпочитает
продавать более изысканную клубничку, не столь грубую, как в маленькой лавке в
соседнем квартале, где на витрине между стилетами, чулочными подвязками и
плетьми красуются женские груди, подобные арбузам.
Тату получает деньги и отправляется восвояси, мурлыча себе под нос.
Пиетикяйнен ругается, бросает взгляд на часы и идет запирать дверь. Наступает
вечер. И если я не сбилась со счета, завтра пятница, день, когда приходит
Ийвари. Ийвари, который так напоминает мне Лаури Айрола. Я уверена, в один
прекрасный день этот молодой человек, настоящий антикварный кит в самом лучшем
смысле этого слова, подтащит к моей полке стремянку и отыщет меня. Теплые
пальцы ухватятся за мой корешок, и я вновь попаду в руки живого человека.
Настроение поднимается. Я сплю спокойно до первых петухов, будит меня
шарканье ног. Две женщины постукивают каблуками по ранней, пустынной еще улице.
У одной из них все лицо в оспе, словно в каких-то мелких кратерах с
красноватыми краями. На голове у нее черная кружевная косынка — видимо, именно
для того, чтобы прикрывать лицо. Другая, в ярко-красном пальто, ежится и гнется
от беспрерывных приступов кашля; я не вижу, куда они сворачивают.
Светает. В поле зрения появляются и другие объекты. Бледная женщина
везет в коляске ребенка, несколько мужчин направляются в сторону дока, из
подъездов начинают выныривать какие-то мешковидные существа, они скапливаются
на углу улицы. Прижимаясь к тротуару, грохочет мусоровоз, поворачивает и
исчезает, на его месте возникает автофургон, из которого какие-то мужики
переносят в магазин пирожки и глянцевитые черные караваи. Из дока доносится
грохот и скрежет, открываются двери магазинов, и я спокойно жду появления
Пиетикяйнена.
В замке скрипит ключ: входит Ятта, дочка Пиетикяйнена. Обычно это
означает, что у Пиетикяйнена день похмелья.
Ятте не очень нравится заменять отца. Ей всегда трудно найти способ
убить время. Она целый день либо висит на телефоне, либо делает маникюр, вяжет,
листает дамские журналы, но ни в коем случае не книги; лошадь и та любит
литературу больше, чем она. Поэтому ей всегда трудно назначить цену книге, это
чаще всего зависит от ее настроения или от того, каков клиент.
Первый посетитель!
Но я тут же разочаровываюсь. Этот случай мне известен. Старого господина
в очках интересуют только книги определенного сорта. Он ищет издания о егерском
движении[1],
он хочет составить библиотечку из мемуаров егерей, он хочет знать все о егерях.
И все же я надеюсь... вдруг он заинтересуется и моими путевыми
заметками.
— Дорогой господин, прошу прощения! Не хотите ли вы, чтобы я рассказала
вам о волости Утсйоэ или о народных нравах и обычаях прошлого столетия? Про это
у меня есть прекрасный рассказ господина Анделина. Лопари лечили кашель бесовым
дерьмом, а паршу врачевали кровью жабы; чтобы изгнать из себя лихорадку, они
пили кровь только что зарезанного поросенка...
Он не слышит. Похоже, книг, что он ищет, на полках нет.
— Нет даже Туомпо. — Очкастый явно разочарован. — Когда вернется сам
Пиетикяйнен?
— Э-э... завтра, наверное...
— Передайте ему привет и скажите, что приходил майор Терво.
— Хорошо-о...
Очкастый прощается. Вижу, как он переходит улицу.
И тут же замечаю, как Тату Итконен выскальзывает из двери лавки, где
торгуют порнографией. У него под рубашкой топорщится что-то угловатое: похоже,
ему удалось стащить книжку-другую.
— Привет!
Ятта не удостаивает его ответом. Она говорит по телефону.
— Нет... Да-а, боже, как по́шло...
Погоди, погоди немножко... Мне нужно тут выпроводить одного дядьку.
— Где Пиетикяйнен? — ворчит Тату.
— У него дела.
— Имеется товар... книжки.
— Мне некогда, я говорю по телефону.
— А вы бы посмотрели... Литература что надо... шведская...
— Фу... Совсем молоденькие девчушки... — гримасничает Ятта. — Ну и вид,
фу, нет, такие не возьму, боюсь...
— За них же можно хорошие монеты получить, это уж как пить дать.
— Нет, нет, таких я не... Не поставишь порнографию рядом с...
— Ну, раз эти не подходят, у меня есть другие.
Тату вытаскивает из-под рубашки три книги и кладет их на стол. Я
вздрагиваю: подскакивают чуть ли не все мои четыреста страниц. Под пустячными
книжонками я вижу вдруг жемчужину подлинной литературы. Ни Тату, ни Ятта,
разумеется, не в состоянии увидеть ее, но вот я уже слышу, как кто-то шепчет на
нижней полке:
— Неужели... «Тюрьма» Горького... Дозволено цензурой в Хельсинки, июня
14 дня 1905 года.
— Сколько здесь? — спрашивает Ятта. — А-а, три, ну что ж, по марке за
каждую.
— Дай же хоть пятерку.
Ятта выкладывает три марки, швыряет книги на стол и направляется к
телефону продолжить прерванный разговор.
Хоть бы скорее пришел Ийвари! Хоть бы не было у него каких-то других дел.
Какая радость для Ийвари: он-то сразу бы учуял настоящую книгу!
Я жду Ийвари целый день, но он все не приходит. Лишь когда Ятта
собирается уже закрывать дверь, в магазин врывается запыхавшийся Ийвари, на нем
потертая клетчатая рубашка.
Ийвари, видно, что-то заприметил через окно — вот и старается не смотреть
в ту сторону.
— Вы уже получили Лескова?
— Кого-о?
— Пиетикяйнен обещал мне достать Лескова.
— А-а... Ну, значит, она где-то тут, если есть...
Ийвари, Ийвари! Оглянись, ведь горячо, горячо! На столе, на шаг от
тебя... не может быть, чтобы ты не почувствовал жаркого дуновения!
Я угадала. Чутье Ийвари безотказно. Его лицо подергивается, глаза на миг
вспыхивают, как спички, и он тут же переводит взгляд на дешевую беллетристику,
потом отворачивается от прилавка и говорит:
— Так, значит, Лескова нет. Что же тут взять на выходные дни, если денег
только несколько марок.
— Дело ваше... Мне пора закрывать магазин.
Пальцы Ийвари рассеянно перебирают книги на прилавке, вытаскивают из
кармана три марки и берут «Тюрьму».
— Хватит, если я возьму эту?
— Не хватит, это стоит пятерку.
— Черт возьми, — говорит Ийвари и кладет на прилавок еще две марки,
кивает на прощание и ускользает в дверь, как подхваченный воздушной струей.
Вижу, как он останавливается на миг у витрины с радостным выражением на лице:
Горький, начало века, и всего за пять марок!
Ятта запирает двери сразу по уходе Ийвари, минут пятнадцать наводит
марафет, затем, ругнувшись, как старый Пиетикяйнен, уходит.
— Добираемся до дальнего края болота и замечаем отпечатки острых копыт.
Мы в местах обитания лосей...
Товарка по соседству вновь принялась за свои лекции по зоологии. Скоро я
узнаю все об отпечатках копыт млекопитающих, об образе жизни угря и о развитии
медузы. Единственный недостаток моего ментора — то, что лекции свои она читает
без какой-либо системы, наугад открывая страницы. Пожалуй, поэтому я и засыпаю
в середине урока; вижу сон о своем рождении, о Лёнроте, нашедшем новые слова:
«литература», «просвещение», «поцелуй». Ийвари — это вовсе не Ийвари, а Лаури,
принявший облик Ийвари, а может, и наоборот, — нежно листает меня и осторожно
дует на корешок, как на детскую коленку; он говорит:
— Замечательно, именно тебя я искал повсюду!
Я открываю глаза, полночь, и уже никак не могу уснуть. Какая-то черная
тряпка колышется за окном. Что это? Клочок бумаги? Грязный носовой платок? И
почему она вроде хочет ворваться вовнутрь, будто хочет что-то сказать мне?
Я отворачиваюсь, но меня не покидают мучительные, тревожные мысли о той
тряпке за ночным окном. Не страх ли это, не крик ли ужаса, мрачная мысль,
брошенная прохожим? Пепел прожженной молодости, несчастное детство? Или же это,
может, черная, траурная вуаль рябой женщины?
— Ты видишь? Ты тоже видишь это? — говорит мне кто-то из темноты
полочных проемов.
— Кто там?
— Это я, «Кантеле жизни».
— Стихи?
— Стихи начала века. Я напечатан в Рабочей типографии в 1907 году. Не
спится? Ты тоже видишь эту вуаль?
— Вижу, я подумала... что бы это значило?
— Я не уверен, но очень похоже, что это сказание о слезинке.
— Сказание о слезинке?
— Да, хочешь послушать? Я помню ее наизусть:
Знаешь ты древнюю руну о плаче —
вслушайся в пенье простое.
Вдумайся, вдумайся, где же выход,
только не верь в пустое...
Я тихо слушаю голос нового друга. Это голос мужчины, молодого или
старого — не могу различить. Снизу доносится другой голос, женский, который я
узнаю, Лаури Айрола когда-то сам читал из Онервы:
Кто твою бесконечность увидел, небо,
Тот навсегда очарован...
Двое начинают поочередно читать стихи: то ли друг другу, то ли мне, а
может, спящим полкам — не знаю. Мужской голос декламирует «Песню кавалера» и
«Первое мая 1906 года». Он увлекается, почти поет, и вдоль полок разносится его
низкий, хрипловатый голос:
Осень, осень... Время снова
льет потоки слез
и дает ответ суровый
на любой вопрос.
Время сделать бы хотело
карликами нас,
чтоб весенние напевы
не смущали нас...
Однако ему не следовало петь. Песня обрывается на середине: случилось
нечто кошмарное, ужасное, гораздо ужаснее, чем та давняя трагедия и доме Лаури
Айролы. От полок, что возле двери, надвигается зловещий гул, подобный гулу
урагана. Кто-то кричит грубым, пронзительным голосом:
— Хватит! Задушить ее голыми
руками! Сделать из ее кишок веревку для виселицы, а из хари ливерную колбасу,
чтоб мать родная не узнала!
Мы нарушили сон всей этой шайки, гнездящейся на полках; даром это нам не
пройдет, нас ожидает жестокое нападение, ведь книжные полки битком набиты теми,
с кем я не посоветую вам знаться, даже говорить. Им ведомы лишь два способа
общения: в постели или с орудием убийства в руке.
— Пам! Ха-ха-ха! Сам дьявол во плоти кружится, хохоча, в воздухе! Всему
виною демон! Аррррггггхххх!
В мгновение ока просыпаются все обитатели полок. Паника охватывает моих
соплеменников. Одни пытаются спрятаться за других, другие надеются на компромисс.
— Тише, успокойтесь! Давайте жить в мире и согласии! Давайте жить мирно!
— В мире, бхуяяях! Мы зар-режем вас всех! Вот и будет вам мир! Задушим,
расквасим ваши лбы! И пойдет от вас вонь, как из помойки, ото всех до единого!
— Мы хотим убивать, ровнять все с землей! Какого черта нам тут еще
делать, если не воевать!
— Панг! Рататаа! Поддадим витаминчиков в никелевую капсулу!
Истеричная блондинка в бикини спрыгивает со стеллажа, размахивая
кровавым топором. В миг все сливается в один общий гул, плач, треск, грохот. Сверху,
из своего убежища, я вижу всю эту наводящую ужас резню. Кинги сказок на нижних
полках раздирают, оскверняют, топчут ногами. Убийцы в капюшонах с ножами в руке
шныряют между полок, режут книги по искусству, мемуары, романы, пьесы — все что
ни попало под руку. Горы бумаги втоптаны в грязь и пропитаны кровью. Пучеглазые
вампиры сосут кровь из горла у сборников стихов; кишки и внутренности валяются
вокруг вперемешку со стреляными гильзами от ручного пулемета. Отовсюду я слышу
крики о помощи, но не могу никому помочь, я в оцепенении, почти в параличе.
Пытаюсь кричать, но голос никак не может вырваться из груди. Я закрываю
глаза, я вся дрожу: мне хватает смелости осмотреться, когда побоище начинает
утихать.
Жутко, ужасно! На нижней полке, где лежат детские книги, валяются
оторванные заячьи головы и изрешеченные пулями домики-грибы, семейство белок с
содранными шкурками, зарезанные кроты и зонтики с перстень величиной. На полу
же — убитые слова и мысли, искалеченные персонажи романов, проколотые штыками,
пригвожденные рассказы. Насилие лишило жизни тысячи грез, замыслов, чувств.
Но не все еще позади. Девица в бикини карабкается по стеллажу наверх:
пришла ее очередь. Я увижу ее потное лицо, услышу примитивные фразы
атрофированного мозга. Толстокожие агенты и красотки в мини-юбках назначают
встречи в свободное от стрельбы время; героические убийцы ухмыляются и
отпускают плоские шуточки.
Нет, нет, я не могу больше слушать этот исковерканный язык. Нет, не могу
я смотреть на эту гибель разума, на кровь, на это умопомрачительное
преступление!
Во мне разгорается гнев, какого я никогда еще не испытывала. По какому
праву эти солитеры, пиявки, чудовища с щупальцами захватили мой дом,
терроризируют, уничтожают, убивают мое племя? Кто дал им право отравлять воздух
и язык, ростки подлинных чувств и мыслей, чтобы обратить человечество в
сухостой, чтобы человек не мог узнать свои корни, не мог исследовать свою почву
и возможности роста, чтобы он никогда больше не мог слушать на вершинах сосен
голос бескрайнего мира, доставать с неба луну и наслаждаться ощущением полета,
бурей, вечерним ветром, доносящим шепот притаившихся влюбленных.
Ночь тоски и ужаса сменяется утром. Молча смотрю в окно: кто-то в конце
сумрачной улицы толкает коляску с газетами. Прищуриваю глаза: знакомая походка.
Колеблюсь, сомневаюсь, неужели это Ийвари? Собираю все силы — и кричу ему из
окна:
— Ийвари! Ийвари! Ийвари!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





