ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна

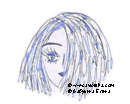

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кузнецова Галина 1989
Леночка обнаружила эти письма не случайно, мама сама натолкнула ее на
это. Мама все плакала и плача исписала много писчей бумаги, перегибая ее
пополам. Когда она уходила на работу, бумаги исчезали, их нигде не было видно,
ни на полочке над ее столом, ни в столе, ни между нотами. Но едва у мамы
выбиралось полчаса-час, она опять уединялась за столом, горестно согнувшись над
бумажками или глядя в окно невидящими глазами. Леночка как бы между прочим
заглядывала в листки, и ей удавалось прочесть неизвестное мужское имя и слова,
из которых получался какой-то смысл, но очень уж безысходный.
И у дочери росла в душе непривычная тяжесть и смута, но мама и этого не
видела, она и Леночку-то почти не замечала, и тяжкое недоумение подростка
перерастало в бессильное отчаяние и обиду: всю жизнь обожаемая мама,
оказывается, совсем слабая женщина. Жалкая, с красными глазами и распухшим
носом, как будто у нее умерла дочь, она пугала Леночку и даже отталкивала.
Пятнадцать лет мать и дочь прожили в прекрасном союзе, целиком их
поглощавшем. Сколько раз мама, зажмурив глаза от счастья, обнимала Леночку и,
притянув к себе, повторяла: «Никогда, никогда с тобой не расстанусь». И вот
теперь она даже не помнит о существовании дочери.
Приходила тетя Нюся и рассказывала, что их директора переводят на
понижение, потому что от него ждет ребенка Бараева. Так что он уезжает простым
инженером на дочернее предприятие. «Бараева не отступится, не тот случай,
поедет за ним в Петровск. Родная жена не знала, как мужа удержать, а эта
сумеет».
Но мама и тут не оживлялась, сидела безразличная, хотя бы какой-нибудь
вопрос задала, чтобы Лене узнать поподробнее.
И в довершение всего мама купила Лене и Нюсе путевки в пансионат под
Калининградом. Оказывается, им еще и повезло: путевки предназначались для маминой
начальницы, но она могла себе позволить от них отказаться, на их счастье.
Хорошенькое счастье — уехать от мамы в такой момент, да еще с тетей Нюсей. И
вот тогда-то Леночкина обида начала перерастать в гнев, и она, едва мама,
«собрав себя по частям», запудрив нос и под глазами, ушла на работу, начала
искать следы таинственных бумаг.
Она не нашла ни одной из них — по-видимому, мама их уничтожила или
отослала. Зато в фирменном конверте маминой «конторы» она обнаружила несколько
незнакомых писем, обращенных к ее матери, написанных твердым почерком, но без
соблюдения правописания букв м, н, т, и,
к, с, е, так что читать было ужасно трудно, все сливалось в сплошные палки,
однако кое-что понять все-таки удалось. Несколько неизвестных слов —
эсхатологический, либидо, конвенциальное знание — пришлось посмотреть в
иностранном словаре. Но и без всяких словарей было понятно то, что там писалось
о страсти и о матери.
Письма незнакомого человека к ее матери ошеломили ее. По мере того как
она осознавала их, Лена приходила в страшное возбуждение. Так, значит, ее мать
любит чужой, посторонний мужчина такой любовью? Где он живет? Кто он? Почему
Лене о нем ничего не известно? А она-то, доверчивая овечка, считала, что ей о
матери известно все. Значит, ее обманывали, с ней играли? И кто?! Ее обманывала
родная, обожаемая ею мама, ее единое-неделимое с нею самой.
Она, может быть, с рождения каждое утро мечтала о том, как наступит
вечер и они с мамой улягутся в ее кровать, самое мягкое и уютное место на
свете, и тогда не страшно темноты, и отодвинутся зверства математички, как
отодвигаются на второй план декорации в театре, и так сладко будет вдыхать
запах маминой подушки. Пятнадцать лет Лена шла на все возможные ухищрения,
чтобы как можно чаще быть возле мамы; никогда не надоедало ей смотреть, как
мама складывает губы для произнесения тех или иных звуков, как она моет посуду
или роется в нотах. В раннем детстве они допридумывали сказки, это было так
интересно: какими семью кашами в неделю кормила Маша медведя, чтобы он ел с
аппетитом. Чуть позже Лена стала ревниво следить, чтобы подол маминого платья
был таким же коротким, как у других женщин, и не скрывал ее стройных ног; через
некоторое время именно она настояла на юбке-макси, чтобы мама была такая же
величественная, как Снежная королева. Наконец, Лена испытала сладость духовной
власти над мамой, когда убедила ее, что скрипкой Лене заниматься ни к чему: в
их школе «с музыкальным уклоном» она и так достаточно загружена музыкой.
И уж, разумеется, мама все-все рассказывала Лене о своей работе, о
сотрудниках, советовалась, какую подобрать музыку для серии пластинок «От
курочки Рябы до Золотого петушка» и с кем лучше озвучивать «Песни Нильса и гуся
Мартина», написанные известным композитором Вечериным. Мама брала ее с собой в
Дом композитора на концертное прослушивание новой оперы «Алеша Попович». Им с
мамой опера не понравилась: Алеша ведь, как ни говори, попович сын, а пел
какие-то легкомысленные куплеты с весьма слабым содержанием. Ходили слухи, что
оперу намерены ставить в Юношеском музыкальном театре, и Лена, как культ-сектор,
убедила девочек в классе на премьеру не рваться. Вообще Лена горячо разделяла
мамино отчаяние, когда приходилось принимать чью-то халтуру. Лена даже начала писать
либретто «Счастливая Ниобея», не сомневаясь, что маме оно понравится, и, может
быть, сам Вечерин захочет положить его на музыку. Вот какую они с мамой прожили
жизнь длиною в пятнадцать лет.
Теперь же оказывалось, что это Лена прожила с мамой, а мама жила еще и
сама по себе. И в той «самой по себе» жизни были мужчины, не только ее отец,
которого, кстати сказать, дочь могла бы видеть гораздо чаще, но из солидарности
с матерью не делала этого. Однако никакого равенства все равно не было, потому
что это только Лена отдавалась союзу с матерью целиком, безоглядно,
самоотверженно, вникая в мамины дела, роясь для нее в справочной литературе,
давая ей по телефону любую информацию, если мама забывала дома одну или даже
обе свои записные книжки, рабочую и личную, в которых она уже и сама
запуталась, но только не Лена, всегда готовая прийти ей на помощь.
Да, это Лена кормила маму пирогом собственного приготовления, заранее
продумав, когда мама никуда не будет торопиться. Это Лена водила маму гулять по
заснеженной зимой и обсаженной ноготками летом дорожке между домами к «их»
скверику и дальше к «ее» бывшему детсаду, где до сих пор еще, наверно, не
истлела красивая Леночкина варежка, провалившаяся при Ленином содействии в щель
пола прогулочной веранды.
После первого чтения чужих мужских писем к матери Лена долго не могла
опомниться. Велик был ее гнев, готовый покарать нарушителя их с мамой счастья и
покоя, но и он также куда-то отодвинулся, как и обида на маму. Она прочла их
несчетное количество раз, и они казались теперь такими же «ничейными», как
библиотечные книги, и такими же противно влекущими, как рассказы Мопассана.
Низкое, грязное, гадкое ощущение просто съедало, уничтожало в ней что-то, как
тля капустный лист, оставляя вонючую жижу на том месте, где была зелено-белая
упругая ткань листа.
Лена перестала смотреть в глаза матери: ей было стыдно видеть в ней то,
о чем писал неизвестный ей человек. Она не пыталась больше утешать ее, или
доискиваться причин, или отвлекать ее вопросами о работе, или рассказывать о
собственных делах. Да и что хорошего она могла рассказать о своих «школьных
успехах»! Оглядев себя однажды утром в зеркало возле школьной раздевалки, Лена
пришла к неожиданному заключению, что она молода и хороша собой и что перед
математикой она смоется, возможно, в кино. «Счастливую Ниобею», так и не
законченную, Лена положила в такой же фирменный мамин конверт с эмблемой
крутящейся пластинки и убрала подальше в свой стол — она больше не хотела иметь
детей, вдруг они будут так же страдать, как она. Зачем страдать, надо просто
жить собственной, а не несвоей жизнью, даже если несвоя — материна жизнь. Ни
одна смертная в греческих мифах так коварно не поступала с собственной дочерью.
Уж можно не сомневаться, почему маме понадобилось сплавить ее на море, да еще в
июне, так что сама же еще и хлопочет о том, чтобы практику по УПК дочери
перенесли на июль. Вот и прекрасно, она будет купаться в холодном море, и
хорошо бы как следует простудиться.
Лена вернулась домой, глубоко запрятав в себе тайну теперь уже собственной
жизни: ей не было никакого резона рассказывать о местном прыщавом юнце, который
плакал, стонал и клялся, что будет любить Лену вечно, что никто никогда не
будет ему нужен, кроме Лены, а без нее он покончит жизнь самоубийством.
От шампанского приятно кружилась голова; казалось, что вот теперь она
уже никогда не будет одинока и обманута, и пусть она не может ответить чувством
той же силы, но это и к лучшему, ведь тетя Нюся как-то сказала, глядя на маму,
что проигрывает тот, кто больше любит. Раз невозможен союз на равных, пусть у
нее будет вечный раб. Так они летели в надоблачных высях, пока боль и
опустошение не повергли Лену на землю.
Вернувшаяся с какой-то выставки-продажи тетя Нюся застала Лену в страшном
состоянии, слишком сломленную, чтобы скрыть случившееся. Боясь материнского
гнева, они поклялись друг другу, что это несчастье останется навеки тайной их
двоих. Когда они садились в поезд и Лена пустыми глазами проводила пустой перрон,
ей почему-то вспомнилась маленькая красивая варежка, которую она в детстве
бездумно протолкнула в щель детской веранды. Никогда больше у нее не было таких
красивых варежек.
Лена больше не радовалась творческим дням матери. Не то чтобы она вовсе
не хотела ее видеть, однако их пребывание друг возле друга, едва обрадовав, превращалось
в пытку. Лене хотелось язвить, мучить мать, не просто бездельничать, но
выставлять напоказ свою лень и безразличие ко всему доброму и светлому: к
музыке, книгам, учебе, кошке Марысе, жившей у них в подъезде, к нехитрым
домашним обязанностям, прежде выполнявшимся с такой охотой, особенно если надо
было выбирать между ними и алгеброй
Она продолжала бояться темноты, но еще больше презирала в себе приступы
слабости, когда «впадала в детство» и просилась к матери в постель. К тому же
ее мучили жуткие сны или вообще не было сна, и она включала у себя свет да так
с ним и засыпала, истратив все силы на бесплодные боренья с невидимым недугом.
А на полу, по обыкновению, валялось сразу несколько читаемых ею одновременно
книг.
Дочь видела, что мать осталась одна и что она несчастлива вдвойне, но, и
сама теперь не счастливая, она никому не желала счастья. Механически, не давая
себе в этом отчета, Лена оборвала бутоны, высыпавшие на китайской розе как по
команде, а ведь она после смерти бабушки не зацветала еще ни разу. С холодным
упорством она не замечала страданий матери, а ее усилия вылечить кактусы откровенно
высмеивала: там завелись крошечные зловещие насекомые, особенно дружно
наваливавшиеся на молодые побеги.
Для матери всего страшнее стали субботы и воскресенья, если она не была
занята на срочном записывании. В эти дни они были особенно одиноки и особенно
отчетливо было видно, что Лена совершенно перестала заниматься, забросила марки
и переписку с мальчиком из Греции, а главное — элементарно готовить уроки. Зато
начала красить лицо, отрезала не спросясь косы и на ночь накручивала бигуди. «И
вам разрешают?» — «А чего? Худо-бедно десятый на исходе», — отвечала Лена.
Лене тоже невыносим стал дом. «Куда ты собираешься?» — «Сяду сейчас в
трамвай и буду кататься по кругу. — В глазах никакой насмешки и все-таки едва
прикрытые вызов и раздражение. — Видишь, беру с собой вязанье, многие теперь
вяжут в транспорте» И Лена уходила по лестнице, не дожидаясь лифта, чтобы не
длить мучительной сцены.
А мать возвращалась в пустую квартиру, подходила к пианино и отходила,
пыталась что-то делать по хозяйству, а перед глазами стояла дочь с чьим-то лицом.
С чьим? Такое жалкое, страшно обойденное и отчаявшееся. Она вспомнила это лицо:
из начальных кадров «Путевки в жизнь». «Я? — спрашивал детский голос. —
Гулящая!» Ересь какая-то, чушь собачья, отмахивалась мать. Постой, но все-таки
что же случилось? Что! И пред глазами пронеслись ее бумажки, что она без конца
писала всю весну. Ведь они тогда, как слепые котята, копошились вокруг ее
постели и стола. Только этого не хватало!
Нюся раскололась легко и про море, и про письма. Ощущение было такое,
что материно тело раздавило современным самосвалом, подножка которого была ей
по плечо. Катастрофа — и мрак.
Так вот откуда перерождение ее ренессансного ребенка в стенающую пифию.
Земля разверзлась, но породила не страх, а гнев.
Пятнадцать лет она оберегала свое дитятко от... От чего? Ото всего.
«Чтобы тихо года шелестели, чтобы детства забыть не могли». И куда же это
заторопилось ее сокровище? Как посмело коснуться единственного крошечного
уголка, в который не было посвящено для своей же пользы? Ну что, теперь лучше
стало? Мать была не права? Надо было обрушить на доченьку взрослые тупики?
Но уже набегала привычная печаль. Что можно сделать, куда денешься от
нашего человеческого несовершенства, от смертной скудости, разве мы ее придумали?
Разве греческий хор не поет сейчас о фатуме и предопределении, перед которым
бессилен человеческий род? Разве она отошла бы от Лены в тот страшный момент,
если бы могла не отойти? Силы, ей не подвластные, играли ею как хотели. Они и
теперь ей не подвластны, и она не многим отличается от ребенка с его
незащищенностью. Разве что осознанным смирением.
Но есть же, есть сильные женщины. Или они хитрые, практичные,
приспособленные? Есть же и девчонки, которые наперед знают, инстинктом
чувствуют, как обойти погибель. Да что же с ними такое, ведь не ребенок же она
в самом деле, не пожар был и у ее дочери, куда же она так торопилась? А как она
сама ухитрилась прожить жизнь, и пальцем на нее никто не показывает, и зарплату
ей платят, и считаются в работе с ее мнением, и замужем была, как полагается, и
дом у нее, и неполная, как это теперь называется, но все-таки семья. Да отчего
же такая слабость, как же она недоглядела за откатившимся яблочком, оно же
рядом с яблоней лежало, а там, дальше, там чужие ноги топчутся, чужие руки
шарят.
И такая жалость сменяла и гнев, и страх, и печаль, и упреки, и
запоздалое раскаяние — жалость к светлому своему цветочку-лепесточку, теплому
своему дружочку, единому-неделимому, которым только и спаслась в этой жизни.
Да, материнством спаслась. А иначе сгорела бы от своей сокрушительной,
неумолимой страсти, ибо не перед кем было бы сохранить себя и не для кого.
Неужели и ее дочери не суждено испытать обыкновенного, ясного счастья?
...Чаще всего он являлся ей дерзким гусаром, которым предстал когда-то и
перевернул всю ее жизнь. На заре их любви он смешил ее почти беспрерывно. А
рассталась она с усталым и молчаливым путником, потерявшим направление и теперь
согласным хоть на какой-нибудь ночлег. Под бременем невидимой глыбы ссутулилась
спина, он еле ворочал руками, натягивая сапоги и небрежно заправляя туда
брючины, потом так же тяжко пробивался головой в свитер, потом закуривал в
последний раз, потом уходил, зная, что придет всегда, когда захочет. Наверно,
со временем он стал бы ее ребенком, властным, требовательным, жестоким, как все
балованные дети, но у нее ведь уже был такой ребенок, притом ею рожденный.
Между тем светлое детство навсегда уходило и от Лены, и от ее матери. Но
от матери еще уходила и ее молодость, и ее молодая щедрость: она больше не любовалась
своей необыкновенной дочерью, но любила ее с горечью. Прежнее их взаимное
согласие витало над ними как доброе воспоминание о счастье. И когда они слабели
или гневались друг на друга, оно им потихонечку о себе напоминало: вы все-таки
не одиноки и вы любимы друг другом самой бескорыстной любовью. Потому что все
корыстно — и любовь, и дружба, и все на свете не просто, а с какой-то целью
придумано, но из всех корыстий, из всех целей, обращенных на себя, любовь
матери к своему ребенку и ребенка к матери — самая благородная: чтобы не
огорчить другого, надо постараться, надо состояться самому, чтобы не погубить
жизнь другого, самого близкого человека, не превратить ее в муку. Если бы
только не разрыв во времени: мать страдает за ребенка сразу, а ребенку надо
созреть, чтобы понять — пуповину невозможно отрезать ножницами, она остается
между ребенком и матерью до тех пор, пока жив хотя бы один из них.
Они жарились в своем аду еще долго. Лена скептически поглядывала на
слишком правильную материну жизнь: концерты, голодание по Бреггу, «встречи с
природой на подоконнике». Кактусник она все-таки вылечила, хотя кое-какие
разновидности погибли.
И все-таки мир матери не был уж вовсе смешным, ее упорство не только
раздражало Лену, но и вызывало уважение, хотя все это было и немного
старомодно, и немного сентиментально. И все-таки Лена успела вовремя развиться
выше той отметки на столбе жизни, до которой подросшему поколению кажется, что
до него на свете ничего не существовало.
Скорее, мать не выдерживала экзамен на терпение и терпимость, досаждала
дочери требованием, чтобы та поступала в институт, вечно беспокоилась о ее здоровье,
вообще «вмешивалась в ее личную жизнь». Возвращаясь усталая с работы — Леночка
получила в УПК специальность машинистки, ее ценили, потому что она печатала
латинским шрифтом быстро и грамотно, — возвращаясь с работы, Лена снимала
макияж и, выпив чаю, ехала «вольнослушателем» на искусствоведческий. По утрам бледная,
некрасивая от невыспанности, она говорила матери: «Мне бы твое здоровье».
И мать больше не щадила ее, прибавляя дочери преждевременное знание, что
и во взрослую жизнь втягиваешься постепенно, так что пока научишься каждое утро
вставать вопреки нежеланью и делать что положено вопреки нездоровью — как раз и
проходит «праздник жизни, молодости годы», как сказал поэт.
Почти делая матери одолжение, Лена поступила на вечернее отделение. К
середине третьего курса выдохлась окончательно, бессонницы и рвоты стали хроническими,
пришлось позвонить отцу, а может быть, ее и так бы перевели на дневной, уж
очень грозные заключения содержались в медицинском обследовании.
Вернувшись в классический мир, дочь стала немного мягче, так что в ней
можно было теперь иногда рассмотреть прежнюю порывистую Лену. Иногда. А
вообще-то она больше всего любила повторять, как она замечательно работала в
солидном заведении, и какие солидные дяди от нее зависели, и как она числилась
на одной работе, а выполняла другую, но зато ей платили целых сто тридцать
рублей.
С деньгами у них действительно было негусто, но пока что выручала мода
ретро: на худой Лене прекрасно смотрелись бабушкины, совсем немного
переделанные одежки.
— А теперь, мама, я долго-долго буду всем доказывать, что я не верблюд,
что молодые специалисты тоже люди, этого добра я насмотрелась, работая машинисткой.
— И неожиданно для себя добавила: — И буду я теперь всю жизнь, как ты, искать
свою вторую половину.
Мать не нашлась с ответом. По мере своего все более крепнущего смирения
она теперь частенько затруднялась с волевыми решениями. Ей оставалось надеяться,
что Леночка все-таки доберется до диплома, а это был еще вопрос. Ведь кроме
любимых предметов существовали нелюбимые, и их было значительно больше. Вообще
программа стала гораздо обширнее той, что была во времена матери: теперь можно
было бы всерьез заняться научной работой. Леночка в ответ необидно улыбалась, а
ведь могла бы и раздражиться, но нет же — она теперь прибегала к иронии лишь в
случаях оголтелого назидания.
Да, Лена училась, если судить по отметкам, просто скверно, даже
стипендию не выжимала, не то что в свое время мама-отличница и
золотомедалистка. Но редкие счастливые разговоры на специальные темы, которые
изредка у них получались, оставляли ощущение свежего профессионального знания у
дочери.
— Или нам ничего не дали когда-то, или я катастрофически поглупела в
своей конторе, — говорила мать тете Нюсе.
Больше всего мать ценила теперь ночные часы, когда Лена, слава богу,
переставала шуршать по дому, журчать кранами, с кем-то что-то обсуждать по
телефону, снова вставать после того, как уже легла. Тогда мать точно знала, что
по крайней мере до утра у нее есть передышка; ни странных звонков, ни внезапных
исчезновений на день-два самой дочери или на более неопределенный срок ее
тряпок и появления какой-нибудь неизвестной юбки — обмахнулась на время, — ни
покупки на последнюю десятку букинистической или «чернорыночной» книги, ни, что
особенно было непереносимо, головокружительных планов сменить институт и
профессию, наконец, вообще не получать высшего образования — словом, до утра
ничего непредсказуемого не случится.
Мать лежала с закрытыми глазами, уставшими за день от нотных знаков,
разложив каждую косточку, отбросив подушку и вытянув до предела позвоночник.
«Как в гробу, — грустно думалось матери, — тихо, покойно, но везде боль,
значит, жива».
Подумать только, за годы, когда мы любим и любят нас, у нее были
считанные минуты совпадения со своей второй половиной.
Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она...
Когда же это было, с кем, где? И такое суровое наказание — такая кара.
Зачем, зачем, о господи, они столько лет мучили друг друга, ненавидели и
любили? И все за несколько крупиц восторга и уверенности, что рядом твой
человек. Он и сейчас ее, но это больше никого не коснется, теперь это только в
ней одной.
И неужели теперь ее единственное сокровище, смысл всей ее жизни, ее яблочко
душистое, все-таки не откатившееся от яблони, лишь сделавшее злосчастную попытку,
повторит ее судьбу? Так и сказала: «И буду всю жизнь, как ты, искать свою
вторую половину».
Чудовищно: хочешь своему дитяти долю лучшую, чем себе, а навязываешь в образцы себя.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







