ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


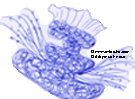
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Белякова Алла 1973
1
Буфетчица Алка — тонкая, цепкая, с мрачными, словно ограбленными глазами — и кассирша Капитолина ехали за город в электричке. Работали они в Москве, в кафе, но Алка жила за городом, и ехали они не просто в гости, но с делом. Алка сговорила Капитолину со своим дядей, инвалидом Яковом Ивановичем, и сегодня Капитолина ехала как невеста — знакомиться.
Электричка стучит глухо, устало, торопливо бежит мимо зябких, уже пожелтевших лесов. Мелькают мимо домишки в крестах телевизионных антенн, ползет рядом шоссе в раздавленных машинами листьях, проносятся пустые дачные платформы с голубыми ларьками для пива, простучит мост, под которым холодно и чисто блеснет осенняя вода. Солнце прячется за беспокойные тучи и бледно и уже бессильно освещает все вокруг.
Но Капитолина и Алка не глядят в окно, пейзажи их не интересуют. Разговор у них сладкий, бабий.
— Ты, гляди, своего счастья не упускай, — говорит Алка. — Дом ведь свой будешь иметь, хозяйство...
— Да уж что хозяйство! — вздыхает Капитолина. — Человек был бы душевный...
Лицо Капитолины светится, как у невесты, голубые глаза на обширном, бледном лице тихо сияют, мягкие губы улыбаются. Прочное тело ее втиснуто в ядовито-зеленый, тонкой вязки жакет, из-под шерстяной юбки видны литые, словно из белого чугуна, колени.
— Мужик он самостоятельный, — говорит Алка. — Работник, не пьет и жену не обижал... Только — молчальник, слова не вытянешь из него.
— Боюсь я этих молчальников, — сомневается Капитолина. — Скучно с ними.
— А в говорливых-то больше толку? — спрашивает Алка.
— А волосы у него какие? — по-бабьи интересуется Капитолина. — Не рыжий ли он? Рыжих я боюсь. Ненадежные они.
— Серые вроде, — неуверенно вспоминает Алка. — Седоватые. Вот только голос у него сиплый...
— Что голос? — вздыхает Капитолина. — С голоса не воду пить.
Алка вспоминает сморщенные ладони Якова Ивановича, сутулые плечи, скучные глаза и не добавляет ничего.
Сколько переговорили они о Якове Ивановиче, но Капитолина все интересуется еще и еще.
— Да понравлюсь ли я ему? — вздыхает Капитолина. — Может, он худокостных каких любит? А я вон — гора какая...
— Понравишься, — убеждает Алка. — Я ему карточку твою возила, показывала. С доски Почета сняла.
Алке вспоминается карточка. На карточке у Капитолины широкое, плотное лицо, узкие, каменные глаза, губастый рот, обтянутые пиджаком мужские плечи.
«Прочная женщина», — сказал Яков Иванович и усмехнулся, обнажив желтые зубы.
Жена Якова Ивановича умерла два года назад, и он так и остался жить вдовцом. Человек неприметный, скромный, до баб не охотник, да и куда ему с язвой желудка и одной ногой? Вот и присватала Алка дяде невесту. Яков Иванович сначала артачился, а потом на сговор согласился: у него дом, участок, где ему одному на своей деревяшке все хозяйство свое обскакать?
— А язва — что ж? — рассудительно говорит Алка. — Диету ему справишь, манную кашу да бульончик трудно ли сварить? А на протезе своем он быстро по участку скачет, не угонишься...
Но болезней инвалида Капитолина не боится, она привыкла. Семь лет уже живет она в одной комнате со стариком отцом, лежащим в параличе.
Алка задумывается и замолкает, а Капитолина смотрит в окно. За окном плывет земля, убранная чьими-то руками, черные поля, четкие, осенние дали. Отрада для сердца. Капитолина давно уже живет в городе, но не городской она человек. Родилась в деревне, и родители у нее деревенские. В трудные годы подалась она девчонкой в город, да не прижилась в нем. И теперь иногда мечтается ей уехать из города обратно к земле, к простой, полевой работе; от чужих людей, гомонящих в кафе, — к земляной тишине, к простору. В городской своей жизни часто думает она об этом и тоскует, чтобы были тихие, окаймленные лесом дали и просторное небо над головой и чтобы похоронили ее на деревенском кладбище.
И вот теперь постукивает глухо электричка, везет ее к новому счастью. Будет Капитолина жить в своем доме, среди густого сада, станут ее, как в детстве, будить на заре петухи горловым, радостным, безалаберным своим криком, будет желтое солнце нагревать по утрам ступени крылечка. Конечно, она привыкла кое к чему в городе, к городским удобствам, а там туалетная будка на воздухе и за водой надо с ведрами к колодцу ходить, но зато вокруг — земля, и по вечерам Капитолина будет сладко трудить спину в огороде, начнет забывать городской, изматывающий душу гомон, будет слышать счастливый запах земли. А деньги у нее, слава богу, есть, припасены на трудный момент. В приданое Якову Ивановичу может она привезти телевизор, купленный в рассрочку, будут они по вечерам у телевизора сидеть, постановки разные смотреть. Но и еще есть у нее расчет — у Якова Ивановича свой дом, значит, и для отца Капитолины найдется у него место, хоть какая каморка, лишь бы у старика перед смертью тоже родное небо над головой. Она знает, Яков Иванович согласится взять в дом паралитика.
Капитолина молча смотрит в окно и все думает, думает о Якове Ивановиче. Не везло ей в жизни, удастся ли начать ее снова? «Может, и выпадет мне счастье», — покорно думает она.
В людях больше всего ценит она душевность, чтобы человек был прост и понятен, чтобы ясен был до донышка. Чтобы не было в нем зла и темных мыслей, чтобы жизнь он понимал тихо и не артачился. И хочется ей думать, что не зря она едет к Якову Ивановичу и понравятся они друг другу. Дом, конечно, домом, но в любом доме без душевного человека не будет счастья. А уж себя она не осрамит, она инвалида полюбит, угреет больного человека. Любить ей нетрудно, она привыкла. Племянника Генку любила, сироту, долговязого, дерзкого, с жестяными какими-то глазами, сестриного сына; сколько слез пролила, пока в люди вывела его, теперь Генка чертежником работает на заводе, женился, а про тетку и думать забыл, вспоминает раз в году. Отца она любила, и здорового и больного; кошку Маньку любила, последние куски ей отдавала, пока та не пропала: в окно, наверное, выпала, мух ловила. Были и мужчины в ее жизни, их тоже любила, без отдачи, без ответа, сердце просило — и любила. И Якова Ивановича тоже полюбит, будет холить, ласкать, угревать его последние дни.
— Уж как я тебя хвалила, Капочка, как хвалила, — хвастливо говорит Алка. — Женщина ты работящая, деревенскую работу понимаешь. И сготовить, и постирать, и хозяйство знаешь — и свиней, и курочек... И огород. Чего еще человеку нужно? И болеть ничем не болела, за три года на больничном один раз сидела, чирей под мышкой раздуло...
— Спасибо тебе, подруга дорогая, — растроганно говорит Капитолина. — Одна ты обо мне позаботилась. Эх, жизнь моя горемычная!
2
А жизнь у Капитолины действительно горемычная. Семь лет уже живет она в одной комнате с отцом-паралитиком. Семь лет он сам с постели не встает, слова не говорит, лежит без языка, мычит только. Сначала рука у него отнялась, потом нога, а потом и речи он лишился и стал умом словно ребенок.
Вот и сейчас лежит на постели за ширмочкой. Уехала дня на два Капитолина, так, слава богу, соседи обещались присмотреть.
Комната у Капитолины маленькая, но уютная: тюлевые воздушные занавески на окнах, новый диван, шифоньер, пол всегда блестит, под потолком лампа крученая, в три матовых колпака. Капитолина — баба совестливая, держит отца чисто, не обижает. Как придет с работы, с ложечки кормит, белье из-под него чуть не каждый день стирает. А все-таки устала она от этого, сил нет больше, и вся жизнь ей опостылела. Вкус к жизни она потеряла. Много с отцом навидалась она беды, но ведь не выбросишь на улицу — родной, свой...
И мужчин своих водила Капитолина прямо в комнату, на свою обширную, по-деревенски убранную кровать. Что ж тут хорошего? Отец сердится, мычит за ширмой, возмущается. Язык у него хоть онемел, но душа-то не онемела. Понимает это Капитолина. Конечно, если бы отец мог сказать дочери слово, Капитолина никогда не решилась бы на такое. А так помычит-помычит, да и замолкнет. Раньше-то она стыдилась, мучилась, плакала, отцу в глаза не глядела, а потом махнула рукой. Куда ж деваться? Таких, как отец, в больницу не берут, хронические они считаются. А ее кто осудит — женщина здоровая, природа и сердце требуют, без этого не проживешь. А отец, может, еще десять лет пролежит...
Ходил к ней монтер Гриша, тихий такой, ласковый парень. А потом жена его узнала, физиономию ему расцарапала, опозорила Капитолину на весь дом. Потом официант из их кафе, модный, норовистый Женька, так тот, пока Капитолина пол-литра не поставит, все нос воротил. Грузчик один из мебельного магазина, Павел Васильевич, тоже захаживал, но очень стеснялся. Не мог он мычания отца слышать и ходить перестал. Да и Алкин муж Мишка пытался подсыпаться, подлец он, гуляка, но Капитолина его выгнала. Вот и вся любовь в ее жизни. И ни один замуж не взял. Одни были женатые, сами уже имели семью, другим отец мешал. Кому нужен такой урод, неподвижный, безмолвный? Одна Капитолина жалеет его, хотя иногда в сердцах и подумает: «Хоть бы прибрался скорей. Здоровые, вон, умирают, а нежилец людей мучает». А потом страдает, ноги отца неподвижные гладит, страшные стариковские лиловые ноги.
У отца лицо бледное, словно мукой присыпано, в глазах серый туманец, — неживые уже глаза, а все с укором глядят, с гневом, просят чего-то. А волосы белые, редкие, пушистые, — хотя и больной, а чистый старичок, Капитолиниными руками прибранный, холеный. Невиноватый мучитель ее жизни.
Было и у нее когда-то короткое счастье. Был молодой, веснушчатый, ясноглазый. Была и она звонкая, ясная, со строгими глазами. Все с войной унеслось. Да и сколько таких баб, у которых счастье в земле лежит. Капа почти и не помнит его. Так давно это было, словно и не было вовсе...
3
— Я своего Мишку когда-нибудь пристукну, — ожесточенно говорит Алка. — Я ему счастья не дам. Если только про Ритку узнаю. Паскуда, пустеха! Подойду и обоих тяпну...
Глаза у Алки безутешные. Вон что от бабы осталось — плоские кости, несчастное лицо, злые, тоскливые глаза.
Электричка бежит мимо разноцветных лесов. Близко у окон проносятся словно горящие листья кленов. То взмывают, то опускаются провода с черными, нахохлившимися, еще не залетевшими птицами. Плывут нагие поля.
Рядом четверо мужчин забивают «козла»; смуглый носатый мальчик увлеченно читает книгу; девушка смеется чему-то; старуха спит с открытым ртом. Всюду тихие разговоры, смех, у всех свое — жизнь, жизнь...
Подружились Капитолина и Алка уже давно. Обе они работают в кафе «Яхонт» около одного, из вокзалов — Капитолина кассиршей, Алка буфетчицей. Еще в кафе — подавальщица Вера и посудомойка Рита. Кафе это от вокзального ресторана, а в ресторане работает шофером муж Алки Мишка.
Капитолина с Алкой подруги, а Вера — с Ритой. Хотя Рита сама по себе. После смены Вера и Рита еще учатся в вечерней школе и потому всегда хотят спать. Вера, худая, рыжая, долгоногая, только что вышла замуж и родила ребенка, и все разговоры ее только о ребенке, молоке и пеленках.
Алка и Вера чуть что орут и на посетителей и друг на друга, беспокойные они, нервные. И Капитолине приходится их утихомиривать; а Рита — вялая, сонная, с черной челкой над подведенными тушью модными глазами, молчит и только лениво и медленно улыбается. Халаты на трех женщинах всегда чистые, хорошо подогнанные, а на Рите — халат грязный, рукава неровно засучены, из-под косынки выбивается длинная черная прядь, и движения у нее сонные, неловкие. Алка ее терпеть не может.
— Эй ты, распустеха, опять спишь? — кричит она Рите. — Космы подбери, нечего их в тарелке топить. У тебя здесь люди, а не свиньи едят. Им твой волос есть неинтересно.
Рита никогда ей не отвечает.
Сама Алка — быстрая, ловкая, цепкая, все в ее руках так и горит. Кожа на лице Алки еще молодая, но уже тронута у глаз и вокруг сухих губ ломкими морщинками. Алка красива, и на нее часто заглядываются посетители, но она на всех глядит брезгливо, никому не улыбнется приветливо, всем, словно делая одолжение, швыряет на тарелки бутерброды, резко пододвигает по стойке рюмки.
Тонкие, опасные губы ее всегда поджаты, в серых с прозеленью глазах — злое уныние. И все потому, что муж Алкин Мишка душу из нее выпил. Все силы тратит она на то, чтобы ревновать Мишку, бегать за ним, стыдить его, нервы свои бередить. Совсем душу баба потеряла....
Сколько скандалов учиняла она официанткам из ресторана, унижалась, грозила... Боялись ее девчата и смеялись над ней за глаза: «Дура сумасшедшая, чего дерет горло, разве такого кобеля за хвост удержишь?» А у Алки чуть что — глаза становились зелеными, как у волчицы, что хочешь могла она сделать, тарелку с супом надеть на голову, в волосы вцепиться, обозвать как попало человека.
Стерегла Алка свое счастье да так и не устерегла. Мишка многим бабам и девкам был хорош. Высокий, сильный, мордастый, с наглыми синими глазами, с цапучими руками, с ласковой и жестокой усмешкой. Алка и половины не знала обо всех его похождениях, обо всех Мишкиных проделках.
Мишка тоже боится Алки, ее скандалов, при ней ходит по струночке, а лишь с глаз долой — и завьет хвост веревочкой.
Однажды даже к Капитолине домой заявился. В меховой шапке, пальто шершавое, в узеньких ботиночках, глаза синие, наглые. Вошел в комнату, стоит и воздух нюхает.
— Это у тебя так старикан надушился? Да ему ж в могилу пора... — И нагло так щурится.
А в комнате и правда гвоздикой пахнет. Это Капитолина каждый день постель отца одеколоном «Гвоздика» брызгает, чтобы дух от него не шел тяжелый.
— Тебе что здесь надо? — строго спросила Капитолина. — Зачем явился?
А Мишка сморщился.
— Пожалейте меня, Капитолина Андреевна. Только вы одна можете меня понять...
— У тебя жена есть, — сухо сказала Капитолина. — Пусть она тебя и жалеет.
— А меня злая жена заела. Пилой пилит. Надоела мне пила эта.
Единственным был Мишка, кого не пожалела Капитолина. Душа у него подлая, бесстыжая. И за что только его Алка любит? Нет, не виновата перед ней ни в чем Капитолина. Ведь подруги они...
Теперь Мишка ходит вокруг Риты, облизывается, как большой, жадный кот. Но, видно, не добился он ничего, — смотрит на него Рита презрительными и испуганными глазами сквозь черную челку и еще чаще роняет тарелки, путает заказы.
— У-у, змея, распустёха! — цедит Алка, и щеки ее смутно и опасно бледнеют. — Я тебе покажу чужого мужика привораживать. Ишь, юбку до пупа носит... Я тебе жизнь-то окорочу!
А Рита пугается, прячет робкие глаза под челку, отходит, поводя сонной спиной.
— Ну, чего ты к ней пристала? — стыдила Алку Вера. — Нужен всем твой Мишка! Я его и задаром не возьму. А Рита — порядочная девушка, она книжки читает...
— И чего ты на всех злишься? — удивлялась Капитолина. — Сама из себя кровь пьешь. На злобе́ не проживешь.
Но Капитолина жалела Алку. Говорили, что раньше Алка была не такая, — видно, смолола ее жизнь. Бывает так, что любовь человека к ногтю гнет.
Совсем с Капитолиной они разные. Алка все топорщится, все верх надо всеми хочет взять, всех жить учит: «Я бы так не сделала, я бы так не поступила...»
Удивляются в кафе девчата. «Ну чего она нас жить учит? Устроила бы сама свой шесток — да не может...»
Хваткая баба Алка, на деньги хваткая, если что к ладони прилипло — не отдерешь, а вот Мишку не ухватила...
А уж как она его ловила. Сначала — домом, барахлом, уютом, потом беременностью своей, потом дочкой.
— А уж как мы папочку нашего любим, — слащавым голосом пела Алка и подносила сопливую, замурзанную, плаксивую Ленку к наглой Мишкиной морде.
Мишка отмахивался равнодушно. А Алка все его ловила, даже на работу дочку приносила. Нужен ей ребенок — только для Мишкиной приманки.
Капитолина жалела Алку. Знает Капитолина, как мало на свете бабьего счастья. Дунь — улетит... Где оно, Алкино счастье?
4
— Детишек я люблю, — мечтательно говорит Капитолина. — Так бы их и съела. Если б не отец больной, я бы из детдома взяла девочку. Очень мне дитя в дом хочется...
— Вот еще! — фыркает Алка. — Не было у бабы хлопот, так купила баба порося... — И добавляет равнодушно: — Наплачешься с ними, горшки да пеленки, минутки свободной нет...
И глаза у нее — трезвые, бездетные.
А в Капитолине бушует неутоленное материнство. Даже всех мужиков своих любила она матерински, всех утешала, жалела.
Но с детишками опять ей не судьба. У Капитолины фиброма, врач говорит — нужна операция, рожать ей нельзя.
— Э-эх, — тяжко вздыхает Капитолина, — отрожалась я, не рожаючи, все аборты делала. А теперь здоровье не позволяет да и возраст...
— Да куда уж вам детей! — говорит Алка. — Дядя Яков уже тоже старый...
Представляет себе Капитолина Алкину дочь Ленку. Как выбежит девочка из дома к ней навстречу, захлебнется смехом, уткнется с размаху в колени мордашкой. Знает Капитолина, что будет тискать ее в руках, ласкать — теплую, косенькую, милую (некрасивая у Алки дочка, очки от косоглазия носит), будет чувствовать родную тяжесть плотного детского тельца, а та будет слабо отбиваться и повизгивать от восторга в крепких Капитолининых руках, — и сердце Капитолины заранее радостью обмирает.
Жалко Капитолине Ленку. Конечно, любит Алка дочку, платьишки ее стирает, всовывает кусочки получше, но часто раздражается на девчонку, срывает на ней зло после ссор с Мишкой. Словно не мать она ей, а мачеха. А сама за Мишкой гонится. Прилепилась она к Мишке сильнее, чем к родному дитю. И все она на жизнь сердится. А вот Капитолина не растеряла свою душу, сохранила ее для добра и покоя.
«Не такая уж у меня плохая жизнь, — неожиданно хмелея от счастья, думает Капитолина. — Может, еще будет и на моей улице праздник...»
Электричка мерно подрагивает. В вагоне тепло и уютно, слышится тихий говор. За окном, уже плохо различимые, проносятся вечерние поля. Пронзительно и печально кричит электричка.
5
А у ворот своего сада стоит одноногий инвалид Яков Иванович, упирается в землю усталой деревяшкой.
Слышит и он печальный гудок электрички. Одинокими, едкими глазами смотрит в еще светлое небо над темным лесом, видит шевелящуюся от ветра крону садовой сосны, а над сосною наливающуюся светом, отчетливо ясную первую звезду.
О чем думает он? Лицо его темно и сурово и не предвещает Капитолине легкого счастья.
Он и не побрился даже к приезду «невесты», и пиджак на нем старый. Пусть увидит чужая женщина, каков он есть. Зачем согласился он на этот сговор? Конечно, племянница Алка права, хоть и суетливая бабенка: хозяйство пришло в упадок, одному не поднять, все пропадет, что сколачивал всю жизнь, к чему возвращался от войны, от болезней, из чужих стран, где топал солдатом. Кто же знал, что судьба так обернется, возьмет у него жену до срока? Все здесь полито и ее по́том, освещено ее бесцветной, тихой улыбкой. Только для нее и жила в сердце Якова Ивановича нежность. Сына не понимал он, чуждался. Сын — моряк с подводной лодки — отрезанный ломоть, приедет раз в пять лет, и поговорить с ним не о чем. У сына своя далекая, морская жизнь, дети, семья.
Зачем, зачем согласился он? Чужая женщина заранее вызывает в нем непонятный холодок раздражения. Все Алка, востроглазая, егоза, уговорила... Мол, кому он нужен — больной, желтый, молчаливый, рта лишний раз не разнимет, смотрит как волк из-под насупленных бровей. Да, тяжко Якову Ивановичу, а все же нового сердце не принимает. На карточке у «невесты» лицо прочное, такая зряшнего шума не поднимет. А все же...
Стоит Яков Иванович под сосной, и одинокий ветер шевелит его редкие седые волосы. Уже совсем близко, на станции, кричит электричка.
6
А ночью, лежа в чужом доме рядом с чужим человеком, Капитолина гладила его по небритой щеке и шептала скорбно:
— Ничего, Яков Иванович, уживемся... Оба мы сучки́ отломанные, кто же виноват, что жизнь наша не зауродилась?
Встреча прошла у них по-простому. Встретил их инвалид у сосны, оглядел невесту угрюмыми и скучными глазами, и поначалу нельзя было понять, понравилась ли ему Капитолина. Но к концу вечера растопила она его, развеяла певучим своим голосом, скромными, душевными словами, мягкими, округлыми движениями крепкого большого тела. Угрюмый сидел Яков Иванович, и чувствовала Капитолина его каменную неподатливость и непростоту, опаску в его едких, затравленных каких-то глазах, но хотелось, ей, чтобы не устоял он против нее.
«Господи, какой лядащий, темный да сердитый, — глядя на желтое лицо Якова Ивановича, думала Капитолина. — Недаром Алка говорила — молчальник, рта не разнимет... Такие ли мужики меня любили? Но уж я его раскачаю, я его раскручу...»
И такой скромной хозяйкой повела она себя, так уютно и по-хозяйски двигались ее белые ловкие руки, раскладывая по тарелкам привезенную из Москвы колбасу, сардины, бычки в томате («Даровая закуска, государственная... с нашей кухни», — гордо сообщила дяде Алка), что Яков Иванович хоть и молчал все время, но присмирел к концу вечера и помягчел взглядом.
Щеки Капитолины разгорелись, и смотрела она на Якова Ивановича мягко и просто синими своими, зовущими, бабьими глазами. Где уже видел он такие глаза? Да у жены Маши такие же были — синие, откровенные и простые.
Но поначалу рассердил Яков Иванович Алку хмурым своим, недовольным видом.
— Ты что это, дядя, словно и не рад нам? — дерзко спросила Алка, и глаза ее опасно позеленели. — Сам же позвал... А теперь что же, от ворот поворот?
— Что вы, что вы, гостьи дорогие! — забормотал Яков Иванович сконфуженно. — За столом располагайтесь да и дом вот поглядите...
— А мы по-простому, — певуче сказала Капитолина, глядя на Якова Ивановича. — Поглядим друг на друга да и разойдемся, коли не понравимся...
— Дом-то покажи, племянница, — пробормотал Яков Иванович.
Дом у Якова Ивановича был добротный, с застекленной летней терраской, с высокими, просторными сенями, в комнатах крашеные полы, но всюду пыль и запустение. На терраске стояли лопаты с присохшей землей и были навалом навалены пыльные газеты, в сенях на скамье валялось опрокинутое дырявое ведро, на вешалке лепились одно к одному заношенные ватники и пальто. В комнатах было нечисто и пахло одиночеством старого мужчины. Под подоконником почему-то лежали изъеденные молью валенки.
«Запущенной жизни человек», — печально подумала Капитолина.
Она исподтишка оглядела весь дом, прикидывая, найдется ли в нем место для отца, но места было много, дом просторный.
А за окном стояла густая, осенняя темень и шумел ветер. На окна словно плеснули чем-то жирным и черным, и зыбко отражался свет унылой электрической лампочки в стеклянных оконных потемках.
И оттого, что ветер шумел не по-городскому, а по-деревенски вольно и тревожно, и стонали под этим ветром деревья, скрипели ставни, — на душе у Капитолины было сладко и томно. Почему-то вспомнила она свое детство, далекое как во сне, деревню еще до войны, молодых отца с матерью. И стеснительного грузчика Павла Васильевича, который единственный был добр к ней, вспомнила она, и сердце ее тоже было добрым в этот миг.
Темная ночь сочилась в окна, проникала в комнату с крашеными полами, с серыми обоями. В доме было тепло, стоял острый закусочный запах и пахло спиртом. На столе в тарелках неопрятно краснели остатки бычков в томате, блестела в рюмках водка.
Яков Иванович сидел боком, сгорбившись, словно прислушиваясь в себе к чему-то, и говорил редко, обдумывая слова. Взглядывая на него, Капитолина думала, что не такого ожидала встретить она человека, но жалела его. Яков Иванович, желтолицый, с темными губами, был похож на заезженную лошадь.
«Видно, отшагал он уже свое в жизни, — с жалостью думала Капитолина. Каково-то будет тащиться с ним в одной упряжке? Но я сильная...»
Она старалась разговорить инвалида.
— Хорошо-то у вас как, Яков Иванович, — певуче говорила она. — Я деревенскую жизнь люблю... В городе-то так и не привыкла, суматошный он, гомонливый... А здесь сад, птички поют, землей пахнет, сладко так...
— Да, хорошо, — медленно и словно нехотя, трезво соглашался Яков Иванович. — Клубники у меня сорок грядок, смородины двадцать кустов, яблоньки есть, картошку, морковь, лук сажаю сам... Хозяйство немалое, кто понимает...
— Да, хозяйство прочное, — соглашалась Капитолина. — Руки да руки к нему...
— А как же здоровье папаши вашего? — вежливо поинтересовался Яков Иванович. — Лежит старичок?
— Какое у него здоровье? — отвечала Капитолина. — Сам себе в тягость. Но хороший старичок. Молчит и никому не помеха...
Алка слушала их разговоры, их осторожные подходы друг к другу, и, видно, надоело ей это. Сухие скулы ее горели, губы сложились в брезгливую складку, и, высоко подняв рюмку, она сказала, словно припечатала:
— Ну, хватит вам вокруг да около ходить, словно вы молоденькие какие... Хватайтесь друг за дружку — и все! Дядя Яков, был у нас уговор?
— Был, — сказал Яков Иванович.
— Ну и все! Выпьем за новое счастье! Чтоб было, как у нас с Мишкой!
Она сердито смотрела на Якова Ивановича, и глаза ее обиженно сверкали.
— Ну что ж... так тому и быть, — медленно сказал Яков Иванович. Он поднял рюмку и чокнулся с Капитолиной, расплескав водку. — За невестушку дорогую!
«Господи, мелкий-то какой против меня, словно воробей седой», — с непонятной ей самой болью подумала Капитолина и накрыла темную руку Якова Ивановича своей теплой белой рукой.
— Ничего, Яков Иванович... Обвыкнем, — мягко сказала она. — Ты меня не смущайся, голубок, я женщина простая, домашняя... Я любую жаль пойму. По-доброму будем жить.
...Яков Иванович лежал в большой мягкой постели, где полвека проспал со своею женой, чувствовал рядом чужое дородное тело и ласковые пальцы на своем лице, слышал теплый, жизненный голос и тяжко думал: «Прости меня, Маша».
— Мы по-доброму будем жить, — шептала женщина.
А он вспоминал жену свою, до срока отцветшую, рыхлую, со слинявшими голубыми глазами, с налитыми водянкой в последний год, больными, тяжелыми ногами, жену, родную навеки, прожившую рядом с ним всю его трудную жизнь, и тяжко просил у нее прощения.
А рядом о чем-то плакала женщина в темноте, и в слезах ее были надежда и утешение.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
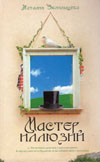
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





