ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

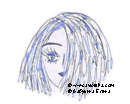

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Руднева Любовь 1968

Шли мы вверх с площади к Ильинским воротам. Топали по булыжной мостовой, искоса поглядывая на седую от старости китайгородскую стену.
Мимо нас гулко проезжали пролетки. В весеннем вечернем воздухе рассыпалась суховатая дробь барабана.
Влажно цокали копыта лошадей, нас обгоняли верховые милиционеры. Как и мы, готовились они к параду.
А издали, с улицы Солянки, доносилась песня другого отряда. Запевал высокий мальчишеский голос:
То ли Сокольники, то ли Хамовники,
Издали не видно, а только пыль видна.
И подхватывало много голосов:
Лейся, песнь моя, пионерская...
Выполним заветы, заветы Ильича!
А рядом широко шагает в куртке, перешитой из френча, Витя Антонов.
Хорошо идет, свободно и в ногу с нами.
Куртка на груди приоткрыта, на белой рубахе с мягким отложным воротничком повязан пионерский галстук. Такой же, как на мне, на барабанщике — толстогубом Вадьке, на вожатом первого звена — тоненьком, темноглазом Гоге.
Отдаляется песня. Я люблю, когда уж никого будто и нет, а песня еще догоняет тебя. Она пробивается через звонки и погромыхивание трамваев, стук пролеток, выкрики извозчиков, продавцов папирос и вихрастых газетчиков.
У тротуаров после весеннего дождя образовались канавки. На улице пахнет навозом, сеном, и откуда-то накатывают запахи растормошенного поля. Уже совсем скоро и мы отправимся в деревню. Витя обещал:
— Жить будем, как красноармейцы, в палатках. Поставим мачту, поднимем флаг. Будем его охранять. Утром заиграет горнист...
— Запевай, Катя, — говорит неожиданно Витя Антонов.
Мы еще не в лагере — на московской улице. Теперь Витя рядом со мной, он укорачивает шаг, улыбается — рот у него крупный, пухлый, глаза зеленоватые — полевые...
Наверное, потому, что мне не отпущено много росту, голос у меня сильный:
Ты, моряк, красив сам собою,
Тебе от роду двадцать лет...
Мы лихо растягиваем песню про любовь моряка и Маруси. Песня веселая, хоть в ней и плачет Маруся: моряк, уезжая в синь-море, расстается с ней, чтоб научиться морскому делу.
Больше всего нам нравится выкрикивать, подбрасывая куда-то вверх, припев:
По морям, по волнам,
Нынче здесь, завтра там...
Под нами уже не булыжная мостовая, а синее море. И полевой ветер, мчащийся по апрелю над бульварами и переулками Москвы, кажется сильным, морским и солоноватым...
Конечно, «нынче здесь, а завтра там» ветру понятно, а нам за этими словами слышатся обещания будущих странствий и перемен.
Я пою. Громко поет стриженная под челку Нюра Ревякина. И Витя поет — широкие ноздри его прямого, чуть приплюснутого носа вздрагивают. Он озорно скашивает свой зеленоватый глаз, и мне чудится, что «красив сам собою» Витя Антонов и песня сложена про него.
На нас и удержу нет. Заворачиваем в узенькую Никольскую улицу, минуем прилепившуюся изнутри к белой стене небольшую церковку и швыряем в спины богомольцам: «Долой, долой монахов. Долой, долой попов. На небо мы залезем. Разгоним всех богов...»
Небо, где живут боги, представляется мне длинным, пыльным чердаком, на котором у нас в стареньком доме в Рахмановском переулке очень часто спят беспризорники, бродяги, безработные. «Горькие люди», — говорит про них мама.
А Витя Антонов даже на сборе рассказывал про беды, принесенные войной:
— Разве все сразу отстроишь, восстановишь? Столько переломано, покалечено, вот потому разная у всех жизнь.
Я слушаю Витю и даже ему не говорю, какая она разная.
Мне всегда хочется есть.
И после школы, иногда даже ночью, я набиваю гильзы табаком. Очень осторожно вставляю железный цилиндрик в гильзу и стальным наконечником проталкиваю табак. Уже на двадцатой папиросе немного дрожат руки и кружится голова.
Мама берет в артели работу на дом, я помогаю ей, потому в субботу на столе белая скатерть и пахнущий праздником хлебец. А разорванные гильзы я не выбрасываю, прячу. И вместе с просыпавшимся на пол табаком отношу моему приятелю.
Он живет в асфальтовом котле на углу Петровки, маленький Сверчок. Мы почти не разговариваем. И я против того, что он курит. Но не могу смотреть, как собирает он окурки, и отдаю ему испорченные папиросы. Об этом я тоже никому не рассказываю.
В праздники я вместе со своим звеном брожу с закрытой кружкой и продаю марки «Друг детей». И кажется мне, что я возвожу крышу дома, куда переберется чумазый, всегда огрызающийся Сверчок.
Иногда дома, глядя на седеющую голову мамы, я бормочу слова Вити: «Все сразу не утрясешь, но мы обязательно...»
Сам Витя был на долгой войне — гражданской, далеко на Севере.
Зимой на сборы он приходит в шинели и фуражке, в них он выглядит выше и старше. Шинель он вешал на гвоздик, при входе в красный уголок. Иногда я нетерпеливо дергала шинель за рукав, тянула за полу. Хотела, чтобы шинель сама что-нибудь рассказала, как мотался Витя по белу свету. Я уже знала от него, что тот свет, где воевал он, весь завален сыпучим снегом.
В той стороне снег тянулся и тянулся без конца и без края. Слепил людей.
А через холодные моря — Баренцево, Белое — к нам пробирались чужеземцы: американцы, англичане. Они хотели отобрать лес, зверей с красивым мехом, рыбу и большие корабли, — Витя помешал им воровать. Об этом он иногда говорил, но не так подробно, как мне хотелось.
— Зачем про войну, Катюш, — отвечал Витя, когда я приставала: «Расскажи да расскажи», — штука она тяжелая. Успеется.
Но шинель кое-что мне рассказала. На спине, у лопатки, я рассмотрела штопку — густую-густую.
— След американской пули, — шепотом объяснял Гога, увидев, как я вожу пальцем по этой штопке. — А зашито по-солдатски, чисто. Мой папа тоже так умеет.
На левом рукаве заштукована была нитками цвета вялой травы «рваная штыковая рана»...
И на щеке у Вити бежала от губ к виску легкая рубчатая лесенка... Гога, почувствовав ко мне доверие, по секрету сказал:
— Чиркнула сабля беляка.
Поэтому, когда Витя улыбался, нижняя, полная губа его немножко кривилась.
Мы вернулись с прогулки и с грохотом, перепрыгивая через ступеньки, спустились в свой уголок. За темным силуэтом знакомого человека с большим лбом высвечивало красным наше знамя. Тут самый главный мой добрый дом.
Если кто-нибудь и подшучивал над моей лохматой головой, Витя приглаживал мои вихры:
— Смотри, Кать, тебя любит солнышко.
И никому уже не хотелось дразнить меня за бронзовый отлив волос и яростные веснушки на переносице.
В апрельский вечер мы исповедались Вите, что хоть и не признаем пасху, но после вынужденного поста трудно удержаться, если на столе появляются куличи и крашеные яйца: зеленые, оранжевые, желтые.
А Нюрка Ревякина, пошептавшись со мной, громко сказала:
— Бабка меня побьет, если я ночью не пойду с ней в церковь, пасху встречать.
Я еще подумала: Нюрке везет. Ее бьют только для праздника, а меня брат потому, что я пионерка и быстро все запоминаю в школе, а он хоть большой, но туповатый. Зубрила. Учит все уроки вслух, а мне они даются с лету. Еще не зная, что такое теорема, я уже повторяла ее формулу. Иногда он, не заглядывая в учебник, спрашивал меня, когда какая война была. А потом утягивал все, что тайком выкраивала для меня мама, съедал и снова дрался.
Но эту тайну, самую тягостную и, как думала я, позорную, скрывала ото всех. Только Витя, задумчиво разглядывая синяки, покрывавшие мои ноги и руки, догадался обо всем.
Теперь Витя развернул перед нами план нашего района и сказал:
— Завтра, поздно вечером, мы проведем военную игру. Родителям я написал, предупредил их: пионеры не могут святить кулич и стоять в церкви всенощную. Один раз уступишь плохому, оно влезет тебе на плечи.
Назавтра у верующих была пасха, у нас военная игра. Конечно, все началось песней, и, сидя рядом с Нюрой Ревякиной и взрослым Гогой, я пела про Красную Армию.
На этот сбор Гога пришел в отцовском шлеме с малиновой звездой. Черные глаза Гоги посверкивали. А я чувствовала себя за каменной стеной — никаких огорчений и быть не может, раз все за одного, один за всех.
Говорить про это не надо, но петь обязательно. Все, все тогда перекатывается из души в душу.
У Нюрки горят щеки, а я кажусь себе очень высокой, большой.
Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
Витя нам уже рассказывал про черного барона Врангеля, совсем еще недавно он отбирал у нас Крым. А мы сбросили его в море.
— Нам хвастаться не пристало, большевикам, — заметил Витя. — Но потому мы сильнее всех до британских морей, что даже я совсем еще молоденьким пареньком, вроде Гоги нашего, из Ярославского паровозного депо ушел с маршевой ротой на самый Крайний Север. Прогнали мы англичан и всяких американцев, залезших на нашу землю, — они ж избивали разутых и раздетых людей.
Мы поняли: красноармеец Витя Антонов даже подростком был сильнее тепло обутого и сытого англичанина или американца.
И мы уверенно пели, а у меня мурашки холодили шею.
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
Так все должны мы неудержимо
Идти в последний, смертный бой!..
И пока Гога в своем шлеме с шишечкой наверху разбивал нас на два стана —красных и белых, я подошла к Вите Антонову, склонившемуся над столом.
Витина рука хозяйничала в переулках и улицах, нанесенных на план, карандашные стрелы летели наперегонки.
Я спросила тихо, немножко непослушным голосом:
— Вить, а ты ходил в последний, смертный бой?
Он оторвался от карты, разогнул спину, поднял свою русую голову. Волосы у него были гладко зачесаны наверх, и только от одной выбившейся седой прядки падала тень на лоб:
— Ходил, Кать.
А меня окликала Нюрка. Оказывается, мы с ней угодили в белых и она уже успела поплакать, нос у нее раздулся и покраснел. Я потащила ее к Гоге и сказала:
— Сам ты можешь проваливать в белые. Нюрка не из тех, и я... Вон Носкова, она сплетница, подходит. А ты? Тебе все смешно, вот и иди.
— Я? Даже в шутку не могу. Понимаешь, мой дядя, мой дорогой дядя был бакинским комиссаром. Его в песках расстреляли англичане.
— Ты врешь! — закричала я. — Я знаю, где были англичане. Они на севере, на севере...
— Глупая, — ответил Гога. — Они были и в Баку, и в песках, за Красноводском...
Витя собрал нас всех: тех, кто спорил в коридорчике, на лестнице, по углам комнаты. Он сказал:
— Конечно, игра — дело серьезное, но так ссориться не стоит...
И все-таки я стала красным разведчиком. Витя подул мне в лицо:
— Ну вот. Я и наколдовал: разлетелись веснушки. Никто тебя и в лицо не узнает, красный дьяволенок.
Я одним махом выскочила наверх, пересекла улицу, вбежала в переулок напротив. Я выслеживала, где прячут свой штаб «беляки», на каких углах расставляют свои дозоры.
Около проходного двора меня остановил командир красной разведки Вовка Лепов. Пригибая голову к моему уху, он прошептал:
— Прячься за спинами прохожих. Проберись на территорию врага: сосчитай, сколько белых типов на стреме. Все они с белыми шнурками на рукавах, но уже пустились на обман: у некоторых только нитки — в темноте их трудно разглядеть. Найдешь меня на площади у Лобного места. Они туда не догадаются притопать...
Ого, игра переходила на любимую нашу площадь!
Мы привыкли к ней — большой. Ее башням, собору. По-свойски называли его Васька Блаженный, хотя он был старше нас века на четыре, и, грешным делом, один на один я его побаивалась. Мне чудилось, что в Блаженном прячется Иван Грозный со своим страшным посохом.
Но все-таки площадь, на углу которой жил наш отряд в своем уютном подвале, казалась нам личной нашей площадью. И только в дни праздников и печальных торжеств она принадлежала всем.
Теперь, когда я кралась проходным двором, а потом по переулку, все менялось вокруг меня и во мне. И были на самом деле: разведка и опасность.
Я заметила, как неровно, зигзагом, расположены дома, — большие и каменные, они выставляли свои колени. Я стремглав летела мимо освещенных окон с открытыми форточками. Из них тянуло запахом сдобы, горячего хлеба, копчений.
И снова в тень выступа. Мимо меня прошел крадучись вожак белых Коля Сидоренко. До чего же он стал противный, шакалистый. Я заметила это еще в красном уголке. Даже его друг Гога, как только «белые» потянулись к выходу, перестал с Колей говорить, не шутил.
Увидев Сидоренко, я спряталась за старухой, у нее была широкая спина.
Я нашла у Лобного места Лепова и, сдав рапорт, снова помчалась в стан «белых». Игра шла до поздней ночи.
Уже вовсю гудели колокола. Низко у Пречистенских ворот — храм Христа-спасителя. Отвечали ему церкви со Звонарского переулка, от Сретенских ворот, с Кузнецкого моста, Столешникова.
Ребята узнавали колокольный голос какой-нибудь церквушки, той, что стояла по соседству с их домом.
Светилась часовня у ворот, ведущих на Красную площадь, — Иверская. Из церкви выходили темные фигурки, и издали видно было белесоватое крохотное свечение вкруг юлящих огоньков.
Зажженные свечи, запах ладана тревожили. Уж очень много было темных душ, коптящих большое московское небо.
Меня вдруг наповал убил «белый» разведчик Фонька Черныш, стукнув меня ребром ладошки не по руке, как полагалось, а по шее. Я расстроилась и, сильно оцарапав ему руку, бросилась в красный уголок, чтобы спросить Витю:
— Почему, почему люди верят в ничего?
— Это просто жуть, как пахнет религией, — захлебывалась Нюра. — Из-за этого я прохлопала двух беляков: засмотрелась на свечки.
— Ты их задувала, — сказал с укоризной Гога. — Теперь сидите тут и носа не показывайте. Вы убитые.
Но пасху мы «опрокинули». Никто из ребят не пошел в церковь. Игра продолжалась.
Уже вторую неделю жили мы в лагере. На пригорке, близ березовой рощи. Рано утром, по росе, босиком, бежала я к речушке. Пока я не собиралась ее переплыть, она казалась мне пустяковой.
Я осторожно босой ногой скидывала маленькие камушки в реку и смотрела на правильный круг, место падения камня, запущенного рукой. Слушала приветствие птички, прятавшейся в густом ивняке.
Но речушка превращалась в реку, едва я решалась ступить в нее. Держась за ветви разросшейся плакучей ивы, я судорожно била ногами по воде. Я не могла и не хотела признаться даже себе, что боюсь воды, боюсь отпустить хрупкие лапки дерева. Но ива научить меня не могла.
Чем больше я боялась, тем нетерпеливее хотелось плыть. Вода была рыжеватой, что-то таила от меня. Я отпустила ветки, ушла с головой под воду. Мне показалось — я головастик. Судорожно рванула руками и... приподнялась над водой.
Меня вытащил Витя Антонов. Он нес меня на одной руке, отжимал мои волосы, положил на свою рубаху и растер крепко-накрепко своим полотенцем — большим и мягким.
Дал мне отдышаться, потом, присев рядом на корточки, сказал:
— Какой же ты разведчик, Кать? Не замечала — мы каждое утро вместе бегали на реку.
Я увидела: руки у Вити посинели и чуть вспухли.
— Что ты? — спросила я испуганно.
— Обморожены. Вода утречком прохладная, вот они и пугаются, руки.
— Это все там? — спросила я. —На том Севере?
— На том самом.
Он никому не рассказал, как я бултыхалась у ивняка, и даже уверил меня, что я поплыла, и очень удачно. Назавтра я уже держалась на воде, плавала «по-собачьи», яростно колотя ногами и руками.
А еще через день мы собрались в поход. Едва Гога засомневался, брать ли такую маленькую, Витя ему возразил:
— Катя у нас выносливая, ходок!
Самый нетерпеливый, Гриша Монастырский, и въедливый до мелочей Лепов ушли накануне в разведку и составили хоть и простенькую, но все-таки настоящую топографическую карту. Я снимала копию с нее.
На карте елочка или березка, забранная в прямоугольник, обозначала лес, кружочек с точкой — колодец, крестик — церковь, штриховка с травинками — болото.
Витя помогал нам сверяться с картой, как только мы повернули с проселочной дороги. Счастливчику Гоге он отдал компас.
Сперва мы горланили песни, а потом заметили: еще лучше помолчать. Дули разные ветерки, Гриша улавливал их направление, а мне вот нравилось, что полевой ветер вовсе не похож на лесной или луговой. Каждый оставлял во рту свою сладость или горечь: то тек в ноздри мед, то что-то мятное или перехватывало горло полынью...
К вечеру мы приустали и обрадовались роще, но совсем рядом оказалось торфяное болото. В закатном светящемся воздухе болото отливало красновато-бурым, кустики из него вылезали проржавленные.
Хотелось в роще устроить привал, но мы, сверясь с картой, взяли чуть в сторону и ушли от болота, чтоб переночевать или в поле — в копнах, или в лесу.
Едва вошли в перелесок, неожиданно встретили знакомого, чуть хмельного, всегда чему-то подмигивающего светлым глазом Савелия.
— Соседи! — сказал Савелий хрипловатым голосом, подмигнув не то мне, не то Нюрке, а может, тоненькой осине.
Он снял картуз и провел большим пальцем по пробору, будто хотел увериться, что ветер не забрался под картуз и не переворошил его густые каштановые волосы.
— Вы тут потише, а то бряк в болото. Кто ж в нашей коммунии будет помогать на огороде, а?
Он увидел, что сапоги его запылились, и, наклонясь, рукавом рубахи смахнул пыль... Выпрямился и снова подмигнул:
— Так как же? Уговору лезть в болото не было? Не было. Помощники вы мне иль нет?
А-мы и правда через день до ломоты в спине помогали в маленьком хозяйстве ближнего села. Савелий нас поил молоком, учил уважать огурец и свеклу. И привел к нам свою смешливую жену.
Она пела у костра высоким, птичьим голосом: «Аржак был парень бравый, умел фасон держать». И нам нравилась прыскающая от каждого мужниного слова Груня и ее песня про честного хулигана.
— У меня была смычка, тут в селе. А вас что понесло? — полюбопытствовал Савелий.
И он вместе с Витей увел нас подальше от болота, над которым — это было видно через просветы между кустами — поднимался туман-дымок.
— Болото щадить не любит, — настаивал Савелий, хотя с ним никто и не спорил.
Потом он с нами простился и, сняв картуз, долго тряс руку Вите, хотел пожать и Гоге, но тот сказал убежденно:
— Рукопожатия отменяются.
Савелий ушел. Ночевали мы в лесу на прогалинке. Витя со старшими ребятами расчистил площадку. Они развернули пять скаток-одеял, что несли на себе, под одеяла положили ветки ели.
Гриша Монастырский потащил нас собирать сучья, сухостой. Он переаукал весь лес, боясь потерять нас. Ловко разложил ветки — костер вспыхнул сильно, в его отсветах заулыбались деревья, наверное подумав, что снова вернулась заря.
Гриша вытянулся на одеяле, затекшие ноги положил на рюкзак. Голова его оказалась ниже ног.
— А вот — как на фронте? Сколько пройдешь за день... Ведь несколько дней подряд приходится шагать!
Кто ж, кроме Вити, мог ответить этому пареньку с лицом цыгана — смуглым, жарким?!
— Главное — ноги уберечь, — усталым голосом вторил ему Гога. — Но, если идти и идти долго, все равно натрешь. — Гога разувался, сидя спиной к костру.
Так мало-помалу мы навели Витю на воспоминания.
Сидели мы у костра, и он принимал участие в разговоре, то потрескивала сухая ветка, взрываясь и сгорая, то шипел уголек, на который плюнул чайник.
Тянула я из кружки кипяток, и представлялось мне синеватое, снежное бездорожье, холод.
Будто сами мы, а не только красноармеец Витя Антонов, шагали от Северной Двины к старинному северному городу Шенкурску, что стоит на ее притоке — Ваге.
В том городе жили, спали на постелях, ели горячее и сытное, холили свое новенькое английско-американское оружие тысячи наезжих из-за океана, а с ними белые и кулаки...
Ели они много, спали в тепле, а Витя и спал на ходу, шагал по снежной целине необогретым, снился ему горячий хлеб и чаек.
Двести пятьдесят верст шел по снегу. По грудь проваливался в белое, холодное. Метели в лицо кидали иглы, перехватывало дыхание.
Одет был кое-как — душа вымерзала. Но именно она, невидимая, тащила Витю, красноармейцев от села Кодема к далекому Шенкурску.
Американцы, беляки не ожидали, что по непроходимым местам двинется колонна.
Красноармейцы несли обмороженных и тянули тяжелую пушку. Орудие тащили на салазках, иногда волоком, расчищая перед ним дорогу.
Готовились ударить по контре, нагнать страху — изнутри безмолвицы выстрелить по Шенкурску.
К городу подходили, кто надел наверх исподнее — белые порты, нательные рубахи, кто халат имел, другие простыней замотались: маскировка!
Шли к Шенкурску тремя колоннами. Тринадцатого января девятнадцатого года получили приказ — к ночи двадцать пятого января дошли.
Я смотрела на Витю. Он сидел на пеньке, вертел в руках ветку клена.
Я подумала: в той лесной стороне время, наверное, было совсем другим, чем тут у нас — в тепле, у костра.
Долгим оно было, холодным — днем, ледяным — ночью.
И тяжело недоспавшему, голодному нести на плечах носилки с обмороженным другом; тогда у Вити и потемнели от мороза руки.
Но Витя вдруг рассмеялся:
— И недавно это было, и давно. Прошло всего несколько лет, ну, семь, — много ль?! Помню, послали мои дружки письмо в Ярославль. Я это письмо недавно, домой когда ездил, перечитал. Ребята писали так, будто сроду в снегу не тонули, а все само собой получалось.
Просто на бумаге выходило: ворвались в город, вышибли сытых и наглых. Подумаешь, мол, вооруженные интервенты!
Письмо даже стишками начиналось: «Эй, эй, не жалей, свору черную бей, штыков, прикладов не жалей! Пишу с архангельских полей... Здравствуйте, дорогие товарищи тыловой Красной Армии. Мы, ваши товарищи, вышедшие с маршевой ротой и отправившиеся на фронт, находимся сейчас в городе Шенкурске, Архангельской губернии. Свой долг мы твердо выполняем. Буржуям и белогвардейским бандитам спуску не даем. Все грязное на своем пути истребляем, все чистое защищаем грудью».
Так что, видите, ребята, ничего особенного и не было.
— А что потом? — спросила Нюра. Она вплотную придвинулась к костру, вроде даже озябла.
— Потом очистили Архангельск — мировой порт, Нюра. И все американцы, англичане, французы, итальянцы без всяких песен ушли восвояси морем. Затея сорвалась, а за спиной у них было жарковато: свои же рабочие корили их.
Мы хотели слушать еще. Витя обещал:
— Завтра утром доскажу, а то сон спугнем.
— Так мы ж не по снегу. И совсем чуть-чуть, — сказала, уже засыпая, Нюра. Она прижалась ко мне и загнула край одеяла, чтоб получше укрыться.
Проснулась я будто на новом месте. Клены и дубки утром отошли друг от друга. Темнота их сдвигала, а теперь меж ними было много неба.
И к нему прикасались ветви. И с него спускались птицы на деревья, перебрасывая с дерева на дерево свои птичьи новости.
Костер, разожженный хлопотливым Гришей, то вскидывал огонь под донышко чайника, то огонь становился невидимым — исчезал. Утром костру неинтересно спорить с дневным светом.
Витя выполнил свое обещание, и, слушая его, мы попали сперва в маленькую деревеньку под Ярославлем, в домик Антоновых.
Уходил на фронт кузнец Григорий, с большими жесткими руками, отец Вити. Уходили и два брата — Иван и Митрофан, — русые близнецы. Два первых сельских комсомольца, даром что мальцами батрачили в деревне.
Уходили старшие Витины братья со своей ячейкой. На дверях клуба — была такая избенка на курьих ножках — вывесили деловую записочку, коряво нацарапанную угольком на доске: «Вся ячейка ушла на фронт»...
Оба брата попали на фронт под Обозерской. Кругом леса, болота, сверху — дождь. Мало красноармейцев тут было и одеты утло. Стягивали они ремень потуже, чтобы животы есть не просили.
Отец попал на Северодвинскую флотилию. Когда-то он служил матросом и в маленьком письмеце признался сыновьям, что тряхнул молодостью, повстречав кронштадтцев и моряков с Ледовитого океана.
— А тем временем, — рассказывал Витя Антонов, — в обход правому флангу у Обозерской, в обход моим братьям, пошла американская часть. Потом был слух, что вызвался вести американцев кто-то из местных. Одни говорили: старик охотник, другие — молодой парень. Мол, никого у него не было — кругом сирота. И будто тот крестьянин, старый или молодой, спросил у офицера американского: «Сколько, мистер, дадите мне долларов?» Американец обещал: «Много!» Проводник ему: «Беру грех на душу, повезете ль вы меня с эдаким золотом на свой американский материк?» — «Куда захочешь! На лучшем боевом корабле». — «Подходящее обещание, — отвечал проводник. — Хорошо. Верю, как не верить?! Вы самые что ни на есть просвещенные. Успокоили меня, темного. Теперь я и вовсе готов взять грех на душу...»
Хоть и был август месяц, надвинул на лоб шапку собачьего меха и зашагал.
Американские солдаты и офицеры хорошим спортивным шагом за ним. Но вдруг их перестали слушаться ноги. Они приросли подошвами, добротными, толстыми подошвами, к липкой земле. И она не отпустила. Она брала их по частям. За щиколотку, за колени, ухватила за пояса...
Они ушли в землю. И проводник с ними. А вот как про это люди узнали — трудно сказать... Говорят, такой случай и в старину был...
И еще слух разнесся, что проводник с моим отцом дружил. И будто пошел договариваться с американцами, когда увидел моего отца, друга своего, на берегу реки. С вырезанной на спине пятиконечной звездой...
Мы долго молчали. Возились со своим нехитрым имуществом — рюкзаками, одеялами. В шесть рук чистили золой чайник, лишь бы дело было, лишь бы пустого словечка не проронить. И Витю Антонова не окликали. Он ходил поблизости от полянки; кажется, пахло дымком папиросы. При нас он стеснялся курить.
И, пока шли мы обратно в лагерь, Нюра Ревякина все оборачивалась ко мне и повторяла:
— И откуда обо всем дознались? Про болото и американцев? Может, само болото заговорило? Вот дудочки из тростника, деревья — факт, говорят!
Из-под моих рук, из-под рук Нюры падают на крашеные доски пола лоснящиеся красновато-коричневым разноцветные кусочки коленкора. Гриша разогревает клей, мы убираем обрезки.
Витя Антонов перегнулся над прессом и пристально смотрит, как мы большими иглами, тянущими суровую нить, сшиваем лист за листом книгу. Сдвигаются белые дощечки пресса — корешок стиснут. В комнате пахнет клеем, коленкором. В белом тазу Нюра полощет руки, я кидаю ей полотенце. Мы взбудоражены.
У меня книга из листов маленького формата, но их много. Я долго вожусь с ней, и, быть может, поэтому она мне все больше нравится.
Я наклеиваю коленкор на ее корешок, на обложку — синеватую бумагу со светлыми прожилками. Чистой тряпочкой снимаю желтый глазок клея.
Книга ожила, но я еще долго придираюсь ко всем ее уголкам и сторонам — жаль из рук выпускать: она немножко ведь моя. Три вечера вертелась она, как живое существо, в моих руках. Я ее сперва расшила, а теперь она совсем новенькая, куда хочешь ее можно поставить — на самую видную полку.
Витя улыбается, отбрасывая с моего лба спутавшиеся волосы. Протягивает мне буквы, вырезанные Гогой. Я выравниваю маленькие, остренькие буковки — Витя сам наметил каждое слово, строчку.
Название длинноватое, таинственное: «Десять дней, которые потрясли мир». А на корешок я наклеиваю имя автора книги, слишком короткое и непривычное: Джон Рид.
— Сказки? — спросила Нюра, облизывая спекшиеся губы.
— Нет, быль, — ответил Витя.
— Чудно́е имя, — заметила Нюра.
— Ничуть, Джон — это Иван, Иван Рид.
— А он писал правду?
— Еще какую! — Витя улыбнулся, губы у него немножко стянуло шрамом.
Я все еще держу книгу, пора расстаться с нею. Я кладу ее на стол перед Витей, стараюсь не смотреть. Но мне хочется унести ее с собой. Своя книга — я уже знаю неповторимое чувство, какое она вызывает, прогоняя одиночество.
Никогда у меня не было игрушек, если не считать чужие, — я играла в них изредка. У меня ничего не было своего, даже кровати. Спала я в сломанной качалке. Совсем недавно в маленьком магазине на Петровских линиях под круглой вывеской «Зеленый луч» я купила свою первую книгу.
В школу я должна была ездить на трамвае: она находилась далеко от моего дома, близ храма Христа-спасителя, но я ходила пешком. Или, уцепившись за «колбасу», ехала на буфере по кольцу «А» до Арбатской площади. Мне не было стыдно, но галстук я прятала, чтоб не попрекали. И вот из всех трамвайных копеек образовался мой капитал.
Я пришла в магазин «Зеленый луч» под вечер. Вся комната от косого солнечного луча дымилась. Книги громоздились на полках, в углах, в пачках у прилавка, и тонко роилась золотистая пыль в световом столбе, двигавшемся по комнате.
К высокому дубовому прилавку я робко притронулась носом и сразу увидела совсем маленькую книгу. На ее обложке под парусом шла яхта. Долго боялась я попросить книгу, узнать, сколько она стоит. Вышла я из магазина, задохнувшись от книжной, тлеющей духоты, держа «Алые паруса» Грина.
Несколько дней прошло, и я уже знала: обязательно и ко мне придет яхта под алыми парусами. Все, что случилось с девочкой Ассоль, я помнила наизусть.
Но и сейчас передо мной лежала необыкновенная книга, собранная моими руками листок за листком. Я задумалась и не заметила — пальцы мои снова коснулись «Десяти дней, которые потрясли мир»... Витя взял книгу:
— Здорово переплетаешь, Катя.
Ребята, клеившие в другом углу комнаты большой альбом, обернулись.
— Витя, — спросила моя безбровая подруга Нюра, — а что такое попасть в переплет?
— Ну, попасть в очень трудное положение, в переделку.
— А-а, — разочарованно протянула Нюра, — только и всего?!
Витя протянул мне книгу в синей обложке с прожилками:
— Возьми свою книгу, Кать.
— Что ты? — испуганно переспросила я, подумав: «Неужели у меня такое просящее лицо?»
— Но ты же с ней долго провозилась. Привыкла. Придумала славный такой переплет. А я принес ее, уже зная от корки до корки. И самого Джона Рида совсем близко видел, лицо у него необыкновенное было. Когда-нибудь и ты прочтешь эту толстую книгу. Сейчас, пожалуй, трудновато будет в ней разобраться, но зато потом... Потерпишь, Кать, верно? Ты же любишь книги...
Я волновалась, прижимала к себе книгу обеими руками и еле выговорила тихое: «Спасибо».
Странные совпадения бывают. Назавтра я и Нюра бродили по Красной площади, у подножия кремлевской стены. Я дотрагивалась до старых камней, задирая голову и смотрела на узенькие бойницы. Найдя щербатый камень, Нюра долго уверяла меня, что это выветренная временем кость узника, замурованного в башенке.
Я спорила с Нюрой, но с опаской поглядывала на бурую кремлевскую стену и, наклонясь, сорвала пучок зеленой травки, примятой моими парусиновыми туфлями.
По площади взад и вперед гоняли машины, быстро мчались пролетки, а мы с зеленой травкой оставались вроде сами по себе. Мне нравился ее спор с древней стеной.
Земля дышала у подножия старины, и вдруг мои глаза споткнулись о доску. С испугом прочла я: «Джон Рид, делегат III Интернационала, 1920 год».
— Он тут, под доской лежит... Рядом... — Я схватила Нюрку за руку и потащила за собой.
Испуганная, она не сопротивлялась. Мы перебежали площадь и очутились у подъезда дома, где в подвале ютился наш отряд. На сборе звена я не могла ни о чем говорить. И играть не хотелось.
В конце вечера, после работы в Управлении машиностроительных заводов, к нам заглянул Витя. Я бросилась к нему:
— Можно проводить тебя?
Он кивнул головой.
Мы часто ходили домой вместе, нам было по пути. Я не мешала Вите думать, а он клал руку на мою шею, и мне было спокойно и счастливо ходить рядом с ним.
В тот вечер, как только Нюра крикнула: «Прощевайте!» — я спросила про доску с надписью...
— Да, он... на Красной площади, Рид.
Витя Антонов набросил на меня свою куртку, перешитую из френча: я озябла, он это заметил.
— Совсем молодой, он успел многое сделать для нас и своих земляков. Когда я вернулся с Севера, мне рассказывали о нем друзья. Был он американцем — молодой, красивый, из богатой семьи. На все прежнее он плюнул, на богатство тоже. Мотался за правдой по всему свету. Три раза пробирался к нам. В Америке его бросили в тюрьму, потом перехватили на пути к нам — держали в собачьих условиях. И все-таки он добрался. А на родине выпустил про нас книгу «Десять дней, которые потрясли мир». У Рида было много друзей — у нас и дома, но жизнь оказалась очень трудной, он измотался и заболел. И тут умер, в Москве,
— Ты говорил, что видел его?!
— Стоял в карауле, когда прощались с ним в Колонном зале. Странно было мне, красноармейцу, после Севера нести тот караул. И слушать большую, печальную музыку. И я смотрел на Джона, а люди шли к нему. Шли по залу в шинелях, тужурках, обнажив голову. И слышались их осторожные, прощальные шаги.
Старые и молодые всматривались в его лицо, грустили. И мне стало не по себе, что я с ним, живым, не встретился. Видно, необыкновенный парень он был. И снова играла музыка, шли люди и как-то про себя говорили с Ридом, прощаясь...
Книга Рида стояла у меня на крохотной полочке рядом с «Алыми парусами» Грина. Я пробовала ее читать — не поняла. Только несколько строчек запомнила сразу: «Мы шли домой. Воздух был полон смутных звуков. Автомобильные рожки, чьи-то вскрики, отдаленная пальба. Город сердито и беспокойно шевелился...» Для меня это осталось стихами. И еще про Красную площадь — мою площадь, на углу которой, в подвале, собирался отряд.
А потом Витя подарил мне карточку Джона Рида. Я повесила ее над узкой железной кроватью. Соседка спросила меня:
— Кто такой? Красивый парень...
Я ответила:
— Мне подарил вожатый карточку своего друга — Ивана Рида.
Прошло много лет. Зимой сорок пятого года на Севере я подарила карточку Рида американскому матросу. Он был коком на крейсере, а мы шли в конвое.
Кок-американец заплакал, рассказывая, как погиб его брат-летчик: его убили гитлеровцы над Берлином. Я отдала портрет Джона Рида коку.
А фотографии Вити Антонова у меня никогда и не было. Но в Мурманске и в Полярном, на Рыбачьем полуострове, в Печенге, даже в далеком норвежском городке Киркенесе, разрушенном дотла гитлеровцами, я вспоминала шинель Вити Антонова, поход к Шенкурску.
И часто мерещилось: вот тот человек, что идет мне навстречу, — Витя Антонов.
Подойдет сейчас мой вожатый и спросит: «Как дела, Кать? Видишь, какой он — Север!»
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





