ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

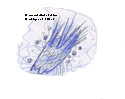
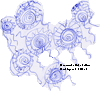
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Киселева Мария 1975
Я обращаюсь к тебе, друг мой, мое второе я, потому что мне обратиться больше не к кому. Я слышала, что у душевно-больных бывает раздвоение личности, когда человек себя видит или, во всяком случае, чувствует как бы в двух лицах. И это как будто мучительно. Наверное.
Я человек совершенно нормальный, я сама тебя выдумала, чтобы было к кому обратиться. Ведь я пишу дневник, а не письмо. Не сочинение и не книгу. Значит, написанное мною читать никто и никогда не будет. Что же мне самой к себе обращаться, что ли? Я еще не такая старая, чтобы разговаривать сама с собой. Хи-хи! Хотя мне уже девятнадцать с половиной лет, это не совсем хи-хи.
Так вот, чтобы это не было бормотанием под нос, я буду обращаться к тебе. Это удобно еще и потому, что ты меня лучше всех знаешь (мы ведь ни на минуту не расстаемся, и мне поэтому не надо вдаваться в подробности: ты видела и слышала все, что видела и слышала я. Да и хронологию по той же причине мне соблюдать необязательно).
Почему я не рассказываю маме? Да, почему? Ведь у меня хорошая мать. Еще бы! И я же всякую любую новость несла ей. Значит, я не скрытная, не замкнутая, значит, это нельзя объяснить моим характером. До восьмого класса, нет, пожалуй, до девятого, я все ей рассказывала. Сама. Я спешила из школы, чтобы рассказать что-то маме, хорошее или плохое. А потом это все пропало. И вовсе не из-за Вадима. Это теперь из-за Вадима, но тогда его еще не было.
Видно, просто возраст. Я, конечно, не считаю, что это проблема отцов и детей. В сущности, наши отцы (и матери) ничего старики.
Как раз позвонил Вадим. Приглашал прогуляться. Сказал: «Пожалеешь». Шутит, это же понимать надо. Но если бы мама услышала, сделала бы бездонные глаза. (У нас с мамой одинаковые глаза. Но когда я удивляюсь, они у меня, как у всех людей, делаются широкие, а у нее глубокие. Бездонные. Особенно, если она удивлена неприятно, оскорблена. Это подметил, между прочим, отец, а я просто проверила — совершенно верно.)
Нет, они (старики) ничего, только вот юмор наш как-то не понимают. Ну хотя бы сегодня. Уважаемый Семен Матвеевич объяснял стенокардию. Лечение: самое первое — покой (постельный режим). Когда объяснял язвенную болезнь: самое первое — покой. Пневмония — покой. Вадим сказал сегодня:
— Покой, покой, а потом упокой.
Все засмеялись, а Семен Матвеевич нет. Не понял. Ну, ладно. Эту самую стенокардию учить надо.
А вот давай с тобой подумаем, что же такое Мессинг? Вадим сказал — шарлатан. Ну нет, позвольте не согласиться. Мессинг — это действительно что-то загадочное. И как это еще нам разрешили его пригласить в институт? Ведь медикам все надо объяснить разумно. А нам объяснить не сумели. Говорят, на кафедре психиатрии смятение. Мы еще не учились на этой кафедре, но даже и нам заметно, что этот доцент Волков, который выступал после Мессинга, был не в своей тарелке. А студенты после его потуг объяснить то или иное «чудо» просто выли, как итальянские тиффози. Чудо ставлю пока в кавычках, хотя вполне можно их убрать, так как это действительно чудо.
Сам он небольшой, нетолстый, пожилой. Был, наверное, очень черный, смуглый в молодости. Напружиненный, нервный. В движениях — как бы это сказать? — такая скованная суетливость. По ней догадываешься, какая бурная внутренняя работа в нем происходит.
Мне сразу, с момента его выхода, показалось, что он — как Паганини. Необыкновенный и страшный, какой-то черный дьявол. Эксперименты свои он проводит блестяще, без единой ошибки.
Мы готовились к сеансу заранее. Выбрали жюри и десять пар, которые будут давать задания Мессингу. Мы с Вадимом тоже попали в десятку. Наше задание было такое: отыскать девушку (меня) в шестом ряду пятую справа, найти в высокой прическе зеленую шпильку (одну среди коричневых) и вложить ее Вадиму в верхний карман пиджака. Другие придумывали более сложные задания, но все это были портфели, книги...
Итак, наша самая большая аудитория — корпуса гигиены была набита битком. Волновались мы страшно. Сначала оттого, что Мессинг не приедет, потом оттого, что он приехал.
Его ассистентка, пожилая дама в нарядном, почти вечернем, платье объявила, что Мессинг объездил весь мир и не имеет себе подобных в проведении сеансов чтения мысли на расстоянии. И объяснила условия: выходит один из зрителей и мысленно задает Вольфу Мессингу задание. Поэтапно. Он — пусть он будет называться индуктором — должен произносить отчетливо короткие фразы (про себя, в уме) в повелительной форме, например: «Пройти в четвертый ряд, пройти в четвертый ряд, пройти...» — до тех пор, пока это не будет выполнено. Затем следующее действие: «У парня, сидящего крайним, взять портфель, у парня, сидящего крайним... открыть его и вынуть толстую книгу, открыть его...» — и так до конца задания.
Сначала все это походило на фокус: несколько театральный вид дамы-ассистентки, ее манера говорить, наш зал амфитеатром... Вот вышел он. Напряженный, нервный с проницательным взглядом. Нет, держит себя он не как фокусник. Нет улыбок, поклонов. Нет никакой демонстрации.
Жюри объявило номер задания — третий. Вышел студент Валька и, немного робея, стал возле Мессинга. Ассистентка еще раз ему напомнила, что приказания должны быть четкими, краткими и не должны перебивать друг друга. Валька кивнул головой. Мессинг быстро глянул ему в лицо и взял за запястье, как врач за пульс. Они стояли несколько мгновений рядом, лицом к аудитории. Все замерли. Брови Мессинга чуть дрогнули, взгляд ушел в себя, и вот великий маг осторожно, но решительно двинулся вперед к правому проходу. Валька за ним. Остановились на четвертой ступеньке и спустились обратно на третью. Было тесно в рядах, и Мессинг, держа Вальку за руку, пробирался куда-то по третьему ряду.
Мы с напряжением следили, никто не знал задания, кроме индуктора и его напарника. Вот Мессинг остановился, свободной рукой расстегнул пиджак сидящего перед ним парня, затем «прислушался» к Вальке и опустил руку во внутренний карман. В горсти у него оказалась всякая карманная мелочь: записная книжка, пропуск в библиотеку, какие-то записки... Он все это высыпал в ладони хозяину и, взяв только связку ключей, уже быстро выбрался из ряда, и, волоча Вальку за руку, как нянька ребенка, подошел к жюри (сидело внизу за столиком), и отдал ключи члену жюри Наташке.
Валька был свободен. Мессинг слегка поклонился. Жюри зачитало задание номер три: «Пройти в правый проход, подняться на третий ряд, найти студента в малиновом галстуке, достать из правого внутреннего кармана его пиджака ключи с брелоком и отдать их девушке — члену жюри».
Сначала повисла тишина. Затем все повернулись снова к проходу — правый, а ряд действительно третий. Галстук у парня — малиновый, а Наташка единственная девушка в жюри. Грохнули аплодисменты. Мессинг энергично потряс рукой — не надо!
Объявили задание номер семь. Вышел Борис Апухтин. Мессинг быстро сжал ему запястье и, чуть кивнув головой (как бы «хорошо!»), уверенно пошел в нужном направлении. Открыв портфель студента, он достал учебник и, полистав его, прочел две строчки. Жюри огласило текст задания. Все было точно.
Потом у кого-то из сумки надо было извлечь вареное яйцо, очистить его и разрезать у кого-то взятым перочинным ножом. А в середине была трубочкой свернутая записка: «Неужели получится?» (Вкладывалась до варки в крохотное отверстие в скорлупе.)
Объявили наш номер. Вадим (сидел далеко от меня) вышел на середину. Вот они двинулись, остановились. Мессинг, опустив голову, «слушал», теребя Вадиму запястье. Вот они идут правильно, опять небольшая заминка... Ах, это Вадим не умеет четко мыслить, путает приказания (так потом и оказалось). Но вот они около меня. Я тоже убрала коленки в сторону, как и другие девчонки, чтобы они прошли мимо. Но Мессинг остановился. Они стояли за руку с Вадимом. Вдруг шепотом: «Простите!» — и быстрые пальцы легко пробежали по моей прическе. Зеленая шпилька две секунды была в руке Мессинга и затем опустилась в верхний карман его индуктора — Вадима. Все абсолютно точно.
Потом выступал доцент Волков. Он все старался убедить, что это — ничего особенного. В мозгу возникают биотоки — ведь их записывают на энцефалограмму. Они распространяются и дальше очага возникновения (головы), и их возможно уловить, например, на запястье. Хорошо, мы с этим согласны. А дальше наш психиатр плыл уже по другому каналу. Мессинг, видите ли, «читать» эти мысли не может, этот термин у него для рекламы. И держит за руку он своего индуктора для того, чтобы знать, куда тот будет его тянуть! У Мессинга очень, очень развита наблюдательность, и благодаря ей, этой сверхнаблюдательности, он замечает то, что для других незаметно. Если индуктор приказывает: «Иди к пятому ряду» — то и сам он невольно устремляется к пятому ряду. А Мессингу якобы того и нужно! Дальше: в этом ряду у всех на лицах удивление, а у одного (он ведь один знает, что идут к нему) или напускное равнодушие или смущение. Уловить это не так уж якобы трудно. А у молодежи тем более все эмоции наружу, она плохо себя сдерживает.
Ну хорошо. Пусть таким простым способом обнаружен объект действия. А дальше? Ах, доцент Волков махнул рукой: все так стандартно — портфели, карманы, авторучки... Пусть это так. Но вот что делать с этим пресловутым портфелем или карманом? Что вынуть оттуда: эти надоевшие авторучки или книги? Как узнать, на какой странице открыть книгу и что прочитать, какую строчку? Ах, доцент Волков, мы понимаем, вам трудно!
Ассистентка, между прочим, объявила, что нельзя давать задания, где требуется Мессингу что-то прочесть или написать. Но мы задания готовили раньше и в некоторых это было. И он читал. Он это может. Писать мы не просили.
Устала. Закончу завтра.
Сейчас, когда, хоть на правах падчерицы, признается телепатия, Вольфа Мессинга еще как-то принять можно. Но ведь он выступает давно. Как же с ним мирились раньше?
Ну вот, под большим впечатлением я охотно и подробно рассказала все дома. Папа отнесся к Мессингу нейтрально.
— Возможно, возможно, — сказал он.
А мама, она видела его когда-то в моем возрасте, пережила все заново. Она верит в него безраздельно. Впрочем, она при всем своем простодушии и великой способности удивляться как-то очень просто сказала:
— Ну что там Мессинг! Самый обыкновенный человек может знать мысли другого, если он в него смотрит, если это дорогой и близкий.
Она так и сказала «в него», и у нее это действительно значит «в него», а не «на него». И дальше совсем уж просто:
— Я всегда знала папины мысли, настроения, особенно невеселые. Это совершенно нормально. Я уже по звонку в дверь угадываю, какой он сегодня.
А еще она сказала, что иные люди могут жить под одной крышей и ничего не знать друг о друге. Вот эти люди не читают чужих мыслей, даже если они написаны прямо на лбу.
Я сначала не обратила внимания, мама любит сказать что-нибудь такое, она весьма сентиментальна. А вот давай-ка с тобой посмотрим, а что же все-таки она имела в виду? А ведь она имела в виду душевную слепоту. Не правда ли?
Вадим — мы пришли с ним вместе после Мессинга — сказал маме:
— А зачем догадываться или читать мысли? Ведь человек в отличие от прочих живых и копошащихся существо озвученное. Не проще ли спросить?
Потом добавил:
— А современный человек тем более нередко знает и несколько языков.
Мне показалось — удачно. Ну что тут можно возразить? А мама, подняв на него свои глубокие бездонные глаза, произнесла спокойно:
— Конечно, можно и спросить. Но люди, о которых я говорю, и не догадываются и не спрашивают. Ни на одном языке. Тогда не понятно, зачем же они в отличие от прочих копошащихся наделены разумом и озвучены.
Не дожидаясь ответа, мама встала из-за стола и, захватив какую-то посуду (мы ужинали), спокойно вышла. Она показала этим, что разговор окончен. Она не любит Вадима.
Конечно, он мог бы не говорить «копошащихся», наверно, млекопитающие заслуживают какого-то уважения, но даже если и сказал, что такого? А маму это задело. И вообще этим своим высказыванием Вадим показал, что он (в ее понятии) относится как раз к тем, кто и не догадывается и не спрашивает. Она не любит Вадима. А я люблю. А по всему по этому она не видит его достоинств, а я, выходит, недостатков. Но это не так. Я его недостатки вижу.
Когда мы как-то вышли из театра, он сказал:
— Потопаем пешком? Этот спектакль надо начисто выветрить.
Я удивилась. Ведь я была в легких туфлях. По мокрому снегу? Я думала, он забыл и хлопнет себя по лбу, и скажет о своем любимом комплексе неполноценности, но он сказал:
— Да? А мы будем выбирать, где посуше.
Сам он был на толстой микропоре. Ты думаешь, я всего этого не увидела, не поняла? Я даже сразу тогда представила, что папа никогда не позволил бы маме вот так промочить ноги.
А когда я провалила зачет по химии? Он не знал, но сразу догадался. Конечно, не как мама, по звонку в дверь.
— Ты ревела? — спросил он и приложил кулаки к переносице, показал, какие у меня глаза. — Да брось ты!
Это было все, что можно отнести к словам утешения. Конечно, из зачета трагедию делать не следует. Я и не делаю. Но мое плохое настроение ему было ни к чему.
— Ты не в духе, я удаляюсь.
И ушел. Да, это не тот случай, когда «печалюсь вашею печалью и плачу вашею слезой».
А вот однажды мы пошли заниматься к Борьке Апухтину. Еще на втором курсе. Ну, Борька Апухтин такой невзрачный парень, тихоня, какой-то вроде пришибленный. А когда отвечает — другое дело. У нас, правда, на медицинском, не очень-то развернешься, но все равно. Когда отвечал анатомию — точно, легко, свободно. Не морщил лоб. А надо заметить, что, например, периферические нервы, ну, скажем, нижней конечности стоят несколько мудрых формул. (И вообще, как мы сдавали эти нервы — ужас!) Тогда, помню, Борис отвечал так строго, деловито, серьезно, здорово отвечал, точнейшим движением пинцета указывая тонкие белые нити нервов этих конечностей на препарированном трупе. И вдруг, прервав поток латинских терминов (правильных, с верным всегда ударением, а даже уважаемые преподаватели наши говорят аномали́я вместо анома́лия и медика́менты вместо медикаме́нты), вдруг сказал:
— Вот живет человек и знает, что у него есть руки и ноги. Попадает к медикам, руки и ноги его исчезают, появляются верхние и нижние конечности.
Я это тоже заметила. Мне было очень странно сначала — эти конечности. А Вадим не заметил.
Да, ну я отвлеклась. В общем, тебе нечего рассказывать, ты знаешь, что Борис Апухтин так себе парень, самый, самый средний, никто на него внимания не обращает. Хотя мы знаем, что он толковый, но больно смирный. Когда спросили, не родственник ли он того поэта Апухтина, смутился:
— Ну где там! Откуда?
Как будто быть чьим-то родственником это личный подвиг.
Так вот когда мы пришли к нему заниматься, на столе среди учебников лежала открытая тетрадь. Я невольно прочла. Описывался двор в сырой осенний день. Спешили прохожие. Детишки шумели в стороне. А на крыльце стоял мальчишка лет шести. Воротник поднят, но шея все равно голая и ручонки красные, замерзшие. А он стоит — у него несчастье. Его прогнали, он не играет. Глаза у него...
Там не описаны слезы... Я не помню уже как, но ясно, что из них ушли слезы. Глаза, из которых ушли слезы. Потому что он уже в этом горе, мальчишка, давно. Он окостенел, замерз и все стоит. Потому что некуда деваться. Он не может к ним подойти, которые его изгнали, отвергли, но он не может и уйти от них. Он одинокий. Какое несчастье!
Это было так здорово описано, что я просто обомлела. Как будто я наткнулась на этого тощенького мальчишку с его глазами, с его горем. С его безнадежным горем, потому что он уже давно стоит окоченевший, но его не зовут. Я пишу нескладно и уже долго, а там было всего полстранички, но как! Особенно последние слова: «А люди проходили мимо. И я прошел».
Вот это «И я прошел» — собственный смертный приговор.
— Ты пишешь, Борис? — спросила я. — Новеллы?
— Нет. Это дневник.
— Прости, — сказала я. — Я не знала.
Он захлопнул тетрадь и куда-то ее сунул. Мы стали заниматься. Так вот. Я удивилась, подумав, что он пишет рассказы. Но это был дневник, значит, там ничего не придумано, не повернуто так, чтобы показать, ну, для читателя, словом. И это было бы замечательно! Но в дневник пишешь то, что тебя сегодня заполняет. И вот он изо всех своих дел и забот записал это. А я увидела бы мальчишку на крыльце? Ведь случилось просто пройти мимо. Не знаю. Вадим бы не увидел.
Мама не может прийти в себя, не может привыкнуть к моей... самостоятельности, что ли? Ведь я послушная дочь. Я очень послушная. Отличница. В шестых-седьмых классах девчонки начали стричь косы. Мне тоже хотелось. Бабушка заплакала, мама сказала, что это так красиво — коса, это так скромно и так далее... А мне не казалось красиво и почему короткие волосы нескромно? Но я оставила. Я послушная. Мне хотелось стрелять из лука. Дома не одобрили. Я не стреляла. Послушалась. Появился Вадим. Дома сказали: «С ним не надо встречаться». Я встречаюсь. Я не послушалась.
Как ты думаешь, легкомыслие — это хорошо? Нет. Я согласна. Вадим легкомыслен. Хвастливость хорошо? Нет. Он хвастлив. Лень? Тоже плохо. Он ленив. И не просто (ну поленился, поленился, да и сделал), а иждивенчески. Ленив так, что пусть это делают другие. Это открыла мама, а я убедилась. Мама не любит Вадима. А я люблю.
Вот что было на занятиях по терапии. Ведь всем известно, что валериановые капли дают, когда надо успокоить. Ну, например, женщина рыдает, никак не совладает с собой, ей дают валериану. А Семен Матвеевич сегодня сказал, что валериана не успокаивает, а возбуждает. Ее надо давать, когда человек угнетен, подавлен, тогда она несколько его взбудоражит, оживит и приблизит к нормальному состоянию. Видали? А там, где действительно надо успокоить, то есть подавить возбуждение, там следует дать бром. Вот он успокаивает. Я думаю, не всем врачам это известно. А впрочем, если человек рыдает, это чаще всего значит, что он подавлен горем, угнетен. А кто возбужден, тот сердится, кричит. Но все равно это интересно — про валериану.
Наш уважаемый доцент Волков с кафедры психиатрии пытался объяснить Мессинга его сверхобостренной наблюдательностью. Он видит, замечает малейшие изменения в лице, фигуре и прочее... Да, молодые люди более эмоциональны, менее сдержаны, все это так. Но ведь Мессинг делает свои опыты (точнейшим образом!) и с завязанными глазами. Бедный доцент Волков! Значит, Мессингу не надо наблюдать за руками, глазами, он все-таки «слушает» своего индуктора.
Я шла сегодня из института по скверу и увидела на скамеечке нашего хирурга Михаила Игнатьевича. Он, наверное, ждал свою внучку из музыкальной школы. А рядом с ним сидела толстая тетка и грызла тыквенные семечки. Михаил Игнатьевич ей что-то сказал, вероятно, что семечки грязные, не надо брать в рот, на что она, скривившись от возмущения, что-то ему ответила и разжала горсть. Вероятно: «Где же они грязные?» А еще может быть: «Если вы... так это не значит, что все грязные».
Михаил Игнатьевич ей указал на авоську, которую она положила рядом с собой на лавочку (чтобы руки освободить, грызть семечки), а в ней батоны хлеба. Хлеб прямо на лавочке, куда все садятся. Она дернула авоську и еще злее что-то ответила.
Я шла и думала: до чего же разные люди. Ведь «бытие определяет сознание». Так бытие у этих людей одинаковое, а сознание?
Если бы знала эта чушка, с кем рядом она сидит! Сегодня утром, пока она жарила свои семечки, Михаил Игнатьевич делал сложнейшую операцию в грудной полости. Опухоль средостения. Четыре с лишним часа его руки работали в тесном живом колодце, в них толкалось теплое сердце. Четыре с лишним часа мы наблюдали напряженную умную работу его рук, его мысли, его души. Сестра марлевым тампоном, зажатым в корнцанг, вытирала ему пот со лба...
Если бы эта баба сказала или хотя бы подумала: «С каким человеком я сидела! С каким достойнейшим человеком...» Это хоть на минуту облагородило бы ее, это подарило бы ей минуту счастья. Но куда! Она уверена, что она его кое-чему научила. На место поставила.
Сегодня я ничего не хочу записать. Только одно: я люблю Вадима.
Не помню, кто из мудрых мира сего сказал, что открытие сделать нетрудно. Надо только удивиться. Почему упало яблоко? — удивился Ньютон (а все прочие ведь не удивлялись). Сколько же поднялось в ванне воды? — Архимед. И так далее. Я ничего такого не открою, увы! Но я удивилась Мессингу. Я думаю об этом уже несколько недель. И я сделала некоторые открытия, для себя, правда, только. Читать мысли можно и нужно (не как Мессинг, разумеется). Вот же мама читает. И не одна моя мама. А прочитав их, надо откликнуться. Тогда не разовьется душевная слепота.
Был такой случай. Подходило мое восемнадцатилетие. Мама была взволнована: боже мой, дочери восемнадцать! Было поставлено в холодильник шампанское (прошел слух — ложный — что оно исчезнет), сделан в Астрахань тете Тамаре заказ на икру и рыбу. Восемнадцать лет! Я только поступила на первый курс и проучилась полтора месяца. Хороших товарищей у меня еще не было (я ведь медленно схожусь с людьми), но я думала пригласить нескольких девчонок и мальчишек из своей группы, а еще... Ну, ты знаешь, что я имею в виду одного субъекта, теперь это не имеет никакого значения и назовем его просто, нет, не мистер Икс, а по его малой значительности мистер Омега, то бишь последняя и самая малая буква в алфавите.
Ну вот я думала пригласить этого мистера Омегу и других, но потом оказалось, что приглашать его не следует. Ну тогда уж и никого другого тоже. Маме я об этом не рассказывала.
— Ты позовешь институтских товарищей? — спросила она.
— Нет.
— Значит, школьных?
— Нет.
Пауза.
— Так ты хочешь семейный вечер? Родных?
— Ты скажешь!
Мама еще не могла поверить! Как же? Ведь восемнадцать! Один раз в жизни бывает восемнадцать.
— Скажите! Один раз! Как будто пятнадцать, тридцать бывает не один раз. А вот шестьдесят, например, может не быть ни одного раза!
Я и теперь вижу маму, ее глаза.
Она попыталась вернуться к этому еще раз:
— У тебя все так хорошо: мы с папой живы, много друзей, большая квартира...
Я пожала плечами. При чем здесь квартира? А я ведь знала, о чем она думала.
Маме исполнилось восемнадцать во время войны. К этому времени, за два месяца, был убит ее отец. Она с бабушкой (тогда, конечно, молодой) работала на заводе. Накануне мама была в ночной смене и должна была вернуться утром. Бабушка оставила ей поздравительную записку, но получилось так, что они обе не уходили с завода трое суток. Когда во время бомбежки остановили конвейер, бабушка пришла в мамин цех, чтобы поздравить, а мама спала на полу у своего станка.
И только через три дня она нашла дома эту записку и замерзшую (в нетопленной комнате) горбушечку белого хлеба — подарок.
Когда протекла батарея в моей комнате, я перебралась в большую. Мы занимались с Вадимом, и он рассказал мне небольшой эпизод. О своей стойкости. Верности. В кино, еще в фойе, на него глядела девчонка (несколько штрихов ее наружности, незаурядной, как получалось, внешности). В зале она оказалась недалеко от него (случайно?). И когда зажегся свет после журнала и когда кончилась картина, она искала его глазами, а после шла за ним по улице. «Я показал ей разрез моего пальто».
Я понимала, что он хвастается, но все же мне было приятно, что он не ответил никак этой девушке. А мама (мы ведь были в большой комнате, и она слышала) была возмущена. Она сказала, что мужчины вообще не рассказывают такие вещи. Какое гадкое кокетство! Настоящий парень, да если у него есть любимая, вообще бы ничего этого не увидел. Какая-то девица пыталась с ним заигрывать. А он смакует все подробности.
После этого уже и я поняла, что это так. Ведь если мне говорят девчонки: «Повернись незаметно направо, вон на тебя такой-то парень смотрит», — я говорю: «Ну и пусть». И мне не интересно его рассматривать. У меня Вадим.
* * *
Вадим не любит литературу. Он читал из наших классиков только то, что полагалось по программе. Ну, не любит, так что же? Но если б он хоть сожалел об этом. В девятом классе учительница задала им домашнее сочинение: «Мой балкон». Вот такая была тема. Немного необычная, но если подумать, то очень интересно. Можно, например, описать вид города со своего балкона, его историю. А у нас видно только переулок, кусочек, и это студенческое общежитие, лавка филателиста и просто булочная.
И вот я с балкона вижу, как чернокожие студенты в одинаковых новых дубленках, радостно скалясь белыми зубами, первый раз в жизни хватают снег. Неумело комкают снежки, кидают друг в друга, смеются. Прохожие тоже, глядя на них, улыбаются. Вот что я вижу со своего балкона. Это не только красиво. Ребята из Африки учатся в нашей стране. Вот это что.
А любители-филателисты? Выглядят они не так живописно, даже на каких-то рыночных торгашей смахивают, потому что держат свои марки где-то под полой, за пазухой. Но это же знатоки истории, географии. В какое время вышла марка, где, при каком правителе...
А булочная, что ж? Она беспокоит немного нас ранними машинами, погрузкой-выгрузкой. Но ведь это хлеб! Мне с балкона третьего этажа видно, какие это румяные, белые, смуглые караваи, булки, плетеные халы. Какие это душистые буханки, заварные, с тмином, с анисом... Когда выгружают машину, по тротуару прекращается поток людей, потому что идет хлеб, лоток за лотком, еще и еще... Это поэма о хлебе. Вот что я вижу со своего балкона.
А на соседнем стоит коляска с младенцем. Разве не тема? Это человек двухтысячного года. Каким он будет, этот новый житель и этот новый век?
А Вадим написал: длина моего балкона такая-то, ширина такая-то. Учительница была просто убита.
Мы занимаемся с Вадимом. Вернее, я занимаюсь с ним. Потому что я его тяну. Он ленится. У него от сессии к сессии были хвосты, он давал слово исправиться. Мне поручили ему помочь. Так это и началось.
Я не умнее его, я работаю. Пока я копаюсь в химических формулах, пока дышу формалином у препаратов в анатомичке, он ищет по всему городу наимоднейший галстук. Потом я объясняю ему уже готовое, разжеванное, проконспектированное. Он запоминает быстро. И так полтора года. Мама возмущена. Можно помочь человеку, который отстал по болезни, еще почему-то, но так? Постоянно тянуть. Я тоже понимаю, что это не просто лень, а что-то связанное с совестью. С ее отсутствием, вернее.
Раз я понимаю, я не должна его уважать. А я, может быть, и не уважаю. Я люблю. Мама переживает это, как драму. Она не может поверить, что это я, ее дочь, ее примерная, послушная дочь, и вдруг… как предательство. Я нанесла ей такое горе. Любить можно только такого человека, которого уважаешь, глубоко уважаешь, которому веришь, которого хочешь быть достойной. Я тоже все это понимаю.
Да, я была бы счастлива, если бы любила такого человека. Мне этого не выпало. Я люблю Вадима.
Сегодня я ассистировала Михаилу Игнатьевичу на операции. Первый раз в жизни и первая из нашей группы. Почему он взял именно меня? Ах, не знаю, я скромная, я не догадываюсь.
Мы удаляли ангиому предплечья. Моя задача была — держать лоскут кожи, который освобождался по мере того, как Михаил Игнатьевич отделял от него сосудистые разрастания. Сначала мне показалось, что это обидно мало — просто держать, но это оказалось трудно. Дело в том, что влажная кровянистая внутренняя поверхность выскальзывает из-под пинцета, а кожа к тому же имеет свойство сокращаться. Я зажала пинцеты крепче, но это тоже не годилось, — ведь так я могла травмировать кожу, вызвать омертвение, некроз в этих точках.
Я старалась держать крепко, но не очень, пальцы у меня устали и довольно скоро онемели. Операция еще только началась, и я боялась, что не выдержу и Михаил Игнатьевич заметит это. Тогда уж я вцепилась в пинцеты, пальцы одеревенели, в запястьях страшно ломило. Было трудно дышать. Я не знаю, сколько так длилось, но вдруг стало легче. Оказалось, что Михаил Игнатьевич освободил кожу от ангиомы и работал уже от меня отдельно.
Уф, можно ослабить. Кисти мои потеплели, маска перестала душить.
Хирург сделал уже многое: подвел лигатуры под главные сосуды, питающие опухоль, освободил нервный ствол... но и я ведь тоже держала кожный лоскут! И он ему совсем не мешал!
Когда у меня прекратилось сердцебиение и отошли руки, я вспомнила, что за моей спиной стоят ребята, вся наша группа. Теперь я могла на минутку повернуть голову, перевести взгляд на этих наблюдателей, на этих праздных соглядатаев. Они стояли свободно за перильцами, видно, слегка перешептываясь. Ну да, они же не держали лоскут! Конечно, это вам не сердечная операция и не резекция желудка даже, но попробовали бы они держать скользкий кусок живой кожи так, чтобы он совсем не мешал хирургу!
Вот они заметили мой победоносный взгляд и зашушукались. Борис Апухтин хорошо, по-доброму сказал мне: «Молодец» — одними глазами, ведь все мы в масках, а Вадим притворно зевнул в маску, прикрыв рот рукой, — скукота! Шутка, конечно, понимать надо! «Ротозеи, бездельники, — говорила я им тоже одними глазами. — Вы даже глядеть-то не умеете, лоботрясы бездарные. Где вам понять, какую работу мы выполняем с Михаилом Игнатьевичем, что значит держать кожный лоскут!» У меня, наверно, это неплохо получалось, потому что все ребята как-то замерли, глаза их стали озорными. «Дошло до бездельников, поняли...» Вдруг — дружный смех! На операции?
Я быстро глянула на Михаила Игнатьевича. Мамочки! Он, оказывается, остановился (и уже несколько секунд назад, ну да, потому и прекратилось легкое подергивание, которое я ощущала пинцетами) и смотрел на меня. Он все понял. И даже очень. Ведь он сказал мне:
— Ну, поручик Ромашов...
Так вот я почему-то перекосила пинцеты, и один из них, левый, чуть не коснулся руки хирурга, а правый зачем-то поднялся вверх и так натянул кожу, что образовалась дырка. Я испугалась. Остановить на несколько секунд операцию можно, но прорвать кожу! Надо было сказать об этом Михаилу Игнатьевичу, но я перехватила пинцет и промолчала. Потом я уже плохо следила за операцией, а про ребят вообще забыла, меня беспокоило только это. Теперь придется наложить сюда шов. Называется, принесла пользу.
Михаил Игнатьевич отделил ангиому, и она — клубок сосудов весь в зажимах, как чудовищный осьминог, — звякнув этими зажимами, упала в лоток. Теперь осталось закрыть все кожей. Хирург взял ее просто руками, примерил и отрезал лишний край. Господи, ведь объем предплечья после удаления опухоли стал меньше, и кожа оказалась в избытке. Кромка ее с этой злополучной дыркой была брошена в тот же лоток.
— Все, поручик Ромашов... — сказал негромко Михаил Игнатьевич.
Он не сделал мне выговора, он понял, этот чудесный человек, что это не от небрежности, не от лени, а от излишнего усердия и гордости.
Ведь тот поручик Ромашов был так горд и счастлив, он просто был переполнен гордостью и счастьем, что идет впереди военного строя, он так старался, он просто оторвался от земли — ведь на него все смотрели и любимая женщина! — конечно, он немного хвастался, славный поручик Ромашов, но это же так понятно, и от всего этого — боже мой! — он сбился с линии и закосил! На меня это место у Куприна произвело страшное впечатление. Потому что он был тут же обруган и наказан, этот славный, чистый, наивный юноша, не успев опомниться. Какое наказан! Наказан он должен был быть, этого требовала дисциплина, но он был посрамлен и низвергнут и втоптан в грязь. Никому не нужно было знать: почему?
Мне было пятнадцать лет, когда я читала. Я плакала над книгой и плакала ночью, на меня это очень, очень подействовало. Меня уже не поразило потом ни предательство этой Шурочки, ни смерть поручика. А что же еще могут эти подлые, подлые...
Ну, я уже сделала большое отступление. Михаил Игнатьевич понял, что я горда своей первой операцией и хочу немного похвастаться.
Восьмого марта мама решила собрать гостей. Предварительно она спросила, не хочу ли я устроить вечер. Я пожала плечами. У нас как-то не было об этом речи (в институте).
Когда Вадим узнал, поморщился:
— Ну вот, ты, конечно, будешь с мамочкой. Мамочке надо показать, какая у нее дочка.
Я не собиралась быть с мамочкой, но ответила:
— Конечно, буду.
И так вот из-за этого дурацкого разговора внезапно сорвался праздник. А ведь день неучебный.
Восьмого мама хлопотала на кухне, пришли две ее приятельницы с работы, я с ними только познакомилась и ушла в свою комнату. Мама все, конечно, видела и меня не беспокоила. Я никуда не пошла, потому что мог быть звонок. И действительно, звонили девчонки, поздравляли мальчишки из бывшего десятого, позвонил Апухтин. Вадим нет.
Девятого его не было на занятиях. Я испугалась: вдруг заболел или еще что? Но десятого он был на месте, жив-здоров, подошел:
— Товарищ староста, я из Калуги. Не мог достать обратного билета, вот железнодорожная справка.
— Покажешь в деканате, мне не надо.
Калуга — это его родной город.
А в этот же день, то есть десятого, пришла поздравительная открытка. Он опустил ее в Москве перед отъездом, но написал неправильно номер квартиры, поэтому она пропуталась четыре дня. Ну, это бывает. Читаю: «Поздравляю с праздником, желаю здоровья, успехов... здоровья, успехов». Перечитала еще. Да, так вот и получается. Написано наспех, кто-то помешал — прервал, потом дописал то же самое и (не перечитав!) бросил в ящик.
Поздравление — это проявление внимания. Так вот, если захочешь оскорбить вниманием — сделай так.
Фигурка долговязого парня похожа на Вадима. Небрежно ссутулясь над модной рогатой гитарой, слегка согнув колени (брюки клеш), она как бы подплясывает в такт безалаберной музыке. Вихры волос касаются воротника. И все это просто из проволоки в цветной изоляции.
Он держал ее передо мной двумя пальцами и ждал похвалы.
— Учил бы политэкономию лучше, художник, — нарочно сказала я.
— Именно оттуда я и извлек, что личность будущего коммунистического общества должна быть многогранной.
Мы поискали лучшее место (Вадим был согласен только на лучшее!) в моей комнате и укрепили косматого музыканта на стене. И когда Вадим, стоя за мной, поправил гвоздик, протянув руку через мою голову, он приблизился ко мне совсем близко... Не оттого ли, что я мешаю? Я попыталась отойти, но он слегка повернул плечо и не пустил. И мы стояли так, тесно прижавшись, несколько секунд. Я не знаю сколько... несколько. Потом Вадим обнял меня за плечи, и я услышала, как бьется его сердце (или мое?). Стало так страшно, как будто с качелей вниз... Это было несколько мгновений.
— Ну я пойду. До свидания, — сказал Вадим и ушел. Он приходил заниматься.
Я не вышла в переднюю и вообще не подняла на него глаз. А потом я снова стояла на том месте и глядела на тощего музыканта. Совсем поздно позвонил Вадим:
— Ты думай обо мне иногда, глядя на этого балбеса, ладно? Ведь он похож на меня? Да? Ну вот.
Это было позавчера, но я не могу никак прийти в себя, что-то мысли (или чувства?) захлестывают друг друга. Ну, я, конечно, знаю, что такие вещи бывают, но своими глазами не видела.
Собралось комсомольское бюро, и разбиралась жалоба на нашего студента Володьку К. Я его знаю с первого курса, правда, не очень близко, так как он не в нашей группе, а на потоке. Симпатичный, тихий парень, хорошо учится. И вот пришло письмо. Восемнадцатилетняя первокурсница (другого вуза) сквозь слезы и рыдания излагает некоторые пункты комсомольского устава и Советской Конституции (о чести и обязанностях советского гражданина и комсомольца). Они дружили с Володей долго, пишет она, — шесть месяцев! — и она ему верила. И вот когда она ему совсем доверилась, он от нее отступился. Теперь вот будет ребенок, а комсомолец Владимир К. не собирается жениться, а, наоборот, записался в научно-студенческий кружок и занимается с утра до ночи, чтобы с ней не встречаться. Это подло, и комсомолец не имеет права и так далее...
Володька К. стоял, глядя в пол, сначала весь красный, а потом, наоборот, совсем белый, ну просто как его халат, и у него подергивалась бровь. Он подтвердил, что в письме все правильно, никакой клеветы. Только знакомы они были не полгода, а четыре месяца, но это, конечно, неважно.
— Это правда, что ты оставляешь девушку в таком положении и не хочешь жениться?
— Правда, — голос у него был совсем глухой.
— Почему? — спросил секретарь.
— Я не люблю ее...
Тут наше бюро заволновалось.
— Зачем же ты тогда обманул ее?
— Я не обманывал.
— То есть? — воскликнуло несколько голосов.
Володька так и не поднимал головы, только чуть поворачивал ее в сторону вопрошающего.
— Обманывать — это обещать то, чего потом не сделаешь. Я ничего не обещал. Или... если девушка глупая... неразумная и не понимает, что делает, тогда это тоже обман. Этого тоже не было.
Бюро наше собралось для того, чтобы наказать Володьку К. Еще бы! Натворил такого! Но вот он отвечает глухим голосом, глядя в пол и подергивая нервно бровью, и то, что он говорит, — верно.
— Минуточку, как же так? Ты с девушкой встречался, ухаживал за ней. Да или нет?
— Да.
— Больше ты ни за кем не ухаживал?
Володька оторопело посмотрел на секретаря.
— Нет. Что же, за двумя ухаживать?
— Ну вот. Значит, это была твоя девушка, единственная, и она это знала.
— Да.
— Как же так вышло, что ты обманул ее и оставил?
— Я не обманывал.
Тут наш секретарь трахнул ладонью об стол.
— Ну знаешь, Владимир К.! Не разыгрывай дурачка! Ты взрослый человек, вон, будущий отец, и ты на комсомольском бюро. Если ты не любил девушку, как смел ты вступать с ней в близкие отношения?
— Я любил ее, — еле выдавил Володька, — ...до двадцать четвертого декабря.
Мы просто обалдели. До какого еще... декабря?
— Изволь объяснить, — сказал секретарь.
— ...А после двадцать четвертого она мне стала противна. Я сам не знаю... Я никогда не думал...
— Двадцать четвертого декабря она сказала, что будет ребенок и сразу...
— Нет! Это потом... недавно. А двадцать...
Голос у Володьки совсем пропадает, он не знает, какими словами назвать то, что случилось двадцать четвертого. Да и как можно, господи, говорить такое вслух, для чужих ушей.
Да, это было трудное бюро. По письму сначала казалось — ясно. Наказать мерзавца. Ишь ловелас какой, небось уж другим головы морочит. А вышло...
Для меня, например, это было так странно, что Володька сказал. Я просто не знала, что так бывает. И он не знал. «Она мне сразу стала противна», — сдавленным горлом повторял он. Что было делать? Мы как-то растерялись.
— Почему? — пришлось спросить.
И тут Володька... он сказал, что девушка должна быть гордой, должна быть чистой, она должна быть недотрогой. По характеру девушки могут быть всякие: серьезные, веселые, мечтательные, пусть они кокетки и болтушки, но что касается их девичьей чести, их женского достоинства... они должны быть в этом одинаковы: недоступные. Недотроги. Только такую девушку можно любить.
— Ну, друг мой, хорошо ты поешь, — сказал наш секретарь. — Раз у тебя такой идеал (прекрасный идеал!), ты должен быть рыцарем. Ты бы берег ее, свою недотрогу.
— Нет. — И голос у Володьки стал твердым. — Она сама. Она сама должна беречь себя и защищать, если надо. За каждой девушкой в ее жизни ухаживает не один парень. Чем она лучше, тем больше у нее поклонников. Она не должна надеяться на их совесть... благоразумие, только сама на себя! Мало ли какие могут быть моменты — сама!
Володька облизнул сухие губы:
— Да если б она хоть оттолкнула, не говорю уж ударила... хоть испугалась... Но вам это все равно... Я не оправдываю себя. Но ни любить, ни уважать ее я не могу.
К окончательному решению бюро еще не пришло. Наказание будет серьезным. Но ведь просительницу устраивает только женитьба. Никто не волен приказать жениться. На нелюбимой — это вообще абсурд. Да и у нее-то ведь что выходит: он подлец, верните мне подлеца.
Когда Володьку, наконец, отпустили, наш секретарь — единственный в бюро мужчина, — поглядев на нас усталыми глазами, заключил:
— Вот так-то, девушки. Дорогие недотроги. Зарубите себе на носу.
Борька Апухтин сдал политэкономию на пять с плюсом. Этот плюс так и поставлен у него в зачетке. Экзаменатор сказал: «Я получил истинное удовольствие, беседуя с этим студентом». Молодец Борис.
Я сдала тоже на пятерку. Без плюса, конечно. Обыкновенная ученическая пятерка. Заурядная. Все ответила, и только. Но главное не в этом, не то я хочу записать. Вадим провалился. Вот.
Он пропускал лекции. Он называл это дебет-кредет. И даже сальдо-бульдо, это когда проходили прибавочную стоимость. А потом уж так и осталось. Так вот сальдо-бульдо можно и по конспектам выучить. Имелись в виду мои, так как своих не было. И мы с ним занимались. Он был ничего, зачет сдал даже первым и чувствовал себя бодро. Из четырех дней к экзаменам два раза по полдня он отсутствовал, сказал, что искал рубашку в широкую полоску (мне очень не нравится эта мода, но он ко мне не прислушивается и называет меня «черный колгот», то есть осовремененный «синий чулок»). Остальное время он занимался. У него хорошая память, и он, если надо, хорошо слушает. Мне казалось, он подготовлен ничего, если повезет, может получиться неплохо. А копнули глубже. Но это не главное, не из-за этого я пишу. Тут в конце концов все правильно.
Я сдала быстро и долго стояла в коридоре, объясняя Вадиму то одно, то другое (ну и ребята, которые не отвечали еще, тоже слушали). Вот он пошел. Мне надо было позвонить наконец маме, и я обещала потом ждать его возле столовой. Жду-жду, полчаса, больше... Что такое? Подошла опять к двери. Сдавала уже другая группа. Что-то неладно. Второй билет? Спрашиваю, открываю, наконец, дверь. Его нет. Он, оказывается, ушел.
Когда я продумала это еще и еще раз, то получилось вот что: обида моя напрасная, сгоряча. Если обратиться к Мессингу (какой переворот во мне сделал), а через него к моей маме, то надо же глядеть в человека. Мама угадывала настроение отца по звонку в дверь. Глубоко же она видела. Почему же я не увидела, не поняла той неловкости, стыда, унижения, наконец, которые испытывал тогда Вадим? Я сдала, и даже отлично, а он... Хотя мы занимались вместе, и он говорил, что это ерунда, сальдо-бульдо. Как ему было подойти ко мне, не показав всего этого? Прикинуться веселым простачком?
Вот если отбросить обиду (я жду, а он не пришел), то все встанет на свои места. И уже понятно, что он даже постарался уйти так, чтобы не увидеть меня.
А мама сказала:
— Вот так будет всегда. Тебе — ждать, ему — проходить мимо.
Мама не любит Вадима.
Что же? Если он гордый, это хорошо. Я ведь всегда страдала оттого, что он какой-то негордый. Несерьезный, ленивый, взбалмошный парень. Так далеко от моего идеала. И вот все-таки — он.
Значит, хорошо, что в нем есть гордость и мужское самолюбие. Не хотел показаться посрамленным. Отлично. Теперь он должен своротить гору и прийти победителем. Только так. Но я уже знаю, что все это я выдумала. Он не засядет сам за учебники, это труднее. Он попросит меня. И я буду снова его тащить.
По радио передавали урок внеклассной музыки из какой-то московской школы. Четким голосом учительница объясняла содержание музыкальных отрывков, затем включала магнитофон. Потом ученики третьего класса неуверенно пересказывали прослушанное:
— Ну... вначале тут… очень громко, вроде гром, а потом... лучше.
— Что же слышится, какие ассоциации?
— На «Оранжевый верблюд» похоже!
— Ну что ты, Зябкин! Думайте, думайте. Кто еще?
Никто не решался.
— Прослушаем еще раз!
Продолжалось музыкальное истязание. Мы занимались, нам это мешало. Вадим потянулся, чтобы выключить, но тут дали сельскую школу. Закончилась какая-то мелодия.
— Ну вот, — сказал молодой голос, — неправда ли, как радостен, как светел солнечный луч, как оживает земля там, где он коснулся... Нет, здесь не буйство, не пышное цветение, еще только начало, только весна...
Мы подождали выключать.
— ...Норвегия — северная страна, с суровым климатом, с каменистой скупой почвой, поэтому первый луч солнца так радостен, так долгожданен... Норвегия — суровая страна, а Григ — ее сын.
— Сильна училка, — сказал Вадим.
Он просто не хотел подбирать других слов, но это была большая и настоящая похвала. Ну что ж, пусть будет училка, и она действительно сильна. Так говорила, таким голосом, что мы заслушались. А ее ученики, они — счастливцы, что учатся у нее. Вот полилась чудесная «Сольвейг». О чем поет она?
— О том, что она... любит, — сказала третьеклассница тонюсеньким голоском. — Пусть он уходит в море... в холодное море, а она любит.
— Хорошо, Верочка. А еще? Миша, ты?
— А еще пусть он не грустит, ну... это... не беспокоится насчет нее.
— Правильно, Миша. Пусть он верит в ее любовь. А что же, надолго они расстаются, — как вы слышите в музыке? — или он вернется сегодня вечером?
— Надолго, — сказали дети. — Она знает, что надолго.
— И будет ждать!
Вдруг мальчишеский голос крикнул:
— Она будет ждать всю жизнь!
Как обрадовалась учительница! Она выхватила этот голос из нестройного гомона:
— Спасибо, милый! Ты очень, очень хорошо сказал: она будет ждать всю жизнь! И она ухватилась за этого мальчика, и не потому, что он коротко и верно определил смысл «Песни Сольвейг», но и потому еще, что хотела, чтобы он сохранил в себе эту веру в преданность и чистоту, сберег ее долгие, долгие годы, тоже всю жизнь.
— Да, — сказал Вадим, — из всех человеческих качеств я больше всего ценю верность. Можно иметь много недостатков… но если верность — то это все.
— Смотря чему.
— Нет, я имею в виду — настоящему делу, настоящему человеку.
Я и раньше знала, что он очень хочет иметь верного друга и быть таким сам.
Сегодня сдала терапию. Хочется спать. Сейчас легла бы и проспала до завтрашнего утра. Но это, конечно, невозможно. Позвонил Борис Апухтин. Помялся, помялся и пригласил на выставку чеканки. Отказалась. Он сразу замолчал, видно, растерялся и стал извиняться:
— Я думал... свободные полдня... Ну, извини. Я думал, тебе будет интересно... Чеканка.
Мама слышала:
— Почему ты не пошла? Прекрасная выставка, и немного отвлечься. Это Борис?
Я не хотела говорить, что буду заниматься политэкономией с Вадимом. Но у него дома ремонт, а учить в парке я не хочу, он плохо там усваивает — и придется все же у меня.
— Отдай ему тетради и пусть учит сам! — возмутилась мама. — Ты везешь его, как воз.
— Я не везу, просто он плохо разбирает мой почерк.
У мамы стали глубокие глаза:
— Боже мой, да кто же, как не он, должен разбирать твой почерк?
А ведь действительно, кто же?
Хорошо, что у меня есть ты, мой друг, мое второе я. Только тебе я могу открыться. Ни подруге, ни маме. Хотя другие девчонки рассказывают. Легко рассказывают и не шепотом даже, не с глазу на глаз. Провожал парень и поцеловал в парадном. Так просто, как будто конфетку съела. А у меня же не то. Не провожатый — любимый.
На лицо мне упал цвет черемухи (она как раз облетает). Вадим наклонился, я думала, он хочет сдунуть, но он приник губами... Я только успела заметить этот крохотный лепесток на его губах, а потом все пропало, он утонул в море поцелуев... Глаза, лоб, все лицо... Мы шли потом парком и молчали.
— Это черемуха виновата, — сказал наконец Вадим. — Пусть всегда цветет черемуха.
После благополучной (на тройку) пересдачи политэкономии Вадим упал с мотоцикла и сильно повредил себе колено. Лежал в травматологическом отделении. Я сначала испугалась, но оказался просто ушиб, никаких переломов. А на четвертый день стало хуже. Гонит, пункция сустава, боль, температура... Коленный сустав очень сложный и капризный. Хирурги встревожились.
Когда я пришла, Вадим был непохож на себя (не спал ночь): румянец пятнами, губы потресканы, а может быть, покусаны. В этот день не пустили к нему мать. Мне от этого стало жутко. Наших ребят не пустили тоже, только меня как старосту группы, ну, и потому, что Вадим просил. Он сказал:
— Мне могут ампутировать ногу.
Вот все считают, что я сильная, собранная и разумная девушка. А ничего подобного. Я так растерялась, что ничего не могла сообразить. А ведь я об этом думала, я ведь думала, но я не ожидала, что он это скажет и что, значит, все это уже реальность.
— Ты слышишь? — сказал он гневно. — Или тебя это не касается?
— Я слышу, — сказала я спокойно. Значит, я все-таки умею владеть собой. — Этого не случится, что ты! Но если случится — как это не касается? — я всегда буду с тобой.
Вадим схватил мою руку, стиснул ее больно-больно и прижал к своим глазам. Он плакал.
Итак, мой старый дневник. Боже, какой ты старый, как будто писал тебя другой человек, в другом времени. И вот теперь, через два месяца, берет в руки совсем-совсем не та девочка. Мне уже не надо выдумывать второе я, мне просто можно обращаться к той девочке, как к младшей сестренке, настолько я стала взрослой. У меня теперь нет охоты писать, но я сделаю это, чтобы подвести черту.
Теперь я уже студентка четвертого курса. Не то. Это само собой. После третьего будет четвертый. Теперь у меня нет никого. Нет любимого, нет родных. Впрочем, все это вздор! Надо взять себя в руки. Я не хочу быть и никогда не буду слизняком. У меня все есть. Я молода, здорова, достаточно красива (между собой-то мы можем это признать). У меня чудесная мама, отец. Я поступила так, как я считаю правильным. Мне не о чем жалеть. Только я не могу сейчас об этом писать. Потом.
Я приехала с практики. За два месяца я загорела и выросла. Оказывается, я еще расту. Просто смех и грех!
Село Петушки — самое среднее село Рязанской области (в том смысле, что и дворов немного и работников мало), но в нем отличная больница. Одна на девять деревень вокруг.
Мы разместились в недостроенном корпусе. Все было бы хорошо. Впрочем, и так хорошо. Я никогда не знала, что такое полдень (или, как тут говорят, полдни), когда жар просто струится с неба, когда люди, измотавшиеся к этому времени, пыльные, потные, возвращаются с полей и, наспех пообедав, падают где-нибудь в тени (на дворе, в сенях, на сеновале) соснуть короткие час-полтора, чтобы опять, когда схлынет немного зной, идти в поле.
Я никогда не знала, как дышит за стеной корова, похрупывая жвачку, как может вдруг она горько-горько вздохнуть, безнадежно, и тут уж нельзя не подумать, что ведь она отчего-то вздохнула так, отчего-то? И многое, многое.
Ну, а сама практика? Что и говорить? Я уже принимала роды. В телеге! Она вздумала пойти по малину, эта Мариша. Она не верила акушерке, она сама высчитывала срок и просчиталась на неделю. В малиннике у нее начались роды, и прибежала одиннадцатилетняя девчонка. Акушерка была в то время на патронажном обходе в Выселках, а Григорий Иваныч, хирург, разрешал роженицу с поперечным положением плода. Мы как раз присутствовали при этом «повороте на ножку». И вдруг — эта девчонка. Григорий Иваныч велел мне взять лошадь (была, к счастью, свободная) и привезти Маришу.
Я первый раз держала в руках вожжи, а наша Стелла (Стелла — звезда. Имя дал Григорий Иваныч — у нее на лбу белая звездочка) довольно капризная. Она сразу поняла мою неопытность и все норовила свернуть в сторону, в овес. Тут девчонка Сашуня перестала плакать, взяла у меня вожжи, по-хозяйски хлестнула кобылу:
— Н-но, пошла!
И она пошла. Мариша уже корчилась на земле полусидя, обняв комель осины. Она не могла подняться, и мы с Сашуней стали ей помогать.
— Уйдите, де-евки... сме-ерть, уйдите! — выла каким-то низким голосом Мариша и отталкивала нас. Я ей говорила, что надо же в больницу, мы сейчас же доедем.
— Ой, по-оздно, сме-е-ртушка! Отойдите!
У нас еще не было акушерства — это на старших курсах, но я знаю, что роды вот так, за полчаса, не происходят. Женщина рожает сутки! Чего же она нам — поздно!
— Да у меня-то уж... третий. Я скоро... сейчас.
Оказывается, второй, третий, ну, и так далее ребенок родится уже быстрее. Но тогда я не знала и стала сердито (я очень все-таки испугалась, да Сашуня еще вся дрожит) ей начитывать, что она вот не слушается и ходит куда не нужно и рожает, где не нужно.
В телегу мы ее все же уложили (прошли схватки, и она довольно легко встала сама и даже совершенно нормально перетрясла сено в телеге — от головы под поясницу) и тронулись.
— Ой, де-евки, ой, ти-ише! — без конца стонала роженица и все хватала меня за руки.
— Ничего, ничего, — говорила я бодро и надеялась, что уж теперь-то три километра доедем. Но она вдруг перестала кричать, вся напружинилась, обхватила живот. Сашуня взвизгнула и мигом слетела с телеги.
— Принимай, принима-ай... — прохрипела Мариша.
В этот момент я опомнилась. Лошадь почему-то стояла, я была одна, женщина рожала. Я открыла бикс, взяла стерильные салфетки прямо руками (по-медицински непростительно грязными руками) и совершенно не представляла, что я буду ими делать.
— Ы-ы-ах! — натуженно крикнула Мариша, а во мне колыхнулось раздражение: что там еще? Действительно, есть больница, акушерка, предупреждена о сроке, так нет, видите ли сама всех умнее, по малину пошла. А теперь... а-ах!
Я хоть и быстро доставала салфетки, я торопилась, но вместе с тем невольно оттягивала... и боялась откинуть ей юбку. Я все-таки надеялась, что мы доедем. Но вдруг это ы-а-ах! — и какое-то шевеление. Боже мой!
— Бери, бери... — прошептала сердито Мариша. — Пуповину...
К счастью (как потом оказалось, иначе и быть не могло), в биксе у меня нашелся скальпель, шнурочки из бинта. Мариша приподняла голову и проверила, так ли я перевязала. Мальчишка орал и болтыхался, я уже как-то не очень соображала, и больше всего меня смущало, что он весь вывалялся в сене, оно прилипло ему к спинке, к животику, и я все старалась салфетками его вытереть.
— Заверни-и, — сказала Мариша. — Скинь с себя что-нибудь...
У меня под халатом была только комбинация, я в нее и завернула этого своего первенца. И надо сказать, он выглядел ничего, правда, немного не по-мужски: весь в нейлоновых кружевах.
Я держала младенца, Стелла сама шла домой. Примерно за полкилометра до больницы к нам прибежала запыхавшаяся Лида, акушерка.
— У нас все в порядке! — сказала я с законной гордостью и показала кружевного мальчишку.
— А послед?
Здравствуйте! Еще вам послед. А вообще-то я ведь об этом знала. Ах, поручик Ромашов, мы опять закосили линию. Но с нами была Лида, мы подъезжали к больнице, и все закончилось хорошо.
Вадим приехал к нам на практику всего лишь с восьмидневным опозданием. Он ходил уже даже без палочки, только немного прихрамывал. Он сказал, что много-много передумал в больнице и понял, что многое ему не дано свыше: таланта, призвания и так далее, во многом он виноват сам: в лености, нетребовательности к себе, но одно счастье у него есть.
— Какое? — спросила я.
— Ты.
Я думала, он скажет здоровье и что не отняли ногу, а он — ты! Я была рада, потрясена — ведь это и есть признание. Мы с ним никогда не говорили об этом. Мы давно дружили, я давно, кажется всю жизнь, его любила, но я не знала, как он... Это само собой подразумевалось, но он мне не объяснялся. Да, в больнице, на краю такой катастрофы (потерять ногу в двадцать лет, теперь, не на войне, а теперь...), он, должно быть, впервые серьезно, по-взрослому пересмотрел свою жизнь, себя и меня...
Я была счастлива. Мы убежали в овраг. Я думала, что не забуду этого дня никогда.
Потом я просыпалась утром, и первое, что было, — Вадим. То есть я уже много-много дней просыпалась с этим именем, но все было не так. Он меня любит! Я его счастье.
В нем что-то переменилось после больницы, он стал серьезнее, наверно, он стал взрослым. Я так думала. И вот мне делает признание взрослый мужчина. Четыре дня я жила жизнью счастливого человека.
А потом акушерка Лида и мы, трое практикантов, пошли на Выселки делать детям прививки. Когда закончили, надо было идти в другое село за два с половиной километра, и для Вадима это уже много, натрудит ногу, Лида его отпустила. Но он был в Выселках первый раз и мог в лесу сбиться с дороги, так нас отправили обратно вдвоем.
И вот мы шли лесом, два счастливых, любящих, как я думала, человека.
— Тебе хорошо со мной? — спросил Вадим.
Мне было так хорошо, что почему-то хотелось плакать. Вадим не понял и удивился:
— Ты что? Что с тобой?
— Мне хорошо... мне хорошо... Я люблю тебя.
У него было прекрасное в этот миг лицо. А когда я крикнула: «Ты с ума сошел?» — и вырвалась, лицо это исказилось злобой.
Я испугалась.
— Сколько нам лет? — спросил он грубо. — «С ума сошел!» — передразнил меня. — Мы третий десяток разменяли, что ж, так и ходить с тобой за ручку?
Я не верила своим ушам. Какие слова... циничные, грубые, какое лицо, голос...
— Ты погляди на своих ровесниц, что ж, они с парнями только уроки учат?
Потом, вот теперь, я допускаю, что, может быть, можно и так сказать. Действительно, мы люди взрослые. Но дело не только в том, что сказать, но и как. Голос, лицо... было столько издевки.
— Не смей чернить других! — крикнула я.— Поливать грязью!
— Чернить! Ха-ха-ха!
В общем, я не хочу даже писать всего этого. Он был взбешен, наверно, потому что весь дрожал и кричал мне в лицо гадости. Выходило, что я не живое существо, а имею только вегетативную нервную систему. То, что для всех «нормальные отношения», для меня «поливание грязью». Я не стала слушать и ушла.
Вадим не вернулся тогда в больницу, и все подняли тревогу. Мне очень не хотелось, но пришлось сказать, что мы поссорились. Выходило, что я бросила в лесу товарища с больной ногой. Но он вполне мог прийти один, потому что расстались мы недалеко от Петушков и заблудиться было нельзя. Я испугалась, не натворил ли он чего-нибудь, он был не в себе.
Все студенты и больничный персонал вышли на поиски в лес, кричали и жгли костры всю ночь. Утром он явился с электрички. Ездил домой. Все были возмущены, но он сказал, что ездил в свободное послерабочее время и к работе утром пришел без опоздания, так что какие же могут быть претензии?
А я даже не знаю, что у меня творилось внутри. Разгневана я была? Да, но это не то. Обижена? Слишком мало. Потрясена? Может быть. Оказалось, что во мне не только вегетативная нервная система.
Девчонки меня утешали, кто как мог, но и сами они ничего не знали. Я не люблю такого всеобщего содействия, это не в моем характере, но тут уж от меня не зависело. И только с Тамарой Родиной хотелось поговорить. Я ее узнала лишь теперь, она поступала на год раньше, вышла замуж, родила дочку и отстала от своего курса. На практику попала с нами. Она сама подошла ко мне, увела за село и что-то очень хорошо говорила. Я ей верила. Все-таки это женщина, которая старше меня на полтора года, замужняя, мать...
Она очень просто сказала, что ничего страшного не произошло. Это бывает почти с каждой девушкой. Когда-то любимый парень подходит к этому. Я оказалась молодцом. Она в свое время сделала так же.
— Да? — спросила я, и в груди у меня что-то радостно вздрогнуло. — И ты... это твой теперешний муж? И ты не возненавидела его?
Она засмеялась.
— Нет. А он сказал, что после этого меня поставил на пьедестал. Что если бы я не проявила стойкости — ведь я любила его тоже, это было бы понятно — он не изменился бы ко мне, мы поженились бы тоже и все было бы хорошо, но после этого...
Я как-то успокоилась, хотя было непохоже, что Вадим поставил меня на пьедестал.
Я живу дома четвертый день (завтра на учебу), и мама удивлена, что нет Вадима. Не звонит, не приходит. Мне надо бы ей все рассказать, теперь-то уж надо. Все равно ведь придется. Но я как-то не могу, не выносила в себе, что ли? И потом я знаю все, что она скажет, она будет рада. Я не хочу видеть эту радость. И мне пришлось, хоть это и неприятно, сказать, что он уехал в Калугу. На несколько дней это избавляет меня от объяснений.
Он не поставил меня на пьедестал. Неделю он со мной не разговаривал. Помилуйте, за что? Ходил с таким видом, будто это я его оскорбила. Потом он пришел вечером в нашу девчачью комнату и, только поздоровавшись с порога, попросил меня выйти. Мы сидели у сарая под навесом. Шел дождь.
Да, он извинялся, он даже просил прощения. Но все как-то так... все получалось, что он не сдержался потому, что это я его вынудила, я заставила. Извинялся, а все мою вину выставлял. Я думала, он скажет что-то другое. Ведь он теряет меня («мне многое не дано, но одно счастье у меня есть — ты»). И он действительно сказал, что не может без меня, он любит, но уже достаточно мы «ходили за ручку». Так дальше нельзя.
Мы говорили с ним раньше о женитьбе студентов первых курсов, наших ровесников, и оба считали, что молодежь напрасно торопится с этим, что сама она не может справиться с домашними делами (магазины, стирки, уборки), а с появлением ребенка — тем более. Ранние молодожены не дают своим родителям состариться, и этим бабушкам еще очень далеко до пенсии. Заниматься с ребенком некому. Значит, жениться надо немного позднее, чтобы быть уже хозяевами, а не иждивенцами. Мы не говорили лично о себе, но ведь это само собой разумелось.
И вот теперь... Он же не делает мне предложения. Я знаю, он сейчас же скажет мои же слова — не надо быть иждивенцами.
Значит, предложения он не делает. Возможно, он прав, утверждая, что тем, кто любит, необязательно ждать «печати» (так он называет регистрацию). Может быть, и не обязательно. И я даже не боюсь, что люди скажут (он упрекал меня и в этом), хотя, конечно, ни один человек не должен добиваться, чтобы о нем говорили плохо. Я просто ТАК хочу. Я сама так хочу, чтобы сначала я была любимой девушкой, потом невестой, а потом женой. Белое платье невесты — это символ чистоты. А Вадим сказал, что это чушь, ерунда, этот символ, и никому это не нужно. У меня после этого что-то сломалось внутри. Как будто он стукнул кулаком.
Как интересно: все, о чем я тут написала, уместилось у А. Коллонтай в двух строках. «Чем чаще делаешь больно тому, кто любит, тем легче вместе с болью сочится из сердца и капля любви».
Мое сердце роняло столько капель, что вот теперь уж, наверно, не осталось ни одной.
В магазине рабочей одежды я купила себе импортный медицинский халат. Ой, какой симпатичный! Полукруглый воротник и перламутровые пуговицы посредине. Мне очень идет. Ха-ха! — значит, я жива. Это симптом выздоровления — радоваться своей внешности. А я рада, я примеряла его несколько раз. И это при том, что я вовсе не модница, «черный колгот». Подстричься надо покороче, лицо немного осунулось, будет круглее.
Да, ну что же? Надо рассказать маме. Она будет рада. Пусть хоть она радуется, сколько я ее мучила.
А я? Я не хочу быть другой. Замуж выходить я буду в белом платье. И надеюсь, что встречу человека, для которого это важно.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





