ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

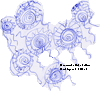

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ситнова Ольга 1980
Анастасия Евграфовна Метельникова приехала в свое родное село затем, чтобы продать дом и возвернуться на городское житье к дочери.
Из троих ее детей удачнее всего, с чисто житейской точки зрения, получилась семья у старшей, Аннушки. И вот, выйдя на пенсию, Анастасия Евграфовна, передав свой бессменный председательский пост в сельсовете, в тоске и маете смены жизни подалась к детям. Предлог вполне солидный, вызвавший одобрение у всех в округе.
Под этим предлогом так хорошо скрыла она свою растерянность, вступив в неведомую ей пору пенсионерства, что лучше и не придумаешь.
Анастасия Евграфовна знала, что первым делом надо было ехать к Аннушке и, укрепившись там на постоянность, навестить Таню и Леху — горемычного своего Алексея. Но это бы значило сразу признать свою старость. А в пятьдесят пять лет ей не хотелось жить старухой, только вот занеможилось немного, это да. С чего — неведомо. Вялость в душе, пустота и безразличие, будто осенний ветер-свистун ворвался в сад, сорвал все до листочка и начал швырять их вороха туда-сюда. Дрожмя дрожат молоденькие яблони... «Ох ты, сад, ты мой сад, сад зелененький...»
Вот потому ехать пришлось к Тане.
Дети у Анастасии Евграфовны пошли друг за другом: Аннушке сейчас тридцать четыре, Тане — тридцать два, Лехе — тридцать. У девчонок уже ребятишек по паре — распочковалось, разветвилось родословное дерево.
Таня встретила ее хорошо, да побыть там долго нельзя было: и тесно, и шумно. Муж выпивал.
— И что в такой тесноте ютиться, — опять взялась за свое Анастасия Евграфовна. — Сколько в деревнях домов пустует! С радостью примут! И детям вольготно, и оба работу найдете.
В свой дом она не звала, родное село Таня никогда как будто особенно и не любила. Зато рядом с большим ее городом были хорошие, крепкие совхозы.
Таня уже ничего не возразила матери на этот раз, и оттого стало еще тоскливее: отмахивается дочь от ее неразумных речей, мимо ушей пропускает.
Но через день упорная Анастасия Евграфовна начала свое:
— Деревня не люба, учеба тоже. Учился бы твой Юрка — и пить некогда. Ведь толковый, прораба замещал.
Но Таня расценила этот совет как упрек. Юрино временное прорабство было периодом процветания семьи, надежд и относительного отрезвления главы. А после муж запил еще сильнее. Уволили из стройуправления — потеряна возможность быстро получить квартиру.
— Когда теперь учиться? И где? — развела руками Таня. И добавила: — Ты вон с десятилеткой прожила не хуже, чем иной с институтом. У соседей наших сын работает шофером — лучше не надо.
Таня, худая, задерганная, вызвала острую жалость у Анастасии Евграфовны. Ей хотелось дать последний совет: уйти от Юрки, забрать детей и укатить вместе домой, в деревню. Но совета такого давать было нельзя, да и бессмысленно: только лишняя перебранка, тем более что никуда Таня от своего благоверного не уедет. Любит. «Как можно любить такого? И оскорбит, и щелкнет...» — в который раз думалось с глухим недоумением и опаской: опять она что-то недопонимает. Вот, почти прожила жизнь, а чего-то в человеческих отношениях так и не поняла...
Она обстирала, обласкала внуков — хорошеньких, в отца, мальчишек и подалась к Лехе.
Алексей в их роду самый ученый человек. Если Аннушка дальше средней школы не пошла, Татьяна окончила торговый техникум, то Алексей — политехнический институт и вдобавок аспирантуру. Вот аспирантура-то, считает мать, и подвела его. Погубить не погубила, но и покоя, основы лишила. Затеял Алексей что-то разработать, все силы свои молодые ухлопал, а отдачи — никакой. Будто бы невыгодное дело затеял, хотя многие хвалили. И если б не умер на ту пору какой-то большой человек, продвинул бы Лехину работу... Анастасия Евграфовна особо жалела Леху, но считала, что он тоже заблуждается. Ведь есть же другие большие люди, не все же разом умерли, что ж они-то тогда молчат...
И семьи у рослого, но изможденного, как и Таня, парня не получилось. Повертелась немного в его общежитской комнатке курящая, в мужских штанах дамочка, да и пропала.
Ни кола ни двора. Пора бы не только жену — детей заиметь. Так недолго и запить, заболтаться — вот чего пуще всего боялась мать.
И, оглядывая его казенное житьишко, смахивая пыль с полированной мебели, подшивая рубашки и штопая носки, она и тут начала привычное:
— Ехал бы в деревню. Поставили бы тебя главным инженером. Вот и верши! Механизация сейчас на селе — дело правой руки!
— А вот и приеду! — весело, как и всегда, заверял сын.
Он весь расцветал с ее приездом, и мать, грешным делом, опять тянуло остаться при нем верной собачкой — устроиться вахтершей, уборщицей в общежитии, встречать и провожать своего меньшенького, своего единственного, долгожданного сыночка, подкармливать его, утешать и твердить, что вот, мол, погоди, заметят тебя и узнают, кто ты есть таков... Она даже плакала тихонько над Лешенькиной трудной писаниной, желала, чтобы он забросил ее, нашел хорошую девку и начал жить, как все: квартира с сервантом, ковер над тахтой, вкусные запахи из кафельной кухни... Но в душе у нее неистребимо жило какое-то оробелое изумление, восхищение сыном. Вот он у нее какой: мучается, но не сдается. И изможденность у него была другая, не Танина: у той — от ребятишек, от мужа, от тесноты, стирки, кухни; у него — от дум, от споров, от сознания непризнанности...
Все-то понимала мать, да помочь не могла.
И ехала к Аннушке — отогреть сердце. И за уютным семейным столом, где спокойный, хоть и неразговорчивый, зять называл ее чинно мамашей, где все ломилось от изобилия, где были и ковры, и сервант, где две девчонки, внучки, шалили в меру, она, блаженно попивая крепчайший — для нее — чаек, пробуя, чтобы не обидеть дочь, пять или шесть сортов варенья кряду, все томилась памятью о тех своих — двоих несчастливеньких, и душноватым казалось ей прочное, как крепость, семейное счастье Аннушки, краснощекой, налитой, с животиком-самоварчиком, в ярком дорогом платье...
Поди узнай, что человеку надо, что он хочет в неуемной своей тяге к добру, к хорошему, к справедливому, к счастью...
Было бы у Тани, как у Аннушки, жил бы Леха в свое удовольствие — может, не металась бы она, Анастасия Евграфовна, не спешила бы продать домишко, ждала бы каждый раз по летней поре гостей из трех городов.
Домишко... Легко сказать, когда это домино целый, о семи окнах по переду, под цинковой крышей, с большим садом, колодцем и прудиком... Как его продашь? Не кому, не за какую сумму, а именно как, когда сердце кровью обливается при одной мысли, что больше не ступишь на эти приступки, не пройдешь по его половицам, не растворишь дверь в горенку, не насидишься в чистой его половине, где и воздух-то какой-то особый, чистый, не полежишь на печке...
Ее подруги каждый день идут по своим прежним делам: одни — на ферму, другие — в совхозную контору. Лизка, школьная техничка, с веселыми выкриками, как всегда, спешит в школу. Задрав голову, пылая всем лицом. Многие приезжие поначалу принимали ее за пьяную. Да если она не утерпит, «форсонет», бухнет что-нибудь из молодости — шутку-прибаутку какую... Если при встрече, как вчера, например, начнет свою любимую — «Настасья, стой!» — затыкай уши... Гогочет, все ей нипочем. Дочь разошлась с мужем, ребенка ей сунула, а она, Лизка, будто и рада. Еще и похвалится:
— Я с Нинки — ни копейки. Сама его ращу. Вишь, пряников-то что ему покупаю. Нинка не верит, что он охоч до них: в городе не ел. А у нас тут особые, молотком не раскокаешь! — и подмигивает продавцу, одноглазому Литвину.
...Да, подруги старые ее пошли по своим делам, а она, Евграфовна, вон что удумала: продавать дом.
Вчера принесла из омета соломы. Вечером на огонек ввалились подруга. И всего-то не была чуть, с месяц какой пустовал дом, пока она объезжала детей, а здоровались так, будто их Евграфовна уезжала за границу на год-два...
И то ли по этой одной причине, то ли перед разлукой, то ли потому, что по-осеннему распогодилось («Косточки болят, все тело ломит, поднеси-ка, Настя»), но засиделись они долго, смеялись и охали, перебирали все, как старую кладь из сундука при переселении — и неторопко, и споро.
Надождило за ночь, а к вечеру, похоже, закует. Выяснивается, и ветер холодает.
Анастасия Евграфовна потому и натопила по второму разу — после вчерашнего-то — жарко, опять подержала немного дверь настежь (рамы она вчера же, не давая себе ни минуты передышки с дороги, вставила), чтобы не было угару в давно не топленном дому. Очень томили думы, потому и находила разные дела, чтобы отделаться от одной, особо назойливой: приехала, вернулась, вот и сиди тут, погляди-ка, все родное, каждый пустяк...
На дворе было тихо — ни пыха ни дыха. А двор — двойной, перегороженный. «Хоть овец пускай, все хрустят», — мелькнула мысль, и Анастасия Евграфовна поразилась, отругав себя: вот ведьма, одно на уме. «И сенцо еще не распродано, как раз на четырех овечек хватит», — опять подсказалось словно со стороны, словно той же Пашуткой, соседкой.
Картошки целый подвал. Хорошая уродилась. Куда девать? Да что горевать — мигом раскупят, пусти подешевле. У всех скотина на дворе, дело к зиме.
Решила намыть полы. Воды два чугуна в печи. Принесла можжевельнику с чердака, насадила на шест — опахнула пыль по углам. Ошпаренный можжевельник наполнил дом тем особым духом порядка, большой семьи, когда по весне затевалась генеральная уборка и все мылось — от потолка, полатей, стен до каждой жердочки, полочки. Мать руководила делом, а три ее дочери старались одна перед другой.
— Ой, больно, — сказала вслух Анастасия Евграфовна, занозив палец о переборку.
«Еще бы не больно, — садясь и вытаскивая занозу, сказала она, но уже не вслух. — Еще и как дерет-то, того и гляди вся душа наизнанку вывернется. Дом-то продашь, а память с тобой будет. Вся жизнь тут прошла — всю жизнь и будешь тут в мыслях бродить...»
Она намыла полы, сени, крыльцо. Устала. Поела наскоро печеного (в городе не такой) супцу — и на печь. Хворь, если завелась в дороге и сегодня от хваткого мытья, — хворь эта выйдет сама, проваляйся несколько часов на горячих кирпичах, подложив под бок пальтушку. Она задремала, потом уснула крепко, разнеженно — должно быть, довольная тем, что спит у себя дома, на своей печке, в чистоте, тепле и на просторе... А когда просыпалась, уловила настойчивый запах герани: спрыснутая перед уборкой, герань эта, с резными листочками, которую отдала беречь Лизке и та сберегла, зная, что это любимый подругин цветок, — герань эта пахла на весь дом, победив даже можжевельник.
— Славный цветок, душистый!
Ведь так было сказано, слово в слово.
Ты принесла в его комнату специально, чтобы порадовать больного.
И другой голос:
— Фи, какая гадость! Вонючка.
Вот, матушка Евграфовна, давай-ка не таись. Одна, без Лизкиного вчерашнего подзадоривания, вспомни-ка. А что тут вспоминать: ничего не забыла.
Военная осень. Вот-вот снег пойдет. В Калинине немец. Село заполнили беженцы. В их большом доме расселились две семьи. А из большой семьи хозяев остались только мать и дочь. Отец с сыном на войне, одна из дочерей взята на рытье окопов, уехавшая на курсы медсестер Анюта так и затерялась: пришло два коротеньких письма с просьбой не беспокоиться, она напишет после длительного перерыва — и все. Все еще длительный перерыв.
Семьи к ним поселились интеллигентные, знакомые меж собой, но уже утром, у печки, десятиклассница Настя услышала шепот: одна из женщин сообщала Татьяне, Настиной матери, что больной в другой семье — больной особый, у него туберкулез, надо бы в сельсовет ей пойти как хозяйке, чтоб отделить больного.
— Куда ж его отделять? У нас места много, пусть Лешину комнату займет, а женка ухаживать будет, — распорядилась хозяйка, и Настя бочком подскочила к матери, приластилась, будто ожидая первый блин, который еще пекся на углях: она благодарила мать за то, что та не пойдет в сельсовет, чтобы «отделить» больного.
Больной этот, бледный черноволосый мужчина, вчера, перед тем как лечь, попросил Настю принести ему из школы что-нибудь почитать — из расчета на два-три дня.
— Зачем из школы? У нас дома есть. Леха, старший брат, в Тимирязевке учился, на последнем курсе. Уж у него книг!..
И убежала в холодную горенку: туда перенесли все книги, освобождая в доме побольше места.
Она принесла несколько, и Вячеслав Гребнев, двадцатисемилетний пианист, выбрал одну: стихи Некрасова.
— Деревня подсказала выбор, — улыбнулся он и принялся читать, а Настя растерянно стояла подле, ожидая второй такой улыбки.
Сколько времени прошло, она не знает, только больной вдруг поднял голову и вопросительно-недоуменно посмотрел на нее, а она, спохватившись и заливаясь стыдом, что-то залепетала про тепло в доме, про витамины в яблоках и моркови... Он все смотрел, уже внимательно, и тут Настя словно увидела себя в его глазах: стоит рослая полногрудная деревенская деваха, влюбившаяся с первого взгляда, стоит и ждет, когда ее заметят.
И он улыбнулся — ласково, признательно, мягко, почти нежно. А потом, нахмурившись, принялся опять читать.
Она убежала, раздетой промчалась через весь сад, ворвалась в сарай и упала на ворох холодного жесткого сена, приготовленного для коровы. Испуганная мать опустилась рядом.
— Кого? — спросила она. — Отца или Лешку?
И тогда Настя, поняв испуг матери, медленно поднялась на сене, сгребая не сено вовсе, а свою ненужную, несчастливую и нелепую первую любовь. Сгребла, поднялась, отряхнулась, взвалила на плечо мякинную корзину — впервые и навсегда освободив мать от этой работы, с тем чтобы день за днем отбирать все больше и больше дел у нее, которой предстояло похоронить в неизвестных полях одного за другим самых дорогих: мужа, сына, двух дочерей...
А Настино счастье, когда рядом был любимый человек, длилось всего три дня. В один из них она принесла Вячеславу корзину яблок, горку очищенной моркови, в другой — молока и меда, в третий, самый счастливый, — герань. Был вечер. Жена Вячеслава, казавшаяся Насте не по-земному нежной и воздушной, тогда-то и фыркнула на герань, а заодно, возможно, и на неуклюжую хозяйкину дочку, которая что-то зачастила в небольшую их комнату.
В этот момент, словно смеясь над гневом красавицы, которой не повезло с мужем, и раздалась под окном частушка неунывающей Лизки:
Калина красная, листки зеленые.
Не видишь разве ты, что я влюбленная!
У Лизки тоже никого не было, Настя это знала. Но пропела она с задором, бесшабашно и с расчетом: частушкой вызывала Настю, так как Лизка стеснялась зайти в переполненный дом. А Настя не могла выйти, ведь завтра беженцы уезжают, едут куда-то дальше.
Куда им надо ехать, зачем — зачем мучить больного человека? Ведь такая тяжелая дорога да еще погода... Оставили бы его!..
Но, посмотрев еще раз на семейную пару, Настя поняла, что Вячеслав Гребнев не останется, а вот его оставить могли бы... Какое-то тоскливое ожидание было на его лице, когда он взглядывал на жену, тогда как она почти и не смотрела на него.
Насте хотелось тяжело опуститься на табуретку и разреветься, хотелось уйти из комнаты, но ей казалось, что больному будет еще тяжелее. Да и она потом не простит себе, что так мало поговорила с ним напоследок. Да и о чем говорить-то? Жена, как маятник, ходит по дому. Какие-то бессвязные, отрывистые слова; собирают узлы, упаковывают чемоданы, рюкзаки. «Не отдать ли ему Алешкину овчинную телогрейку? А вдруг война скоро кончится, приедет брат — где телогрейка?» — сидя на табуретке у столика, рассуждала Настя.
— Ну что, Настя, — отложив книгу, говорит наконец Гребнев, говорит так, будто только что их прервали. — Я бы звал тебя Асей. Есть в тебе что-то от тургеневских девушек, да-да, не смущайся, я ведь говорю с тобой в последний раз. Но и в первый, не правда ли? Вон ты какая сильная, и в то же время есть в тебе что-то хрупкое и деликатное. Ты должна помнить о своей привлекательности, я это говорю специально, а то, вижу, чуть ли не в монастырь собралась. Не годится! У тебя еще должны родиться дети — хорошие, крепкие, я в этом уверен... Ну что, Леночка, ты подслушиваешь? Нехорошо. Да и не интересно тебе — любопытно. Ладно, Настя, мне нужно побриться. Извини.
— Я посижу.
— Ну, сиди, сиди.
Она сидела и думала: «Как можно хорошему человеку продолжать любить плохого? Ведь ясно, что его не любит жена».
— Давай договоримся, — повернулся он к ней с намыленной щекой, как в маске. — Кончится война, ты приедешь в Калинин, и я буду играть для тебя в филармонии — при условии, что мои легкие не подведут.
Она кивнула, потом опомнилась:
— Не подведут, не подведут!
— Если б меня взяли на фронт, я бы там поправился за неделю. Защитные средства организма, слыхала об этом? Но доктора не понимают! Они же здоровые, потому и не понимают. Бойцы спят на холодной земле — и ничего. Вот что такое защитные средства, особая ситуация. И главное, двойная польза: и фрица бью, и себя излечиваю.
Ей хотелось поцеловать его, даже при жене.
Утром беженцы уехали, и в книжке со стихами Некрасова она обнаружила его запонку и записку: «Настя, ты замечательный человек. Будь счастлива!»
Мать и не замечала ее заплаканных глаз — не до нее было. А вот Лизка, которую она считала черствой и грубоватой в озорстве, заметила, вздохнула и, когда стемнело, призналась ей:
— Я тоже... это... влюбилась... Если бы ваш Леха полюбил меня, я бы не была такой, совсем другой была бы Лизка Борисова. Я бы, наверно, училась — день и ночь училась бы, ей-богу. И стала бы красивой, че смеешься? Думаешь, человек не меняется?
— Ты и так красивая, Лиз, если уж мне сказали, что я...
— Это он сказал, музыкант ваш, да? — не дослушала Лизка, будто точно знала, что ей может сказать Вячеслав. — Ох, Настя, несчастливые мы с тобой! Но если Леха пришлет письмо, ты мне обязательно скажи!
— Скажу, Лиз.
...Анастасия Евграфовна слезла с печи, включила свет, подошла к рамкам с семейными фотографиями. Лицо отца смотрело прямо и просто. Рядом улыбался Леха, и белесый чуб его крутой волной нависал над черной бровью. Казалось, парень сейчас подмигнет ей: «Ну что, сеструха? Не кручинься...»
Отца убили первым, затем погиб брат, Анюта пропала без вести, а потом матери пришло письмо от чужих людей — о Тане. И все в один год. Мать, почерневшая от трех известий, стала как глухая и полумертвая, узнав о Таниной беде. Забеременела девятнадцатилетняя девчонка, сделала аборт и умерла, заклиная не говорить мамке о ее позоре... Долго потом на мать накатывало: встанет на колени под всеми фотографиями да и запричитает:
— Танек, доченька моя, да что ты наделала, да разве бы кто упрекнул тебя, да разве бы мы не вырастили ребенка твоего — вон сколько сирот теперь на свете, жила бы ты да жила, красавица моя ненаглядная!
А потом начинала биться и кричать. Настя наваливалась на нее, держала за руки, а потом приводила в чувство.
Как все пошло-покатилось... Разве бы так получилось, не будь войны?
Мимо села пошли потом машины с бойцами — освобождать Калинин. Танки прошли по закованному морозом проселку. Задержалось несколько машин, окружили их колхозники из ближайших домов, угощают бойцов кто чем может. Настя яблок принесла — сушеных, горстями из полушубка выгребала. И крикнул ей один боец:
— Скажи, как зовут?
Она подняла голову: ей. Синеглазый такой, чем-то на брата похожий. Улыбнулась.
— Нет, — качнула она головой.
— Стало быть, ждешь? Ну, молодец.
Она опять качнула.
— Ну что же тогда? Не нравлюсь?
— Да Настей ее звать, Настасья Евграфовна Позднякова! — подалась вперед Лизка.
Машина покатила.
— Я напишу-у!
— Жди!!! — кричали уже хором из кузова.
И он написал. Но у Насти под подушкой хранилась запонка — янтарный кружочек, и она отдала адрес Лизке.
А через год, когда поставили ее председателем сельсовета, познакомилась она с хромоногим военруком, нездешним, дальним, откуда-то с Алтая. Застрял на время да и осел. Поговаривали, что по семейной линии что-то не сладилось. К нему присматривались, и он присматривался. Да и зачастил в сельсовет. Обошел девку так, что приняли его в дом. Родилась дочка — Аннушкой назвали, в честь пропавшей без вести... Жили не хорошо и не плохо: прижимистым на деньгу оказался алтаец, но помогать помогал — мужичок в доме. Еще дочка появилась — Таней нарекли, как хотела бабка. Повеселела она от внуков, но зять ее смущал: без закону живет, старый брак в силе. Заказала дочери внука, Лешеньку: от трех детей небось не уедет. Уехал! Как только кончилась война, так и смотался. Стали поговаривать в селе, что Настя-председатель справками его возле себя держала, от фронта спасала. Захлестнуло Анастасию черной волной, закричала она на людях:
— Да молодость свою я ему швырнула, как ветошь ненужную, любовь свою через него затоптала, а вы на меня еще один воз навьючиваете! Инвалид он, какой ему фронт! Не виновата я перед вами, не плутовала!
Потом поняли быстрый маневр алтайца: дом перед смертью старуха переписала на дочь, а не на него.
— Какая ты мне жена? — услыхала Настя на прощание: он мстил за дом. — Подстилка. Навязалась, рожать начала без останову. Да и сомневаюсь я в первой дочери. У меня жена во какая!
Спалило Настю. А тут Лизка весть принесла: тот боец-то, чей адрес ей даден, остался в живых, награжден, о ней все, о Насте Поздняковой, справляется, хоть Лизка и расписала все Настины беды и даже то, как незаконный муж насмеялся над ней.
— Приехать хочет, а, Насть. Ведь теперь девок — пруд пруди, а он об тебе интересуется, хошь ты и с детьми.
— Отстань! — дико, как мать в горе, закричала на нее Настя, и затрясло ее всю. — Свет мне не мил, опоганело все, а ты!..
Отстала в страхе Лизка.
Так и пошла дальше жизнь.
Поняли люди свою ошибку, завиноватились перед председательницей, но она и тут их усекла. С тех пор уважение к ней уже ни разу не покачнулось, разве что выросло вдвое.
Алтаец все же вернулся — опять у него не сладилось с первой семьей.
— Вон! — крикнула она и так вскинула руку к двери, что суетливый мужчина, раскладывающий подарки, опешил и впервые заметил, как много гордости в его безответной Насте.
— Мам, это ж папка! — заныли девчонки. — Папка приехал.
Но маленький четырехлетний Алеха возразил:
— Чужой дядька! Пусть уходит! — И повторил излюбленное Лизкино ругательство: — Уходи, собачий понос!
И тогда девчонки, оторвав лбы от стола, повторили за братом:
— Уходи!
— Уходи!
...Герань отпахла. Вечер на исходе. Пора на покой. А там, глядишь, и утро придет. С утра и будет она, Анастасия Евграфовна, письма детям писать: Лешеньку на житье к себе приглашать, Тане советовать мужа полечить, Аннушку в гости на лето позовет со всей семьей.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





