ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
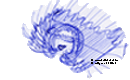
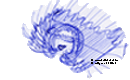

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Горланова Нина
Яблонского позабавило, что совсем маленький городок носит имя такого Великого Композитора. Но он не жалел, что поехал сюда, потому как в областном городе ему вообще ничего не удалось: ни организовать хороший ансамбль, ни — тем более — поехать в Англию, на фестиваль фольклорных коллективов. В Англию очень хотелось — просто так, по-русски, с гудком, хорошо...
Все почему-то думают, что гудок вроде дудочки и должен гудеть. Гудеть-то он гудит, то есть поет, как труба, а похож сам на балалайку. Так что, может быть, не от слова «гудеть», а от старинного «густи» — отсюда же и «гусли». Но ясности нет в этом, впрочем. Тонкости языка, изменение носовых звуков и разные степени вокализма — все это Яблонского не волновало. Называется «гyдок», и пусть называется. Он открыл его в селе Сива, во время фольклорной практики, еще на первом курсе университета. Было ему тогда 22 года. Да, точно, только исполнилось. Пока работал, пока рабфак закончил — в студенты попал поздновато. Но как раз в нужное время для открытия! Яблонский на всю жизнь запомнил ту фольклорную экспедицию: как раз охотились за свадебными песнями, на кафедре горел сборник, срывался план. План так и не выполнили, зато нашли гудок. Сначала думали, что он 600 лет пролежал, ровесник тем гудкам, что в раскопках находят. Но потом выяснилось, что рядом есть старик, который эти гудки делать умеет. И гудки и погудалы, смычки то есть. Они похожи на лук с натянутой тетивой (прутик жимолости и конский волосок). У Яблонского от счастья опять поднялось кровяное давление (из-за этого в свое время и в армию не взяли). Еще и газеты нашумели: замелькали его фотографии, а также — гудка и старика. «Старинные русские инструменты», «Серенады для Лады» и так далее. Даже из Москвы два корреспондента приехали. В общем, чем больше Яблонский улыбался, тем серьезнее всматривались в него декан и сокурсники, кончилось все тем, что распределили в этот музей — мол, работа там спокойная, легкая, одним словом, для поправки здоровья подходящая.
В музее великого композитора Яблонский оказался единственным рядовым сотрудником. Директором там уже два года находился Петр Ильич Черноусов, отставник, выдвинутый сюда отделом культуры в связи с выходом на пенсию. Петр Ильич был человек спокойный, имел многолетний опыт работы с документацией, ее хранением и добыванием. К музыке он никакого отношения не имел, но — как человек дотошный и бережливый — оказался полезен, ибо сохранил вокруг дома и сад, и деревянный тротуар, и речку (хотели в трубу забрать). Во всех инстанциях Петр Ильич говорил, что сад, тротуар и речка были «окружением», и оно могло «повлиять». На что оно могло повлиять и как, он не мог объяснить, но слово действовало, и все оставили в целости, сохранности. К великому композитору Петр Ильич питал в душе благоговение, как к начальнику, и делал для него все как лучше.
Яблонский же никаких чувств таких не испытывал, потому что великих композиторов много, а гудок один. Старик-умелец болен, больше не делает. Самому же взяться сложно: там для каждой детали требуется особая порода дерева, с вымачиванием хлопот не оберешься! Помыслы Яблонского этот гудок занял прочно. Все остальное не имело значения — еда, там, мелочи быта, семейная жизнь. «Нельзя обнять необъятное», — любил говорить знакомым Яблонский, выделяя голосом «обнять», заменяющее «объять». Знакомые намекали насчет любви, объятий, мол, пора, будет поздно, но он их не слушал. Квартиру снимать не стал, ночевал прямо в музее, варил суп в печи, вскормившей великого композитора, спал на его диване.
Петр Ильич относился к этому понимающе. Он и сам хранил в подвале дома-музея свою картошку, а служебную машину, выделенную для поиска материала, гонял по семейным нуждам. Что касается бани, то там просто было совершено преступление — директор полностью изменил ее исторический вид, приспособив нутро для удобства современного капризного дачника. Чего только там нет! И водопровод, и неоновые светильники, и даже маленький пивной бар, замаскированный огромной войлочной шляпой. Шляпу эту мужики надевали, когда парились, и тогда бар обнажался во всей своей заманчивости. Вот такой человек был Петр Ильич Черноусов!
И все-таки
он недолюбливал своего сотрудника
Яблонского, несмотря на его образованность,
любовь к музыке и скромность в женском
отношении. Многие проявления натуры
молодого человека оставались
загадкой. Особенно раздражала улыбка.
Если Яблонский проводил
по музею
экскурсию (редко, но случалось и такое:
туристы, гости какие-нибудь), он
рассказывал о детстве великого
композитора с такой улыбочкой, словно
факт рождения того в настоящем доме не
имел решающего значения ни в жизни, ни
в творчестве. Кроме того, большую
часть
рабочего времени Яблонский тратил
на изучений английского языка,
единолично использовал сейф для
хранения своей балалайки, то бишь
гудка, а все народные
инструменты
роздал десятиклассникам и вечерами
репетировал
с ними старинные песни:
Пошли девки на работу, пошли девки на работу,
на работу, кума, на работу.
На работе привспотели, на работе привспотели,
привспотели, кума, привспотели.
Покупаться захотели, покупаться захотели,
захотели, кума, захотели.
Рубашонки поскидали, рубашонки поскидали,
поскидали, кума, поскидали.
Сами в речку поскакали, сами в речку поскакали,
поскакали, кума, поскакали.
Негде взялся вор Игнашка, негде взялся вор Игнашка,
вор Игнашка, кума, вор Игнашка.
Украл девичьи рубашки, украл девичьи рубашки,
рубашонки, кума, рубашонки.
Одна девка всех смеляе, одна девка всех смеляе,
всех смеляе, кума, всех смеляе.
За Ивашкой погналася, за Ивашкой погналася,
погналася, кума, погналася.
Из воды девки кричали, из воды девки кричали,
ох кричали, кума, все кричали:
Василиса, постыдися. Василиса, постыдися,
постыдися, кума, постыдися...
— Тпру, отставить! — приказывал Петр Ильич. С этого места он не мог слушать спокойно, плевался и отмахивался руками. Говорил, что с такими охальными песнями в Англию не пропустят никакой ансамбль, на что Яблонский резонно отвечал, что там все равно русского языка никто не знает.
И вдруг все изменилось. Из столицы пришло указание готовиться к грандиозному фестивалю, посвященному юбилею великого композитора. Он будет проходить здесь, в доме-музее, на родине юбиляра, ожидаются иностранные гости и даже один лауреат конкурса музыкантов-исполнителей имени великого композитора. Тут-то Петр Ильич благословил небеса за такого сотрудника, понял, что сгодятся и улыбчивость, и знание английского, и даже злополучный фольклорный коллектив (его можно пустить под занавес, уже на прощальном банкете, тогда это будет как раз). Так Яблонский стал фигурой номер один и на время принял командование, а Петр Ильич отступил на задний план — позаботиться о помещении, договориться с ресторанами, продумать меню.
В конце мая из области прислали специалиста — для помощи в организации праздника. Это была двадцатипятилетняя властная музыковедша, с которой Яблонский, однако, быстро нашел общий — наполовину английский — язык, а Петр Ильич от одних только длинных музыкальных терминов, которыми стреляла приезжая, окончательно ретировался.
— Богомерзкие гудебные сосуды сжечь! — передразнивая Петра Ильича, процитировал Яблонский текст церковного памятника.
Лидия Олеговна улыбнулась. Да, ее звали Лидия.
— Лидия — это целая страна в древности, — начал было Яблонский, но, поймав ее настороженней взгляд, проглотил конец фразы (о том, что страна была маленькая и Лидия Олеговна тоже). Впрочем, даже не столь мала, сколь худа, но худа как-то пикантно, по-английски, и это не вызывало возражений. Она привезла с собой много фольклорных платьев с оборками — для гуляния по полям, все они были цветастые, с двойными юбками до щиколоток длиной. Ходила она в них бойко, встрхивая оборками, при этом ненужно и бережно таская руках обязательную книгу. Но выглядело все так, словно эти пригородные луга и холмы были созданы для ее гуляний, ждали ее все эти годы и дождались. Яблонский все замечал, но из последних сил убеждал себя: «Нельзя обнять необъятное», а потом и последний юмор потерял, стал повторять прямым текстом, высокопарно: «Нельзя объять необъятное». Дело в том, что у него уже была в жизни история с женщиной, которая отдалась ему после одной студенческой вечеринки, а потом несколько дней подряд намекала, что ждет дорогой подарок из «Аметиста». Яблонский сделал подарок и лег в больницу со своим давлением. К счастью, вскоре в его жизни появился гудок, и все интересы были отданы широкому миру музыки — народной, конечно.
В субботу он истопил баню, приготовил ужин и ждал Лидию Олеговну, глядя на высокий холм за огородом. Погода была самая воздушная. Солнце не спешило изображать закат. Лидия спускалась с холма. Она сходила с него быстро, но все-таки с таким достоинством, какое диктовала книга в откинутой руке. Яблонский подумал, что она похожа на хорошенькое чучело.
— С подружками по ягоды ходить, на оклики веселы отзываться-а-а, — пропела она сварливым голосом и засмеялась.
Судя по всему, в банном деле она разбиралась предовольно. Сбегала за мылом и полотенцем, потом спросила о венике. Веники были заготовлены, висели в предбаннике стройными рядами, напоминая об армейском прошлом Петра Ильича. Впрочем, к весне они уже значительно поредели. Она выбрала самый изящный.
Яблонский собрался объяснить ей особенности каменки и куда лучше плескать водой, чтобы пар пошел, и был удивлен, что Лидия уже начала раздеваться. Еще больше удивили его бедра этой девушки, а может быть, женщины: они смахивали на формы его «гудебного сосуда», гудка то бишь. Как ни странно, но смахивали. Под платьем-то они казались отсутствующими, но оказалось, что все же таковые присутствовали. Больше он никуда смотреть не осмелился, а уйти не решался. Стоял как болван. Впрочем, скорее как типичный молодой человек с проклюнувшимся комплексом. Лидия сунула ему опаренный несколько раз веник, вспрыгнула на полок, приготовила свое тельце. Он спасительно задурил себя мыслью о шляпе — шляпа была большая, она могла прикрыть все, и тогда будет прилично попарить ее — Лидию. Он протянул шляпу, Лидия взяла ее, поблагодарила и со знанием дела надела ее на свою гладенькую головку, объясняя ему, как нужно парить (сначала в воздухе, над спиной, чтобы создать особую воздушную подушку). Яблонский ничего не видел, закрыл глаза и парил: то ли в воздухе, то ли ниже. Потом в какой-то миг он открыл их и увидел, что Лидия перекатилась, как мартышка, со спины на живот и наслаждалась баней, веником и ошалелым видом Яблонского.
Когда он вышел, застеснявшись смотреть на процесс обмывания ее ручек, ножек и прочих мелких частей ее маленького тельца, она прокричала ему в предбанник, что веник действует по принципу иглоукалывания — активные точки от парения активизируются, и болезни отступают. Самое интересное, что слова Лидии про иглоукалывание прозвучали не прозаично-медицински, а наоборот — волшебно, как заклинание древнеиндийского мага. Яблонский видел перед собой стену предбанника и оглушенно внимал ее речам. О том, что за время всех своих гуляний она четко выработала план проведения фестиваля как праздника, большого праздника, ибо здесь для него все условия: город изумительно озеленен. Яблонский ничего не понял. Как она может сейчас об этом? При чем тут фестиваль? Одно ему было ясно: эта маленькая страна Лидия вместилась в нем вся без остатка, и никогда ему не будет радости без нее. Пошел разогревать ужин.
Никакого вина. Одна жареная картошка с грибами, но какими грибами! Свежими. Петр Ильич с утра ездил с семьей на машине за строчками и сморчками, а уж он ездит всегда удачно. Выделил Яблонскому с Лидией полкорзинки. И вот под эти грибы разговор завязался самый откровенный. Лидия жаловалась, что ее не оценили в провинции, что хорошо бы в столицу, что ее идеал Лиля Брик, что шьет она все сама. Тогда Яблонский бросился к сейфу и раскрыл его так широко, как только это возможно, словно от впечатления зависело все его будущее. Гудок лежал там, вольно раскинувшись, и внутри у Яблонского, как всегда, что-то щелкнуло, и тепло в груди соединило его с миром, сделало решительным. Он рассказал о своем открытии просто, но Лидия поняла все правильно: отчасти потому, что знала об этой истории раньше, отчасти — из-за его шикарного жеста при демонстрации гудка. Не поняла одно — а почему в сейфе.
— Здесь сыровато для гудка, — пояснил Яблонский.
— Музейный ты мой человек! — воскликнула Лидия. — Нельзя так прожить всю жизнь — в узеньком секторе, где помещается один только гудок! Нельзя.
Яблонский слушал и кивал. Ему уже казалось, что Лидия и гудок могут поместиться в его душе одновременно. Решил поцеловать у нее руку, но боялся.
Лидия вдруг сама поцеловала его в свежие щеки, а потом — в губы. И здесь, прямо на виду у гудка, начала раздеваться, заспешила, заволновалась. Он впервые видел, чтобы она волновалась. Он ведь не знал, что она впервые встретила мужчину, для которого нужно раздеваться дважды. Потом Лидия проворно пробежала по музею и закрыла дверь изнутри на крючок, который, видимо, приметила раньше. Яблонский улыбнулся более счастливой, чем всегда, улыбкой.
Бюст великого композитора с мертвыми глазами смотрел на все эти безобразия довольно строго. Внезапно Яблонский понял, что испытывает угрызения совести, словно он только что изменил своей жене. А Лидия как будто спала. Ее платье топорщилось на пианино, как груда свежескошенных луговых цветов. Ее кожа пахла березовым веником и еще чем-то непонятным, притягивающим. В надежде на успокоение Яблонский тихонько включил свой транзисторный приемник, который купил здесь, на первую зарплату. Диктор бархатным голосом высыпал слова: ГЕРМАН. СХОДИТ. С УМА. Это была опера Великого Композитора. Яблонский заметался, выключил транзистор, проверил сейф. Казалось, что Великий Композитор и Лидия были заодно — ни в грош не ставили его гудок. А может, все-таки попробовать? Он достал гудок, осторожно провел погудалом по струнам. Лидия вздрогнула, не поворачиваясь, сказала:
— Не надо!
И снова задышала сонно.
Яблонский сходил за топором, посмотрел на свою спящую Лидию, свою маленькую покоренную страну, и вдруг ему захотелось пальцем провести по ее ребрам, как по забору, чтобы получилось, словно в детстве, «тр-р-р-р». Тогда он подошел к сейфу и возле него трахнул по гудку обухом топора: хрясь! Лидия вздрогнула. Яблонский поспешно спрятал в сейф топор с остатками гудка и закрыл дверцу. Он выбрал Лидию навсегда.
Фестиваль прошел как сплошной праздник. Были иностранные гости, были два профессора, был и лауреат-исполнитель. Яблонский переводил и улыбался. Лидия играла роль хозяйки и феи, а Петр Ильич ходил такой красивый и важный, что все принимали его за родственника Великого Композитора. На банкете всех развеселил ансамбль народных инструментов; и хотя знаменитого гудка не было, Яблонскому пришлось весь вечер играть — на ложках (ложечник уехал сдавать документы в университет). Лидия, как всегда подробно одетая, танцевала с лауреатом-исполнителем и что-то говорила ему насчет радиоактивности, превышения нормы, ибо на родине Великого Композитора буквально буйствовала зеленая paстительность всех видов — жирные листья, новые их формы и невиданные размеры. Она говорила все это не прозаично по-научному, а смеясь и потряхивая всеми подробностями своей одежды. Потом они ушли в луга, а наутро уехали, и Лидия уехала по-английски (не попрощавшись с музейными работниками).
Яблонский весь следующий день и полночи склеивая свой гудок и наконец соединил его части воедино. Но он никогда уже не звучал, как прежде, и Яблонский часто обзывал его фаготом и покрепче.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





