ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
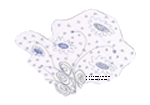
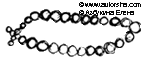

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Горланова Нина
— Это у серого камня нет ни боли, ни крови, ни щипоты, ни ломоты, ни злой лихой опухоли ни на утренней, ни на вечерней заре, ни на луну, ни на полдень солнца. А у человека...
Дом в знак протеста крякнул. Низ стены треснул в двух местах, и огромный кусок штукатурки вывалился, а затем посыпались серые камни. Обнажились две трубы и задняя стенка телевизора.
А пенсионерки на скамейке головами лишь покачала и продолжили речь о том, что у человека забот, хлопот, болезней и бед прибавляется тем больше, чем дальше уводит его времечко от утренней поры жизни — к вечерней. К той самой, когда редко тебя назовут «бабушка», а все больше «старушатина», «старая бандероль»...
— У-у, колдуньи проклятые! — подбавила на ходу молодуха с зеленым эмалированным чайником в руке и в суконках на босу ногу.
— Пиратиха! — бросили в ответ две бабки: мать и дочь. — Лицо — то уж, как этот чайник, стало!
— Я вам покажу, старые вешалки! — пообещала «пиратиха».
Пенсионерки были тут же отомщены. Огромная сосулька спрыгнула с карниза и взорвалась под ногами молодухи. Дом в этот миг зевнул сразу двумя подъездами, двери враз хлопнули и выпустили еще двух пенсионерок. «Пиратиха» пнула по куче ледяных осколков и пригрозила:
— Это вы специально на меня сосульку! Ну! Подожгу я вас, рыжие хрычовки!
«Подумаешь! Все мы под сосулькой ходим», — с таким примерно философским выражением на лице прошагала к скамейке одна из пенсионерок. Она села и закурила папиросу. Между нею и рыжими колдуньями расположилась вскоре с двумя костылями старуха, чрезвычайно истертая временем и высушенная горячим цехом. Она подложила подушечку и с неистребимым любопытством спросила:
— Правду говорят: пивной ларек у девятого подъезда открыли? — и в нетерпении застучала костылем по асфальту: стук-стук-стук.
— Не у девятого, — сказала курящая «философка».
— Между девятым и десятым, — ответила рыжая колдунья-мать, у которой тросточка непроизвольно дрожала в руке и отстукивала монотонно: туки-туки-туки-тук, туки-туки-туки-тук.
— Наша-то пиратиха уж побежала с чайником за пивом, — вздохнула ее дочь. — Утром-то опять просила: дайте деньги, дайте!
— Моя сын тоже просила-просила, — пожаловалась с противоположной скамейки старуха татарка, зеленое плюшевое пальто ее выцвело и почти сливалось со стеной дома. — А правительство говорила: пенсионерам теперь в первую очередь квартир. Отдельно.
— Где мы возьмем деньги-то — не куем ведь их! — застонали враз мать и дочь.
Пенсионерки перемигнулись: молчали бы уж рыжие! Обе они были известные колдуньи, но особенно — мать. За три рубля она могла заговорить хоть грыжу, хоть кровь. Быстрехонько: «Шла я по нитке, нитка сорвалась, у рабы божьей такой-то кровь унялась. Будьте мои слова крепки, лепки, пользительны!» И все... Кроме того, мать и дочь торговали лечебными травами, а также — маринованными грибами и заправкой — хреновкой.
— Настоящая пиратиха! Весь день на кухне, а мы выйдем — ей косо почему-то.
— Я тоже слыхала по радио — пенсионерам, мол, осталось жить мало. И у меня такая мысль разыгралсь: отдельную! — живо начала старуха с костылями — ее огромные синие глаза, немного навыкате, еще больше выпрыгнули вперед.
— Кто тебе даст отдельную — одной-то! — сплюнула вяло «философка».
Синие глаза нырнули обратно в глазницы, и костыль удрученно застучал: стук-тук, стук-тук, стук-тук...
— Все горелки займет вечно. О другом человеке ни копейки не думает. Настоящая пиратиха!
— Все пережито, теперь уж только существуем: ни поесть, ни попить, — заметила «философка», швыряя обмусоленный окурок в лужу.
Тотчас прилетел голубь, опустился рядом с окурком и начал пить воду. Пенсионерки проницательно догадались: голубь принял летящий окурок за крошку, а раз ошибся, то хоть водицы испить решил. Но вид делает такой, что прилетел попить, ничего больше, а что?..
Старуха татарка достала из кармана кусочек хлеба и пошла покрошить его голубю. Она ненароком заглянула в лужу и, увидев себя, медленно плывущую в глубине с небом и облаками, пошатнулась. Вернулась на скамейку:
— Голова закружился, чуть-чуть не упал.
Кошачья пара выскочила из подвала с разнузданными воплями и расположилась прямо у скамейки. Кот прижал кошку, а сам невинно смотрел во все стороны. Старуха с глазами навыкате любознательно ткнула костылем животных. Кошка убежала, а кот оскалился красной пастью, мяукнул и лишь после этого бросился догонять свою серую половину.
— Тебя бы так! — сказала «философка». — А еще свечки в церковь посылаешь!
— Да я не хотела, я ничего...
Тут появилась «пиратиха» с чайником пива и на глазах у старух жадно отпила изрядный глоток. Потом облизнулась и пошла в подъезд, розовея толстыми икрами. Старуха татарка погладила свои лиловые застиранные кальсоны, явно мужские — сын, наверное, когда-то носил их.
— Холодно...
— Надоела она нам на общей кухне! — ответила колдунья-мать, и тросточка ее подтвердила это, застучала выбивая эти же слова.
— Из-за нее и получилось у тебя на нервной системе-то... с ногами, — добавила дочь.
— Ну вам двоим дадут отдельную, — сказала «философка». — А я... двадцать девять лет я на заводе проработала! Из них восемь в горячем...
Дом замер, прислушался к разговору. Если уж эти жильцы замышляют побег, то чего хорошего ждать ему? И так каждый год город выедал из дома по частям солидные куски: то сберкассу устроили в правом крыле, то гастроном — в левом, потом — уцененные товары в середине, а сейчас вот вырвали комнату под пивной пункт. Счастливые жильцы этой комнаты уехали вчера в отдельную квартиру, даже старое пианино не взяли — второй день стоит оно возле мусорных бачков.
— На нервной системе у меня, конечно, — вторила дочери мать, думая, видно, о чем-то другом: важном.
— Знаю я, как нервную систему лечить, — снова закурила «философка».
Все выжидательно замерли.
— Водку надо пить! — продолжала «философка».
— Водка твой — тьфу! — возмутилась татарка.
— И пьют — помирают, и не пьют — помирают.
Из гастронома вышли грузчики и, качаясь, прошествовали мимо старух. Один остановился возле мусорных бачков и стоя наиграл на пианино: «На Дерибасовской открылася пивная...»
— Этот, Вовка-то, в институтах учился, говорят, — сказала колдунья-дочь.
— Не женится. Что-то внизу не в порядке у него, — с сожалением сказала «философка».
Грузчики скоро прошли обратно, размахивая кулаками. Вовка все спрашивал:
— Жаждешь, да? Жаждешь?
— Жажду. Да, жажду, — с достоинством отвечал его напарник. — Я тебе говорю, что дом был всегда. Когда я родился, этот дом уже был!
— Может, скажешь, что и ларек был всегда?!
— Пиво-то было всегда...
Вышел сын татарки и стал по-своему говорить что-то матери.
— Нету у меня! — по-русски отвечала она, словно призывая на помощь остальных пенсионерок. — Рубли вчера соседка взял — окно мыл. Нету!
Тогда он схватил мать за плечо и встряхнул. Она упала. Из кармана посыпались копейки. Сын подобрал их вся до одной и ушел в сторону пивного пункта.
— Кособрюхий идол, — заругались вслед ему рыжие, поднимая упавшую.
Усевшись, она сказала:
— Зачем мне отдельная квартира? Убьет — никто не знает.
— А нам нужно, — сказала колдунья-мать. — Лен, учительница-то в какой подъезд приехала — в седьмой?
— Третьи двери с того конца, — ответила татарка.
— Над той квартирой, где тройня родилась, — добавила «философка».
— Надо попросить помочь с письмом. Галька-то, с пятерыми детьми которая, к ней же на днях ходила, письмо написали в Москву.
— Я бумажка покажу, читай, — сказала татарка и полезла в карман.
Все подумали, что она тоже замыслила письмо в Москву, но оказалось, что в руке у нее всего лишь чек. Рыжая дочь прочла число: 16 декабря.
— Деньги читай, деньги!
— Тридцать один рубль, что ли?
— Да-да. Вот сын купила платье. Мне. На рождество. Нет, на рождение.
— Зачем они мне принесли это, — ни с того ни с сего сказала пенсионерка с выпученными глазами. — Я не просила — принесли. Все мне мало. Юбка коротка, кофта тесна.
Родных у нее не было, пенсия меньше тридцати рублей, и соседи изредка отдавали ей поношенную одежду.
— Что за весна сопливая нынче! Самая гнилая погода, — перевела разговор «философка», у которой тоже никого не было.
Пианино залаяло, закукарекало и один раз даже взвыло. Сын «пиратихи» — пятилетний Андрейка — стучал по нему пустой консервной банкой, извлеченной из мусорного бачка, и кричал:
— Нетрезвой походкой
Ты вышла из бара
И скрылась из глаз
В метель января-а-а...
— Поворовывает парень, — сказала колдунья-дочь. — Все матери то полтинники, то железные рубли приносит: «Я денюску насол». А кто их где накрошил, рубли-то!
— Отец мало воспитывает. Где он опять? Не видать? Почему?
— В Ижевск упорол — на похороны, что ли. Мать будто умерла.
Пенсионерки замолчали, только костыль одной да трость другой выбивали примерно такое: стук-бряк, все там будем, туки-тук, скоро-скоро, стук-постук, жить охота...
— Завтра приедет, наверно.
— Скажи ему про сына, как же! Один раз я сказала, что Андрейкин горшок надо закрывать, пахнет же на кухне, так он прямо этот горшок чуть на голову мою не одел. Вот как тут не мечтать об отдельной квартире, — и у рыжей дочери лицо разгорелось, даже волосы, теперь уже не ярко-красные, как в молодости, а слегка притухшие, вдруг снова запламенели.
Когда мать и дочь ушли, оставшиеся пенсионеры заговорили о могуществе рыжих: спасли ведь семью из третьего подъезда, когда муж там загулял — дали жене «отлюбовный» напиток для мужа, и его как подменили после этого. А может, заболело что у него, так сразу не до полюбовниц. Но скорее всего не в этом дело, а именно в силе слов. Ведь умели и присушивать. Дочь-то, Лена, замужем не была, но присушила-приворожила себе мужика. Запохаживал. До сих пор бывает. И не старый еще.
— Он ее вроде сватает, бочку такую, — заметила «философка», твердо уверенная, что без «слов» тут не обошлось.
— А что тут плохого — жену он давно похоронил.
— Похоронил! Нынче ведь мужики что: им скорей запечатать — и на кладбище, если ты заболела. А сами быстро замену находят, — отшвырнула папироску «философка».
— Мать-то колдун, а дочь — нет, — высказала свое мнение татарка.
— Ну да — нет! А как она зашла в один подъезд, а вышла из другого — забыли?
Два грузчика, обнявшись, прошли к пианино, согнали Андрейку. Вовка присел на корточки и начал играть, подпевая:
— Всю-то я вселенную объехал...
Учительница с плетеной сумкой остановилась послушать, потом вдруг протянула сумку Вовке, а сама пустила трель и пропела:
— У любви, как у пташки крылья-а-а...
— Нежная субстанция, — сказал Вовка, возвращая ей сумку (то ли он имел в виду учительницу, то ли плетение из соломки, то ли вообще любовь).
— Брось ты! Субстанция! — передразнил его друг, когда учительница отошла от них.
— Да, субстанция! При этом Аристотель говорил... — но вместо того, чтобы процитировать философа, Вовка дал в глаз своему компаньону.
А учительница подошла к скамейке и спросила, не может ли кто из старушек связать ей носки — купила собачьей шерсти, которая от ревматизма помогает. Ее послали к рыжим: мол, они и вяжут, они и лечат, а им письмо нужно помочь написать.
— Молодые-то нынче туда же, про ревматизм, — бесстрастно заметила старуха с костылями и положила в рот пластик жвачки. — Мне от головы помогает, когда жую.
Старухи замолчали надолго, пристально разглядывая друг друга и привычно прикидывая: кто еще сколько протянет на этом свете, который с каждым днем кажется милее, несмотря ни на что.
Наконец старуха с костылями засобиралась обедать: встала, кивнула соседкам и медленно стала продвигаться к подъезду. Навстречу вышла учительница:
— Спасибо вам, что подсказали мне, куда обратиться!
— Письмо написали?
— Они сами
напишут, а мне принесут проверить.
Открылась
форточка на втором этаже, выглянула
дочь-рыжая и спросила:
— Нина Ивановна, а «кухня» как писать с ха или эф?
— С ха, конечно!
— Значит, я правильно написала.
Когда дочь принесла письмо, первое, что увидела Нина Ивановна, было: «На хухню не ходить».
Все письмо было такое:
«Заявление в Крем.
Прошу рассмотреть мое заявление и не оставить без внимания. Я в данный момент нахожусь на пенсии. В зоводе проработала двадцать лет и на вредном и на тяжелом, но так и не получила отдельной квартиры. Живу с матерью 90 лет на жил площади с подселением. О пишу соседей. Одна пьет до потери знания, на хухню не ходить — как жить, а ходить как — там драки. На замечания она не реагирует. Ванны нет, у мамы о текают ноги и сердце ходу не дает. В баню ходить через дорогу, а там згусток машин. У меня самой нет сил. Бепартония...»
— Не пойму, что это? Беспартийная? — спросила Нина Ивановна.
— Это ги-пер-то-ния, — по слогам и верно произнесла рыжая-дочь.
«Старческая потеря письменного навыка», — прочитала Нина Ивановна и неожиданно вспомнила, как это называется научно: «аграфия». Она еще старательнее стала выводить буквы, исправляя письмо. Гостья в это время без умолку говорила:
— Участкового вызывали, а он по этой теме даже и не хочет к нам заходить... платье-то у меня, оказывается, тут с дыркой, да ладно...
Нина Ивановна удивилась, что гостья, такая моложавая, записала себя в старухи, ведь она если не красива, то, по крайней мере, аппетитна как купчиха.
— Нам всем надо отдельную жилплощадь, потому что осталось жить-то сколько... — продолжала гостья, совсем не веря в то, что говорила — матери ее исполнилось девяносто, и у нее снова выросли все зубы, а уж память и зрение вообще никогда не отказывали. Оснований бояться скорой смерти не было, нет, ни в коем случае.,
— Ну вот: готово. Перепишите его, но только нужно сначала местным властям, а не в Кремль. Если они откажут, то уж тогда в Москву. Таково правило... На имя председателя горисполкома напишите.
— Спасибо! А носки мы свяжем.
— Вы не подумайте, что я за носки, я бы и без этого...
Когда колдунья-дочь вышла, на улице смеркалось, и окна казались облитыми каким-то потусторонним светом — от телевизоров. Это двигался в экране председатель горисполкома и говорил о чем-то. Разобрать было трудно, потому что слова его заглушало пианино. Сейчас, под вечер, школьники со всего двора устроили свой концерт, кто-то ударял по клавишам, кто-то бил в выброшенный посылочный ящик, кто-то рвал струны гитары. Музыка прямо для шабаша, и колдунья пожелала, чтобы этот «чертов» рояль скорей свезли отсюда на городскую свалку.
Дома она накормила мать и поужинала сама, потом села переписывать письмо. Долго выводила буквы так, чтобы вышло ровно. Дальше она вырезала из газеты портрет председателя горисполкома, прикнопила его на стену и пошла мыть руки. Тщательно намылила, сделав из пены белую перчатку, и воду от ополаскивания собрала в кружку. Этой самой водой она побрызгала с руки на портрет и начала ворожить.
— Вода ты, вода! Ключевая вода! Как смываешь ты, вода, круты берега, пенья, коренья, так смывай...
На кухне заплакал Андрейка — просил есть. Пиратиха гнала сына спать. Ужина у них, видно, опять не было. Предполагая скорый скандал, колдунья прошептала несколько проклятий соседке, сбилась и начала заново — отвесила несколько поклонов:
— Ветрам-ветерочкам поклонюсь я. Пойдите вы, ветры-ветерочки, соберите тоски тоскучие со всего белого света... ой, не то ведь, не то! Не надо было мне торопиться!
Она снова отвесила несколько поклонов, потом пошептала что-то на портрет, вся собралась и лишь после этого страстно запела вполголоса:
— Ветры-ветерочки, соймите с меня, с рабы божьей Елены Власьевны, кручину и понесите ее через боры — не потеряйте, через реки — не утопите, через пороги — не уроните и вложите ее в раба божьего председателя, в его белую грудь, в ретивое сердце, и в легкие, и в печень, чтобы его кровь ключом закипела, чтобы он думу думал и мысли мыслил об рабы божьей Елены Власьевны. И чтобы эту обо мне думу и думицу в сладких яствах он бы не заедал в меду, пиве и вине не запивал — ни во дни, ни в ночи и полуночи, ни при утренней заре, ни при вечерней. Моим словом ключ да замок.
Для закрепы она дунула легонько и замерла. Из-за стенки послышался голос Андрейки: он хотел пианино.
— Куда мы его заберем! У нас не хоромы — всего десять метров, — отвечала мать сварливым голосом.
— Я на полу спать буду, а вместо кроватки — пианино, мам! А?
— Отец завтра приедет — видно будет, — отрезала мать. — Спи!
Между тем за окном послышалось: «Раз-два! Взяли!» Обе колдуньи высунулись в окно, тесня друг друга круглыми твердыми плечами. Они увидели, что шестеро мужчин тянули на лямках нечто невидимое к четвертому подъезду. Голос грузчика Вовки: «Еще скажи, что в седьмом подъезде летающие тарелки приземлились». Голос другой: «Сам жаждешь, да?» Тут снова кто-то скомандовал: «Раз-два! Взяли!» И мужики стали возноситься на последний этаж, сгибаясь под тяжестью пианино. В конце пути их ждал стол, накрытый клеенкой, а на нем громоздилась гора жареной картошки и заманчиво потела бутылка «Столичной».
Андрейка за стеной приговаривал:
— Я играть научусь, буду в телевизоре выступать... Мам, а когда я буду в телевизоре, меня нигде больше в жизни не будет, да?
Колдуньи стали укладываться спать. Елена Власьевна расплела свои косы и скрутила волосы калачиком возле шеи, воображая себе, как легко будет мыть волосы в ванной, в ванне, когда будет отдельная...
— Как все будут удивляться, что я играю, — мечтал за стеной Андрейка. — Да, мама?
— Да-да, спи!
— Тут-тук, жди-пожди, стук-бряк, как-бы-не-так, — отстукала в ответ тросточка колдуньи-матери.
Дом затих до утра.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





