ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


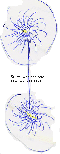
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
Этот сад как-то на глазах стал прошлым.
По всему, этого сада не было вообще, он случился
с ними — счастье, конечно, но лучше не задумываться об этом...
Андрей Битов. Сад
Весной
Ольга Журавлева, редактор заводского
радиообъединения Химпромсинтез, увидела,
что новый звукооператор неравнодушен
к ней. Сережа пришел к ним в прошлом
году, и своего первого впечатления о
нем Ольга не помнит. Кажется, обычное
равнодушие напополам с опасениями, что
парень окажется лоботрясом. Со
звукооператорами не везло, все попадались
ленивые и развинченные, а те, что получше,
в редакции не задерживались. Конечно,
для настоящего парня с самолюбием это
была не работа, и молодежь после армии
прибивалась к ним временно. Перед тем
как принять Сережу, Ольга уже подумывала,
не взять ли им девочку: пусть девочка и
не разбирается в радиотехнике так, как
парень, но зато послушнее и будет
держаться за место. Тем удивительнее,
что Сережа, будущий радиотехник, студент
вечернего отделения, не только у них
остался, но и Ольга не могла им нахвалиться.
Надо сказать, что Ольга, десять лет проработав на радио, сначала на областном, потом на заводском, была уже вполне равнодушна к своей работе, чтобы считать ее чем-то серьезным и портить себе нервы. Муж Ольги занимал хорошее положение в городе, и она не была озабочена собственной карьерой. Служба для Ольги была приятным времяпрепровождением, достаточным для ее женского престижа.
Их крошечная редакция состояла из четырех человек: Ольги, литсотрудницы Марты, жены редактора городской газеты, старичка-пенсионера Темнухина и звукооператора — всегда нового человека. Но они трое были ветеранами и жили дружно, не мешая друг другу. Передачи их сводились, в основном, к музыкальным поздравлениям по заявкам, да изредка они славили успехи своего предприятия: брали репортаж с пусковых или интервью с каким-нибудь ударником, но чаще забивали информацией и делали упор на музыку — и передачи их слушали, и хлопот было меньше. Старичок Темнухин без конца брал отгулы или болел; Ольга с Мартой тоже не очень-то горели на службе: успевали и в магазин, и в парикмахерскую, и по дому что-то сделать, никакого сравнения с областным радио — там действительно приходилось вертеться, чтобы жить, благо Ольга была тогда молодой, незамужней и конкурентоспособной. Но школа, конечно, осталась, и, войдя во вкус работать вполсилы, даже в четверть силы, она испытывала порой легкие угрызения за свое ничегонеделанье.
С Сережей они сработались: даже на лодырей Ольга смотрела сквозь пальцы, а новый звукооператор действительно ей понравился. Разве что не в меру застенчив он был, Сережа, и вначале Ольга решила, что мальчишка себе на уме. Всегда молчит, не улыбнется, держится особняком. При нем неудобно было убегать с работы. Ольга злилась иногда, что звукооператор торчит в студии до конца рабочего дня (остальным она разрешала «убеги» под разными предлогами, самой же приходилось сидеть, выдумывать себе и ему работу). Он же словно бы ничего не видел и не догадывался.
Однажды она не выдержала:
— Ладно, Сережа, на сегодня хватит. Иди домой.
Он снял наушники, удивленно взглянул на нее: не ослышался ли?
Ольга улыбнулась:
— На сегодня хватит, я говорю. Можешь идти домой.
— Но я еще не закончил, Ольга Ивановна.
— Завтра смонтируешь. Тут всего-то полчаса делов.
Сережа обстоятельно, как все, что он делал, начал собираться: смотал ленту, выключил магнитофон, запер шкаф. Лицо его, по обыкновению, ничего не выражало, эта недостаточность мимики слегка раздражала Ольгу, трудно было понять, что он думает.
На пороге он обернулся: то же замкнутое лицо и легкое удивление в голосе:
— Значит, можно идти?
— Да, вот что, Сережа,— досадуя на себя, и поэтому холодновато, сказала Ольга,— раз уж ты пошел. Надо бы обновить музыку, посмотришь там дома или у приятелей. Это тебе задание на сегодня.
Сережа послушно кивнул:
— Хорошо, я запишу. А какую музыку, Ольга Ивановна?
Простодушие мальчика смутило ее, и, уже не выдерживая свой начальственный тон, Ольга рассмеялась:
— Да все равно... Какие-нибудь там шлягеры, для молодежи... Я полагаюсь на твой вкус,— лукаво добавила она, понимая, что Сереже это польстит...
Сережей оказалось очень легко командовать: мальчик был не ленив, послушен, прекрасно чувствовал технику (он отремонтировал им все магнитофоны и даже электрические часы в студии, которые, кажется, никогда не шли). Нужно было только почаще хвалить его, тогда он расцветал, от неудач же, напротив, впадал в уныние и растерянность. Он был очень самолюбив, но тоже как-то по-детски, преувеличивал всевозможные пустяки и принимал их близко к сердцу. Любой комплимент, похвала или замечание, сказанные Ольгой совершенно бездумно, формально, заставляли Сережу краснеть.
Конечно, Ольга была далека от кокетства с ним, ей и в голову не приходило: Сережа в ее глазах был всего лишь двадцатилетним мальчиком, почти ее сыном, тем более что сын, пятиклассник, и ростом был чуть ли не с Сережку, гигантский ребенок, а он казался младше своих лет — невысокий, худенький. Но сама-то Ольга была женщиной. Она давно усвоила, что на службе легче иметь дело с мужчинами. Единственное, что требовалось в обращении с ними,— это всегда быть в хорошем настроении, быть бодрой и веселой.
Марта и Темнухин, искушенные строчкогонством в многотиражках, были свои люди, Ольга ничего с ними не «изображала»: вещание катилось само по себе, могло бы катиться и без них, разговоры на служебные темы были настолько излишни, что почти бестактны. С Сережей ей приходилось «изображать» редактора, внушать необходимость работы. Ольга заметила, что Сережа очень робок и неловок с женщинами: как правило, если на запись приходила девушка или женщина, сравнительно молодая и интересная, новый звукооператор терялся, неумеренно краснел и даже глупел (однажды он трижды подряд стер запись комсомолки-ударницы, девицы весьма яркой и бойкой). В конце концов Ольга стала ограждать его от женщин — слишком явный ущерб в работе. Эта чрезмерная эмоциональная ранимость корректировала как-то и ее действия: невольно она подстраивалась под Сережу и совсем уж нечаянно входила в роль, не только играла, но и ощущала себя редактором. Рядом с ним она утрачивала чувство юмора, улавливая инстинктивно, что только серьезностью можно добиться от него толку... Муж Марты, коллекционер всевозможных битлзов, записал где-то редкие пленки, но качество было кустарное, третья или четвертая запись. Конечно, раньше они давали и хуже, но появился новый звукооператор, и Ольга стала добросовестной.
— Вот, смотри...— не без волнения включала она Сереже,— по-моему, ничего?..
Это волнение и для самой Ольги было как-то неожиданно: неужели не все ей равно? Словно на практике, на областном радио, когда она, еще студентка, боялась не только редактора, не только завотделом, но и звукооператора, боялась лишний раз обратиться... Но Сережа этого не подозревал, и подобные «профессиональные» разговоры с редактором ему, наверное, льстили.
— Ага, приятно...— солидно хвалил он битлз,— И ударник четко работает...
— А теперь качество: слышишь, что у них там на хвосте?.. И верха кое-где пропадают, сможешь ты ее сделать?— деловито вопрошала Ольга, не вполне сознавая, что и бойкий тон, и небрежные эти словечки слегка почерпнуты ею из «областного радио», из каких-то полувоспоминаний о завотделом, о посвященности его и звукооператора в некие «профессиональные» тайны.
— Верха бы надо поднять,— бойко уточняла она,— а, Сережа?
— Не знаю...— честно задумывался Сережа,— надо будет уровень подобрать. А на хвосте я смикширую... Ладно, попробую!..
Он
уже освоился и работал прилично: Ольга
«нашла к нему ключик», как объясняла
она дома мужу.
Кажется, ближе к весне начала она замечать неладное: звукооператор ее то краснел, то бледнел, все чаще путался, и всех красивых девиц Ольга старалась записать сама или просила старичка Темнухина. Иногда она ловила на себе его взгляд, и ей становилось не по себе. Ей бы и в голову не пришло: во-первых, она давно уже не рассчитывала ни на чье внимание, большее, чем обыкновенная симпатия к женщине несвободной, замужней. Во-вторых, Сережа казался ей ребенком. И наконец, она была его начальницей!
Что он мог разглядеть в ней, за что зацепиться — вот что было непостижимо уму. И вот что для ее подчиненных стало главным козырем и уликой: Сережа, когда его пытались переманить в радиомастерскую, отказался от разряда, от денег — ради чего? Это был действительно странный случай, единственный в редакции: все прежние звукооператоры искали лишь бы что-то получше и уходили на завод, на любую вакансию. Сережу сманивал цех радио- и электроприборов, где начальник сулил и разряд, и перспективу стать инженером «годика через два»: Сережа учился на своем вечернем именно по их профилю, а как радиотехник устраивал уже сейчас.
...Потом, значительно позже, когда разгорелись настоящие страсти, Ольга спрашивала себя, стараясь быть честной: так ли уж, безо всякого повода влюбился Сережа? Ее отношение к нему ничем не отличалось от отношений с другими сотрудниками,— ну, разве что на молодость она делала скидку,— но, в общем, Сережа для нее ровно ничего еще не значил. До некоторых пор. Вот, пожалуй, когда она узнала, как он реагирует на похвалу, лестно стало приручить его, тем более что звукооператор действительно нужен, а парень оказался толковый. И чем сильнее слушался Сережа, чем больше старался, тем больше хотелось его приручить. Слегка она играла и в материнские чувства: «Пошли обедать, Сережа, пошли, пошли, я же знаю, что ты голодный...», «Надень как следует шарф! Простынешь ведь...», «Какой красивый на тебе свитер! Мама вязала?..».
Зимой Ольга познакомилась с его отцом, вместе ходили в профилакторий. Как редактора радио ее знали почти все, но она-то всех не помнила и, чтоб не попасть в неловкое положение, усвоила привычку здороваться даже с незнакомыми людьми: на заводах объединения работал почти весь город. Вот и с Сережиным отцом они вежливо раскланивались, Ольга не знала, кто это, но принимала его за одного из своих слушателей. Потом он как-то подсел за ее столик — пузатенький такой мужичок полуинтеллигентного вида, инженер из бывших рабочих:
— Вас, кажется, Ольга Ивановна зовут? Извините, что помешал. Я хотел бы поговорить о своем сыне.
Ольга и растерялась и обрадовалась: дома у Сережи, оказывается, только и разговоров, что о радио, о редакции, о передачах, да еще о редакторе — какой она замечательный человек! Вот Сережин отец и решил познакомиться, узнать, как там сын — получается у него что-нибудь?
Ну что ж, Ольга может только похвалить его сына: хороший, старательный мальчик. Настоящий радиотехник, и слух у него отличный, для звукооператора это очень важно. Со временем может работать на областном радио. (В устах Ольги это была особая похвала и говорилась она как бы с особым шиком и значительностью.)
Отец Сережи закивал польщенно:
— Сережка, он у меня самостоятельный! И дома все сам... Понимаете, он ведь рос без матери,— объяснял он зачем-то Ольге,— хоть и после армии, а пацан пацаном, не привык иметь дело с женщинами.
— Я рад, что вы с ним сработались,— доверительно говорил отец,— Сережа очень вас уважает.
После этого разговора Ольга стала еще внимательнее к Сереже: воображала, что ее как бы материнское влияние полезно ему, что надо его наставить и в другом, имеющем отношение не только к работе. Так они начали говорить на посторонние темы: о жизни, о книгах, о л юбви.
Иногда Сережа «зубрил» на работе: читал что-то или рассчитывал и перебирался в Ольгину комнатку, где было потише, чем в редакции — там вечно толклись посторонние, а Марта обзванивала знакомых: ей что-то доставали или она доставала, телефон трезвонил весь день. Ольга сама предлагала Сереже: «На запись больше не придут, можешь позубрить до обеда». Иногда он действительно что-то решал — для Ольги это была филькина грамота: интегралы, похожие на червей, какие-то «дельты» и «альфы» — все исписано твердым старательным почерком и называлось «конспект». (Ольга вспоминала свои конспекты: «Роль Белинского в развитии журналистики», «Пушкин как публицист» и т. д. Казалось это теперь бесконечно далеким и несерьезным.) Но чаще Сереже не зубрилось: поднимал голову от постылой страницы и с удовольствием отвлекался, лишь бы Ольге было не лень его расшевелить. Чаще всего они говорили о фильмах и книгах, которые он смотрел или читал. Причем Ольга лишь слегка подыгрывала ему — понимала, что он, наверно, смущается. Ей было все равно, о чем говорить. Беседы их носили чисто отвлеченный характер: например, в фильме «Романс о влюбленных» Сереже нравился герой, но не нравилась героиня. Этот детский максимализм умилял Ольгу. «Что ты хочешь? Она и так его сколько ждала, мучилась... Ну, вышла за другого — так ведь не знала, что он жив».— «А что, надо, чтоб он умер?» — полувопрошал, полувозмущался Сережа. Ольга подозревала, что он связывает эту историю со своей: его ведь тоже не дождались...
Ольга охотно с ним болтала — отчасти от скуки, порой от желания пофилософствовать, «воспарить» над обыденностью. Если уж с Мартой они пускались порой в подобные отвлечения, невинно дурача друг друга рассуждениями о «красивой любви», проектируя книжную и киношную философию на своих общих знакомых, то с Сережей это было и вдвойне лестно: его можно было поучать с высоты своих лет и опыта. Для Сережи их разговоры были заманчивы еще и потому, что редактор была женщиной: женщиной сравнительно молодой и в то же время искушенной, замужней — он мог приобщиться к чужому опыту, не выдавая свою неопытность. С фильмов они незаметно переезжали на жизнь, вспоминали различные случаи. Испаряясь из фильмов и книг, слово «любовь» выпадало ничтожными кристаллами: «ходить», «дружить», «познакомиться», «жениться» — притворялось и увиливало это хитрое слово. Зная Сережину дикость и женобоязнь, смешно было слушать его храбрые разглагольствования:
— Любовь?— спросил он как-то, отчаянно краснея.— А есть ли она, любовь?
Хоть и пытался он казаться циничным, не верящим ни в какую такую любовь, но слово произносил осторожно, с опаской,— впервые он назвал эту «любовь» не шутя и словно бы даже испугался...
— Ты знаешь, Сережа, есть!— горячо воскликнула Ольга.
— Да нет, я сам знаю,— вдруг тихо и как-то очень серьезно согласился Сережа,— я знаю, что есть.
И первый заговорил о том, о чем Ольге давно уже хотелось спросить, узнав от его отца:
— Вы знаете, у меня ведь была девушка. Два года меня ждала... Но теперь мне кажется, что это была не любовь.
— Ты очень переживаешь?— смущенно спросила Ольга.
— Нет, я давно не переживаю,— сердито покраснел он. И пренебрежительно добавил:— Было бы из-за кого...
Ольга узнала, что он умеет улыбаться — этот Сережа, странный, замкнутый мальчик с неподвижным лицом. Улыбка у него была чудесная, тем более что улыбался он редко и всегда неожиданно: темные и будто слегка сердитые глаза оживали, пухлый рот расплывался до ушей, обнажая крупные резцы с какой-то детской, мальчишеской щербинкой на верхнем — она придавала Сережиной улыбке бесконечную наивность и в то же время хулиганистость. Как его красила эта улыбка, если бы он улыбался почаще!..
— Ольга Ивановна, я сегодня чуть не проспал!— воскликнул он как-то утром, запыхавшись.— Проснулся без пятнадцати, а в восемь давать передачу... Пришлось хватать такси.
— Вот-вот,— иронически поддразнивала Ольга,— я уж думала, без тебя будем давать, искала тут ленту... С девочками надо меньше дружить.
— Да я не дружил,— беспечно объяснял Сережа.— Просто лег поздно, вот и не выспался...— он разделся и уже включал МЭЗы, настраивал пульт.
— Вот-вот, я и говорю... Я-то думала, ты у нас скромник.
— Да нет, я правда...— смутился Сережа.
И вдруг неожиданно брякнул, как-то странно глядя па Ольгу:
— А вообще-то, я не скромник, как вы думаете. Совсем нет.
— Сережа!-— комически ужаснулась Ольга.— Что за молодежь пошла?! И потом, это твое личное дело, дружочек, а на работу опаздывать нельзя!
Комический Ольгин ужас и строгость, с которой она его распекала, рассмешили Сережу.
— Не буду больше,— тоном послушного ученика оправдывался он.
Хоть и начинала Ольга догадываться, но держать его на расстоянии еще не составляло труда: она сводила все на шутку и словно бы мысли не допускала, что Сережа относится к ней иначе, чем к другим.
Однако в редакции уже замечали. Марта, на правах ровесницы и давней подруги, как-то намекнула:
— Ты знаешь, он, кажется, кинул на тебя глаз. Так и цветет, так и пахнет, когда ты входишь.
— Господь с тобой, Марта!— возмутилась Ольга.— Он же еще совсем ребенок, по-моему, и не дружит ни с кем...
— Ну, ребенок-то, может, и ребенок,— рассудительно сказала Марта,— да только черт его знает, что у него там в голове... Я бы на твоем месте призадумалась.
Ольга
обиделась: неужели Марта думает, что
она, Ольга, флиртует с этим мальчишкой?!
Это казалось оскорбительным, тем более
Марте легко рассуждать, не она редактор,
а попробуй найди на Сережино место
кого-то другого? А Сережа старается, и
у Ольги нет причин относиться к нему
строже, чем сейчас. Ну, а если они говорят
не только о работе и Сережа с ней
советуется — так просто он уважает
ее... Так она объясняла это самой себе,
не желая догадываться, что, может быть,
власть над ним отрадна ей не только как
редактору и что игра с Сережей, с его
чувствами, с его душой, замкнутой, смутной
и постепенно ей раскрывающейся, уже
захватила Ольгу, и она не могла бы
остановиться.
Странно, невероятно, но общение с ним как-то влияло и на Ольгу. Что изменялось в ее ленивой и равнодушной душе? У Ольги проснулось честолюбие. Вдруг вспомнила она, что была когда-то радиожурналистом, вдруг начала работать сама и требовать от других. Кроме обычной тягомотины, что они давали, нередко дублируя заводскую газету, стали появляться «ударные» материалы: репортажи, радиоочерки. Ольге хотелось натаскать Сережу, тем более что работал он усердно, с детским каким-то энтузиазмом. Двухчасовую речь с невыносимо длинного собрания он мог смонтировать в бравую проблемную беседу за круглым столом. Слушатели не подозревали, что бойкие и деловые высказывания главного технолога о всеобщей автоматизации человеко-процессов сокращены Сережей на метры и метры магнитной ленты, что в студии технолог двух слов не мог связать, мямлил и заикался, что не было возможности оторвать его от бумажки, а когда все же уговорили, технолог нерентабельно, но стабильно заглох, будто пробил его последний человеко-час, и Сереже, чтобы хоть что-то смонтировать, пришлось выбирать из трех пленок, то есть полтора часа, потраченные на технолога, сократить до трех минут студийного времени. Он полюбил работать с шумами и очень удачно ими пользовался. Однажды Сережа записал шум пара на эстакаде, они поставили его в передачу об экономии сырья и топлива, и получилось очень «ударно»: вой пара из свища, похожий на сирену «скорой помощи», сопровождал рассказ о халатности энергетиков, о бесхозяйственности и разгильдяйстве.
Эту перемену заметил и Ольгин муж.
— Что у вас там случилось?— спросил он однажды Ольгу.— Неприятности какие-нибудь?
— Почему?— удивилась Ольга.
— Ну, не знаю... Раньше ты уходила к десяти, а после обеда была уже дома... Или Губин за вас как следует взялся?
— Ах, вот оно что...— Ольга засмеялась.— Нет, Губин — отличный мужик, с парткомом мы всегда ладим. Он мне даже венгерское оборудование обещал. Ты знаешь, а у меня на область просили передачу, помнишь, ту, по экономии сырья?
— Даже так?— удивился муж. Он шутливо погрозил пальцем:— Что-то тут неладно. Смотри, старушка, может, венгерское оборудование — только предлог? Может, с Губиным у вас шуры-муры?
Ольга развеселилась еще больше: при чем тут Губин? Просто у нее новый звукооператор, можно работать.
Но если заметил даже муж, то в редакции замечали и подавно. Марта больше не говорила с ней, но Ольга видела выражение ее глаз, понимающую улыбку. Старичок Темнухин тоже стал как-то хитренько улыбаться, помалкивать многозначительно. Все видели, что-то происходит. А происходило очень серьезное, о чем следовало бы задуматься и Ольге, если бы она хоть на минуту отвлеклась от внезапного своего помолодения и неожиданного прилива сил. Все видели, что она расцвела и похорошела.
А Сережа вдруг стал на глазах увядать: от недавней раскованности и детской доверчивости не осталось и следа, он непонятно и угрюмо дичился. Ольга не представляла, что творится у него в душе, но, видимо, шла какая-то борьба, изнурительная и сложная для Сережи: будто он только сейчас открыл для себя, что она ему нравится, и старался себя пересилить. Уныние иногда покидало его, и тогда он пытался не то чтобы завоевать Ольгу — нет, конечно!— но вырасти в ее глазах, что ли, вырасти и в собственных глазах — духовно, морально, физически. В такие дни нападали на него приступы трудолюбия, он был собран, работал на удивление легко. В такие дни к нему возвращались его доверчивость и веселость, он становился самокритичен. Радостно глядя на Ольгу, он много говорил о себе, о том, чем он в себе недоволен. Например, его ученье в институте: Сережа уступил желанию отца и еще потому, что в радиотехнике он «рубит», а после армии был смехотворный конкурс, даже с тройками брали... Но хорошо ли это? Подумать, что всю жизнь возиться с полупроводниками и не знать ничего другого. А чего же он хочет, спрашивала Ольга, в чем он видит свое призвание? В том-то и дело, волновался Сережа, может, нет у него никакого призвания? В школе он хотел быть геологом, но это, конечно, детство... После армии ребята звали на Север, и почему он не поехал? Или, может, в торговый флот: кореш недавно писал, в Сингапур ходили и на Ямайку, интересно. А он учит какую-то электротехнику, чертит шкивы в разрезе. Займись спортом, советовала Ольга, ты молодой, сильный. Спортом?— смущался Сережа. Это, что ли, в плавательный бассейн ходить, как старики? Это он в сорок лет, когда будет старый, как его отец, а в двадцать лет заниматься таким спортом скучно. Большой спорт для него закрыт, он же понимает.
Но Ольга подозревала, что по утрам он делает теперь зарядку и обтирается холодной водой: как-то очень он стал напряженно бодр, неестественно прям в плечах, собран и отутюжен. Все его свитерки и рубашечки очень уж выдавали это желание — быть в чьих-то глазах интересным. И, о ужас: начал отпускать себе усы! «Такой милый мальчик, — огорчилась Ольга,— ну зачем тебе усы? Тебя старит...» Сережа отчаянно краснел, жалко и несчастно оправдывался, но усы не сбривал...
«...Может, альпинизмом заняться?— не советовался, а размышлял вслух Сережа.— Это, по крайней мерс, спорт, а туристы только балдеют, салаги, а не туристы... Понимаете, скучно!— удивленно говорил Сережа.— И разговоры у них скучные: нажрутся водки и орут под гитару или еще «Бони-М» на кассетнике — делают вид, что балдеют, а самим скучно... В кабаках тоже скучно, я пробовал... Нет, мне кажется, нельзя с девушкой познакомиться в ресторане, если только так, как некоторые парни...» — «Значит, тебе нравятся скромные девушки?» — снисходительно улыбалась Ольга. «Нет,— смущенно говорил Сережа, слегка краснея и опуская глаза,— я бы не сказал... Если она как воды в рот набрала, то и подойти к ней нельзя, подумаешь, что ей какой-нибудь принц Гамлет нужен... Нет, такие мне тоже не нравятся». — «Какие же тебе тогда нравятся?— добродушно смеялась Ольга. — Ну, какие?..» И тут он краснел так жарко и мучительно, так отрывисто буркал: «Никакие!» — и так поспешно покидал студию, что Ольга с удовлетворением и стыдом понимала: такие, как она, ему нравятся, и только лишь такие...
Но такие «разговорчивые» дни выпадали чрезвычайно редко, в основном же Сережа дичился, пребывал в «нулевом цикле», как пошутила однажды Ольга, все у него валилось из рук. Возможно, он ревновал Ольгу: как раньше его смущали женщины, настолько теперь подавляли мужчины. Рослые уравновешенные блондины со спокойными чертами лица и импозантной бородкой особенно угнетали Сережу. Возраст предполагаемого соперника тоже имел значение: к ровесникам Сережа относился откровенно враждебно, на тридцатилетних взирал со страхом и самоуничижением, а к мужчинам после сорока оставался равнодушен — видимо, соперниками уже не считал. Репортерская привычка вышколила Ольгу быть легкой и ласковой в общении — выступающих нужно было расположить к себе, разговорить, снять страх перед микрофоном. Сережу она разговорила в свое время теми же чисто профессиональными приемами. Но теперь он на всех интервьюируемых мужчин взирал с бесконечной враждебностью, а на Ольгу — с обидой и страхом. После особенно удачной записи он оскорбленно замыкался и не желал разговаривать. Когда Ольга, возбужденная и довольная собой, делилась с ним радостью: «А правда, отличная получилась лента?» — Сережа обиженно молчал. «Почему ты молчишь? Что с тобой происходит?» — удивлялась и сердилась Ольга. «Так... ничего не происходит», — скорбно выдавливал Сережа, и в глазах его стояли слезы.
Казалось, «ударность» передачи целиком зависит от редактора — от содержания. Если бы! Сережа, весь во власти своей подавленности, умудрялся так «зализать» передачу, так обезличить и лишить всех живых шероховатостей и звуковых оттенков, как будто ленту монтировал автомат, а не живой человек. Он усердно вырезал и кашель, и невольный вздох смущенного выступающего — получалось гладенько, но мертво, даже репортажи звучали как отрепетированные в студии. «Ну что, опять зациклился?»— огорченно шутила Ольга. Сережа криво пытался улыбнуться: «Я стараюсь, Ольга Ивановна. Сам не знаю, почему так выходит...» — «Сам не знаешь!— передразнивала Ольга. — Ленишься, распустился, дружок». Но она знала, что Сережа не ленится... Его уныние раздражало Ольгу и в другом смысле: в такие дни Сережа чурался, избегал ее, а она уже привыкла к его молчаливому восхищению, к его радости видеть ее и быть рядом с нею. Постоянное присутствие молодого, доверчивого, чистого в помыслах существа бодрило, как электромассаж или кислородная ванна, она заряжалась его радостью к жизни. К тому же то, что происходило с Сережей, было невинно и неопасно для Ольги, он не подозревал, что кто-то может догадываться о его любви. Все, что они говорили, можно было сказать при других: Ольга считала, что с Сережей она не кокетничает. Одним из таких скрытых вариантов кокетства стали, например, разговоры о Сережиной свадьбе: вся редакция хотела женить Сережу, и Ольга хотела тоже. Дразнили Сережу сообща, он добродушно отшучивался: «Женюсь, конечно, к концу пятилетки». Вообще, с посторонними он стал гораздо естественнее, легче, Ольга даже гордилась, как разговорила его за эти месяцы, как отесала и расковала: прямо-таки шарм в нем мужской появлялся, такой стал бойкий паренек, и с девочками почти не краснеет. Вот и о свадьбе своей он шутил, не обижался.
— А правда, когда ты женишься?— спросила она как-то наедине.— Такой симпатичный парень, даже жалко.
— Я же говорю, в конце пятилетки,— неловко отшутился Сережа.
— Нет, я серьезно.
Сережа вдруг сник. Ольга смутилась, что зашла слишком далеко, что, пожалуй, и правда кокетство — разговаривать с ним об этом, да еще делать вид, что невинно спросила.
— Вы же все равно не придете ко мне на свадьбу,— глухо и горько вырвалось у Сережи.— Зачем же вы спрашиваете тогда?
Это
был упрек. И это была безысходность: он
не обвинял ее, а знал, что так будет, он
не верил в себя.
Если уж вселял в него кто надежду, то, конечно, не Ольга, а посторонние: спектакль, за которым они наблюдали, раскалил атмосферу до крайности, Сережа тоже стал замечать — их имена связывают, за ними наблюдают. Страх, что догадываются о его любви, выливался страхом за Ольгу: он начал грубить посторонним, язвить. Оскорбленные жаловались Ольге: звукооператор грубит, дерзит, почему она ему все спускает? Но ей же он не дерзит? — невинно изумлялась Ольга. Почему взрослые люди не могут сработаться с мальчишкой? Сереже она не делает никаких поблажек, мальчик работает от звонка до звонка и, кроме того, перерабатывает,— когда надо записать КВН или смотр самодеятельности, Ольга просит Сережу. И отгулов он не требует, как Темнухин, в парикмахерскую, как Марта, не бегает. С тех пор как пришел Сережа, эти двое вообще, по существу дела, не работают — Марта, например, месяц бюллетенила, и Ольга слова ей не сказала, хотя прекрасно знала, что у нее за болезнь и откуда больничный. Ольга и сама частенько так «болела», особенно когда сын был в начальных классах. Но она редактор и не может, как Марта, наглеть: за два месяца сделать две передачи, одну о терапевте, а другую о производственной столовой, где Марту снабжают мясом и свежими овощами. А Ольге как-то неудобно брать по блату: последний раз она просила у них томатов, когда делали новогоднюю передачу, и до сих пор Ольге не по себе от этой неловкой сцены. Она хотела как лучше и попросила Сережу сделать музыку — в конце концов, не для себя же она старалась, а для всей редакции! Сережа записал, он думал, это по делу, и ни о чем не догадывался. А когда принесли ящик с томатами и стали делить — покраснел до слез! Томаты он, конечно, забрал, благодарил даже: Новый год, отец и сестра радешеньки... Но ох как Ольге нехорошо было, как неловко! По идее, они громят взяточников, а сами на глазах у мальчишки, к тому же комсомольца... Какой ему пример? Нет, Ольга не обольщалась, она знала, что молодежь сейчас громкими словами не удивишь, не оскорбишь подкупом или взяткой. И Сережа старался быть как все, казаться развязным, поддерживал их взрослые разговоры. Но, господи, как он покраснел! Не страшно говорить, страшно самому сделать. Значит, есть еще что-то, кроме громких фраз, идейных лозунгов: Ольга забыла, что оно есть, но ведь есть. Да и вообще, приучишь вот так, на свою шею. С прежними операторами Ольга намучилась: это им достань, туда отпусти, ленты магнитной дай... Один даже умудрился спекульнуть этой лентой на базаре. Ольгу потом затаскали. Ее сотруднички, видно, забыли, какие операторы у них были до Сережи. Старичок Темнухин, тот вообще бы лучше молчал, что сидит у Ольги, на заводском радио, а не в городской газете, так нет, туда же. Входит в студию: «Я вам не помешал?» Сережа как маков цвет, Ольге тоже не по себе, и главное — никаких оснований! Видит же, что Ольга печатает, а Сережа расшифровывает сегодняшнюю запись по рейду — в разных концах студии, и говорить невозможно: машинка, магнитофон. Так нет: «Я вам не помешал?» Какая деликатность... Ольга решила поставить его на место:
— Каким образом могли вы мне помешать, Викентий Григорьевич? Вы что, не видите, чем я занята?
Засуетился, хихикнул:
— Да нет, я так... Думал, мало ли...
Сел к другому столу, барабанит пальцами — показывает, что самые чистые намерения, что это он случайно спросил. Ищет тему для разговора:
— Прекрасная погода, не правда ли, Ольга Ивановна?
— Чудесная, Викентий Григорьевич.
— Да, м-да... Выходит, что оттепель.
Ольга знает, о чем сейчас будет разговор — об очередном отгуле. Неделю не проработал — опять отгул!
— Ольга Ивановна, я хотела спросить... Внук ко мне завтра приезжает.
Ольга молчит, будто не слышит: помучься, старый лис, покряхти, коли сам напросился. Пенсионер действительно кряхтит, по-стариковски вздыхает. Опять барабанит пальцами по столу.
— Так как же, Ольга Ивановна?
— Вообще-то, много работы, Викентий Григорьевич... Посмотрим.
— М-да...— кряхтит старичок,— конечно...
Оборачивается к Сереже:
— Ну-с, молодой человек, а как ваши успехи? Моло-о-дец! Какой молодец! Не правда ли, Ольга Ивановна?
— Да, Сережа уже освоился,— невозмутимо кивает Ольга.
Сережа тоже все понимает, но по застенчивости своей молчит. Тут не выдерживает. Приходит на помощь:
— Ольга Ивановна, вы говорили, что вам надо в партком... Вы не забыли?— В глазах понимание, виноватость, обида за Ольгу и злость на Темнухина.
Ольга строго, ставя его на место:
— Я помню, Сережа. Вот допечатаю и пойду.
— Ладно, тогда не буду вам мешать, потом расшифрую...— выключает магнитофон, снимает наушники. Выразительно смотрит на Темнухина: — Вам надо работать, а то некоторые не понимают...
Теперь Ольга действительно краснеет, она вне себя от ярости: сопляк, рыцарь несчастный! Кто его просил? Что он суется не в свои дела, в которых не смыслит ничего?! Темнухин ухмыляется, благодушно смотрит Сереже в спину.
— Нервная молодежь пошла, Ольга Ивановна... Так как же насчет отгульчика?
— Ах, да бога ради!— срывается Ольга.— Разве я вас когда не отпускала, Викентий Григорьевич?
— Ну вот и добро,— совсем уже благодушно кряхтит старичок,— я же знаю, что вы человек святой, Ольга Ивановна, я все понимаю.
С Сережей становилось все труднее, все труднее выдерживать его взгляды, не замечать его подчеркнутое к ней расположение. Когда она входила — он сиял, говорила — краснел, старалась быть строгой — он терялся. «Ну вот, доигралась,— в унынии думала Ольга,— что теперь будет?» Она еще пыталась все свести на шутку, но это было почти невозможно: он так и рвался объясниться с ней, видимо, считал, что она не все понимает. Ольге приходилось проявлять дьявольскую изобретательность, чтобы в очередной раз уклониться и как бы ни о чем не догадываться. На улице, когда она уходила на обед, в магазины, Сережа нагонял ее: за двадцать метров, спиной, Ольга чувствовала уже его приближение. Он несчастно плелся за ней, обходя следом все магазины, нелепо выстаивал у прилавков, где его будто бы интересовали женская косметика и вологодские кружева, как вдруг отрывался от беспомощного преследования и оказывался рядом: Ольга вздрагивала. «Давайте, я помогу вам, Ольга Ивановна»,— хрипло и глухо выдавливал из себя, хватаясь за ее сумки, как за соломинку. Лицо белее мела, и смертельная решимость в лице — Ольга ужасалась: сейчас он ей ляпнет, и что тогда делать ей с ним? Улыбалась казенно, невинно: «Спасибо, Сереженька... Что, решил себе купить рубашку? Неважная расцветка, правда?.. У тебя темные глаза, нужно бы что-то посветлее...» — улыбалась, невинно глядя в эти темные глаза, и мертвела, что он не даст ей увильнуть и ляпнет. Но Сережа был слишком потрясен собой и своими чувствами, чтобы догадываться о ее страхе — сникал от казенной фразы... В столовой, уже в очереди, Ольга знала, что Сережа сейчас подсядет к ней: и действительно, плелся со своим подносом, как на плаху, к ее столу. В лице ни кровинки, и наконец поднимал глаза — что в них творилось! Ольга утыкалась в тарелку и смятенно обсуждала меню, ругала здешние порядки, поваров, нечистые вилки... Как привязанный, неловкий, несчастный, он ходил за ней, и в хмурых, безнадежных глазах одно и то же, то же самое: не могу больше! Жить больше так не могу.
После работы он караулил на остановке, хотя Ольга старалась задержаться, чтобы не встретиться с ним. Как вспыхивало его лицо, если, на Сережино счастье, все уже уезжали и только они вдвоем оказывались в набитом незнакомой толпой автобусе! Переполняясь их близостью, все три остановки до Ольгиного района Сережа готовился и отчаивался сказать: эти невысказанные слова стояли в воспаленных глазах, отлетали от сомкнутых страхом губ, и молчание было страшнее признания. Как тревожно и дико было видеть это юное лицо, обращенное к ней, когда рядом, за его спиной, щебетала и смеялась стайка хорошеньких девушек. А если Сереже не везло и ехали с ним знакомые, их разлучала толпа, Ольга чувствовала, как вызывают, выкликают, требуют сзади Сережины глаза, велят ей обернуться, — и безвольно оборачивалась.
Бог мой, Ольга и не подозревала, сколько есть, оказывается, способов объясниться в любви! С той же изощренностью, с которой она уклонялась, этот застенчивый, неискушенный мальчик пытался с ней объясниться. Как на грех, все песни, что они крутили в передачах, все пошленькие шлягеры,— все были о любви!
Сережа бесконечно, назойливо, терпеливо в своем упорном отчаянии крутил одну и ту же ленту:
Когда мы встретимся совсем случайно,
быть может, взгляд мой вам откроет тайну,—
пел какой-то развинченный и томный молодой человек.
Я столько лет храню в душе ваш образ милый,
но не решаюсь я об этом вам сказать.
Ольга знала, что Сережа не любит советскую эстраду, предпочитает, как его ровесники, зарубежные ансамбли, ибо родимый ширпотреб не покоряет молодежь ни оригинальностью оранжировки, ни крикливой бестолковостью слов,— что не говорит, конечно, об утрате патриотизма или вымирании национального чувства. Просто молодежь не адаптирована к явной фальши, «иностранное» лестно ей, как протест, какая-никакая «романтика» в пресном прозябании старших. С каких пор, на какой стадии его безнадежной любви Сережу всерьез тронула эта пошлая песенка под названием «Старая пластинка»? Из музыкального хлама фонотеки он выбрал именно ее и крутил ежедневно — для себя? для Ольги? Утром Ольга заставала его в одиночестве, грустящим под эту песенку.
«...быть может, взгляд мой вам откроет тайну»,— пел равнодушный певец, и Сережа прятал свои глаза, краснел, что читают его мысли, хотя только что мечтал в них признаться и не без умысла крутил, поджидая Ольгу.
«...но не решаюсь я об этом вам сказать»,— с мужским напором признался певец, а Сережа ник и страдал и умирал от страха, что она улыбнется догадливо, посмеется над его чувством...
Ольга презирала осточертевшие студийные шлягеры, как профессиональная экзема, они раздражали слух, и дома Ольга выключала телевизор и радио. Сентиментальная дребедень по заявкам атрофировала в ней женскую сентиментальность, но эта, именно эта песенка преследовала ее, звучала в ушах и днем и ночью: обнаженный пронзительный смысл, который вкладывал Сережа в чужие слова, лишал их и глупости и пошлости и звучал такой невыносимой нотой, что Ольга порой содрогалась: так вот, значит, как бывает! Вот как, оказывается, любят! Вот как любят ее, Ольгу! Под эту песенку она входила в студию, под эту песенку следили за ней истомленные глаза Сережи. Эта песенка преследовала и дома, и те же изнуренные любовью глаза не оставляли в покое, но дома, вдали от Сережи, они казались еще преданней, еще исступленней...
Все это оказалось так серьезно, так тяжело и неловко, такой виной и ответственностью обернулось для Ольги, что у нее не хватало мужества оттолкнуть его от себя, пресечь. Да и что было пресекать? Они ни разу не прикоснулись друг к другу, оба старательно избегали этого: даже передавая пленку или текст передач, Сережа не решался подойти к ней близко, только на расстояние вытянутой руки. Марта на правах старшей могла ему взъерошить волосы, поправить шарф — Ольга жгуче завидовала ей и ревновала, но сама бы и под пистолетным дулом не прикоснулась к Сереже... Только глаза... В столовой или в студии, говорили они о работе или о пустяках, о жизни, Сережа поднимал вдруг глаза и неотрывно смотрел на Ольгу. Глаза у него были странные: сперва казалось, что карие, но если присмотреться получше, все в мелких-мелких точечках.
Марта с Темнухиным ухмылялись все чаще, глядя на них. Все это должно было плохо кончиться.
Ольге нужно было с кем-то посоветоваться, и она решила посоветоваться с мужем. О многом, конечно, умолчав.
— Ты знаешь,— смущенно начала она,— в меня, кажется, влюбился мой звукооператор. Просто ума не приложу, что мне делать.
Муж с недоумением поднял глаза.
— Этот мальчишка? В тебя?— муж удивленно хмыкнул.— Что он, интересно, в тебе нашел?
Его неподдельное изумление задело Ольгу: как будто ничего уж и нельзя в ней найти?! Муж был старше ее и относился к ней всегда как-то снисходительно, словно не принимая всерьез. Но то, как реагировал сейчас, совершенно потрясло Ольгу.
— Ах, с тобой нельзя говорить серьезно!— с преувеличенной досадой, скрывая настоящую обиду и разочарование, сказала она.— Я хотела с тобой посоветоваться.
Впрочем, теперь она уже понимала, что никакого такого «совета» не дождется от мужа, и более того, что и не ждала, рассчитывая на что-то другое.
Муж пристально посмотрел ей в глаза.
— По-моему, ты преувеличиваешь,— уже спокойно и совершенно серьезно говорил он жене.— Просто не подавай парню надежды, вот и все. Если только действительно что-то заметила.
Ольга задумалась. Что-то нужно было еще сказать, объяснить мужу, но она не находила, что именно, и смущалась.
— Да я и не подавала...— неуверенно решилась она, почти искренняя в своем желании высказаться,— но, понимаешь, он так ходит за мной, что иногда мне становится его жалко.
Но муж только презрительно пожал плечами.
— Ну
что ж, пожалей его тогда!— отрывисто и
зло и каким-то не своим голосом сказал
он.— Но со мной не советуйся!
Седьмого марта Ольга обнаружила в студии цветы. Она обрадовалась, смутилась и очень рассердилась на Сережу. Что позволяет себе этот мальчишка! Не чересчур ли она с ним добра, раз он осмелел уже до того, что преподносит ей вот такие сюрпризы? Особенно теперь, когда о них говорят, шушукаются и Ольге приходится проявлять дьявольскую выдержку, чтобы не сорваться с ними или с Сережей. Про цветы она знала: это, конечно, Сережа.
Сережа старательно делал вид, что копается в пульте, ремонтирует, но уши выдавали, пылали. Это его неумелое, напускное равнодушие и жгучее ожидание — ожидание бог знает чего!— почему-то возмутило Ольгу:
— О, какие чудные розы!— преувеличенно изумилась Ольга.— Откуда они, Сережа?
Мальчишка еще ниже склонился над пультом, еще ярче запунцовел.
— Почем я знаю? — отрывисто буркнул он.— Может, корреспонденты...
— Во-о-от оно что,— медово удивилась Ольга,— значит, корреспонденты...
Все для себя уяснив, Ольга окончательно рассердилась: мало того, что он преследует ее, ставит в дурацкое положение этими дурацкими цветами,— так он еще ей дерзит!
— Вот что, Сережа,— раздельно и твердо сказала Ольга, — я очень тебя прошу: не смей этого больше делать.
Мальчишка словно не слышал ее, копался в своем пульте.
— Ты меня слышишь?
Сережа упрямо молчал.
— П-почему?— выдавил он наконец.
— Потому
что ты делаешь посмешищем меня, потому
что ты злой и самонадеянный сопляк,
потому что над нами смеется вся редакция!—
выпалила она. И уже в полном исступление,
задыхаясь: — И ты это знаешь не хуже
меня, но тебе, видимо, лестно!
Цветы она тем не менее взяла. Позже, в конце рабочего дня, когда все уже ушли из редакции.
И на улице, среди сияющего снега и солнца, осторожно ступая по скользкому тротуару, она то и дело опускала в цветы лицо. Прохожие, особенно мужчины, улыбались, глядя на Ольгу, и она улыбалась им тоже...
Муж дома ядовито спросил:
— Кто это тебе подарил? Твой Ромео?
Теперь Ольге было очень жаль мальчика, что так накричала на него, и поэтому она рассердилась на мужа.
— Что, ревнуешь? — злорадно удивилась она.— Как ты, оказывается, умен... А насчет цветов можешь успокоиться: это не он, а корреспонденты. От него бы я не взяла...
Надо сказать, что Ольга, замужняя женщина, мать одиннадцатилетнего сына, имела совершенно ничтожный любовный опыт, вернее, она не имела его совсем. Ее давнишние, забытые, девичьи представления о любви сводились к каким-то смутным мечтам о каком-то идеальном герое: он должен быть красив, и смел, и умен, и высок ростом, и обладать недюжинной волей, и быть еще вдобавок галантным. В школе, например, она влюбилась в артиста Вячеслава Тихонова, но здесь была только мода школьных лет. В институте Ольга была слегка и недолго влюблена в преподавателя античной литературы: этот рослый вальяжный мужчина, ленивый и разнеженный, тоже почти мог сойти за героя, тем более что и в этой своей любви Ольга была неодинока: за красавцем профессором бегала вся женская половина курса. Конечно, Ольга принимала ухаживания ребят, ходила с ними в кино и на танцы, но только потому, что если бы не ходила, то оказалась бы белой вороной среди сверстниц и ее девичье самолюбие страдало бы. А мечты о герое были восторженными и совершенно безнадежными. На практике, на областном радио, Ольга познакомилась со своим теперешним мужем и вышла за него: потому что он ей предложил и потому что все ее сверстницы уже выходили замуж. Потом уже была и страсть, и муки, и ревность — все, что полагается каждой женщине, и Ольге казалось, что она любит мужа, а муж любит ее. Это было главным удовлетворением в браке и в жизни, основным признаком ее духовной полноценности: муж у нее хороший, серьезный человек, и этот солидный человек всерьез любит Ольгу.
Нет,
Сережина любовь ничего не могла ей
принести, кроме огорчения и стыда, и
Ольга во всем обвиняла Сережу: зачем он
ходит за ней? Что ему нужно от нее? Зачем
он позорит ее?
Сначала как будто ничего не произошло. Сережа по-прежнему вспыхивал и бледнел, по-прежнему глядел изнуренными своими глазами. Только будто еще исступленнее стали его взгляды, когда Ольга сталкивалась с ним случайно в коридоре или на лестнице. В студии Сережа больше не подходил к ней и старательно ее избегал. Даже то необходимое, служебное, что приходилось говорить им на людях, говорилось словно через силу, враждебно. Но в коридоре, на темных лестницах, на улице, где их не видел никто, Ольгу сторожили Сережины глаза — и что-то непомерное, грозное, почти страшное чудилось Ольге. В столовой Сережа больше не подсаживался к ней. Но и через стол, спиной, она видела его глаза и давилась постылой котлетой или супом. Ольгу злило, что Сережа подчеркнуто чурается ее, демонстрирует свою независимость. Разве Ольга не была с ним добра, так чутка и тактична? Она ни разу не подшутила над его нелепой влюбленностью, не пожелала обсуждать с Мартой, когда та навязывалась в советчицы, и сделала себя посмешищем в чужих глазах, потому что боялась оскорбить Сережину преданность. Так за что же он дуется? Ольге казалось, что теперь, в благодарном восхищении, он должен чуть ли не молиться на нее — но опять-таки издали, безропотно, незаметно, не посягая ни на что, не ставя ее в неловкое положение, а чтобы и Марта с Темнухиным, потрясенные Ольгиной святостью, взирали на нее как на икону. В общем, трудно понять, чего она ожидала. А в конце месяца случилось скверное: сказала ему что-то резкое об утерянной ленте, накричала при всех несправедливо, Сережа вспыхнул и выбежал из студии. И всем было неудобно за Ольгу. А Марта потом сказала — осуждающе, зло: «Ну, мать, ты уж чересчур... За что ты истязаешь мальчишку?» Но Ольга считала, что никого она не истязает: подумаешь, какие мы нежные и обидчивые! Лента не сама испарилась — он ее потерял, так что же, пусть растащат всю студию, раз он так страдает от несчастной любви?.. И Марта хороша, старая корова: то издевки, ухмылочки, а тут, видишь ли, пожалела мальчика! Завидно, что не за ней он бегает? Побыла бы в Ольгиной шкуре, когда мальчишке слова нельзя сказать — распустил нюни, позорит ее. Связалась на свою шею, а все жалко было! Вот и дождалась.
Однако постепенно это прошло. И Ольге уже не казалось, не мерещилось: Сережа действительно к ней стал равнодушен. И теперешнее его равнодушие, — Ольга и не подозревала! — о, как больно оно ударило Ольгу, о, как мучительно оказалось потерять его привязанность к ней! Нет, он не дулся, не подчеркивал свою холодность — он действительно избавился от нее. Ольга видела: с Мартой он говорит и держится точно так же, как с ней. Ее раздражала Марта, ее раздражало все. «Сереженька,— говорила Марта, с материнской якобы лаской ероша его девичьи кудри,— отчего ты не пострижешься? Ведь хоть косы плети...» И он, хоть бы хны, смеется! Ольга бесилась.
— Сережа, хватит чесать языком,— раздраженно говорила она,— монтируй, пожалуйста, передачу.
И он насмешливо отвечал:
— Сейчас, Ольга Ивановна, сию минуту.
Его не в чем было упрекнуть, он по-прежнему хорошо работал, по-прежнему был послушен и вежлив. Но упреки рвались с языка у Ольги. Она унижалась перед ним, заискивала — Сережа не хотел ее замечать. «Боже, ему легко меня презирать, — в отчаянии думала Ольга, — я его чуть не вдвое старше, а есть моложе, красивее...» Неожиданно она поймала себя на том, что кокетничает совсем с молодыми людьми, ровесниками Сережи, что стала неумеренно молодиться, легкомысленно одеваться. Догадываться об этом было унизительно. А Сережа ее не замечал.
Вне работы они не виделись, Ольга ни разу не встретила его в городе, и это было удивительно — городок у них небольшой. Впрочем, они жили в разных районах. Как-то неожиданно и незаметно прошла весна: все было холодно, и вот в конце мая установилась настоящая летняя жара — на работе они уже включали вентилятор. Ольга так и не видела нынче подснежников: где-то там, в лесу, они успели отцвести, пока она моталась в своем городском распорядке, бегала по магазинам и в прачечную, драила дома полы. В городе отцвела черемуха.
В одно из воскресений Ольга выходила из центральной кондитерской с коробкой шоколадного торта.
— Ольга Ивановна?— окликнул ее вдруг знакомый голос.— Здравствуйте, Ольга Ивановна!
Это был Сережа. Он улыбнулся так хорошо и открыто и радостно глядел на Ольгу:
— Давайте, я вам помогу... Вам в какую сторону?
— Да нет, спасибо, — Ольга почему-то смутилась,— что тут помогать... Вообще-то, я живу в сто седьмом.
— А я в пятнадцатом, в третьем доме,— весело объяснял Сережа, завладев ее сумками.— Вот уж не ожидал вас встретить!.. Я ведь почти каждый день здесь хожу.
— И я тоже!— удивлялась и смеялась Ольга.— Странно, что мы ни разу не встретились.
Сережа был одет уже по-летнему, в тесноватой майке и джинсах, и казался таким юным, по-детски хрупким. Ольга исподволь любовалась им.
— А ты уже загорел,— смущенно говорила она,— на работе я что-то не замечала.
— Ага, на речке, — беспечно объяснял Сережа,— готовлюсь к сессии.
— Ну и как, подготовился?
— Да вроде бы нет,— радостно смеялся он, глядя на Ольгу,— такая погода, ни черта в голову не лезет!
Так они шли и смеялись, и прохожие, должно быть, пялились на них, на эту странную парочку, но Ольга ничего не замечала. Ей было все равно, куда идти, в какую сторону, — только бы идти рядом с Сережей и чтобы он глядел на нее, смеялся и опять глядел удивительными своими глазами.
— Какой ты сегодня веселый!— говорила Ольга.— А за что ты дулся на меня в редакции?
Сережа как будто обиделся, замолчал.
— Так за что же ты на меня дулся, молодой человек?— настойчиво спрашивала Ольга.
Сергей вдруг повел плечом.
— Это я дулся?— отрывисто спросил он, пристально глядя на Ольгу.— Бог знает, что вы говорите. Нет, надо же!
Остальной путь они прошли отчужденно: Ольга не решалась говорить, а Сережа упрямо молчал. На углу ее дома она остановилась.
— Ну вот, я уже пришла,— сказала Ольга. Она робко, почти заискивающе улыбнулась.— До свиданья, Сережа.
Сережа вдруг расплылся, расцвел. И так же серьезно и значительно, очень значительно и серьезно ответил:
— До свиданья.
Вечером Ольга не могла уснуть. Бог знает, что ей мерещилось, о чем мечталось.
На другой день, когда Ольга пришла в редакцию, Сережа сиял. Цвел. Ликовал. Казалось, его совершенно не смущало ни присутствие Марты, ни присутствие Темнухина, и он влюбленно глядел на Ольгу, беспричинно смеялся. Ольга ужаснулась, как это, должно быть, ошеломляюще выглядит со стороны: словно они уже любовники, словно только что провели свадебную ночь. Ольга пыталась незаметно осадить Сережу, умерить его слишком явную, слишком внезапную для посторонних радость, но Сережа, окрыленный вчерашним, не замечал ничего вокруг. «Какой же он все-таки ребенок,— и с умилением и с досадой думала Ольга,— ну вот как с ним, с таким?..»
— Что это ты все смеешься? — осторожно хмурясь, спрашивала она.— Что тебя так рассмешило?
— Да так!— дурашливо смеялся Сережа.— Просто смешно!..
В довершение всего он включил уже забытую Ольгой песню, их песню, и на всю студию, на весь завод гремело, ликовало, торжествовало безрассудное Сережино чувство:
Когда мы встретимся совсем случайно,
быть может, взгляд мой вам откроет тайну,
я столько лет храню в душе ваш образ милый...
«Кошмар,— в отчаянии думала Ольга, — Ромео!»
В столовой Сережа открыто подсел за ее столик. Это было крайне неосмотрительно: за соседним столом обедали Темнухин и Губин, секретарь парткома. Темнухин понимающе взглянул на Ольгу и наклонился к Губину, зашептал ему. Губин усмехнулся. Поднял глаза на Ольгу. Кивнул. Опять наклонился к Темнухину. Но Сережа, казалось, ничего не видел и не понимал. Он смеялся, оживленно рассказывал Ольге: что-то про армию, про «салажат», про какого-то старшину Попова... Ольга рассеянно кивала. Наконец она не выдержала.
— Сережа,— с досадой сказала она,— посмотри, как смотрит на нас Темнухин... Тебе это ни о чем не говорит?
Сережа умолк с открытым ртом. Потом уткнулся в свою тарелку и больше не проронил ни слова. Но зато после обеда он держался великолепно; Ольга радовалась, что намекнула ему и теперь они понимают друг друга. Работали вчетвером, всей редакцией, писали праздничную передачу к юбилею старейшего в объединении завода — присесть было некогда. Сережа гонял оба МЭЗа и снимал наушники, чтобы только что-то спросить. Изредка, когда не смотрели другие, он осторожно взглядывал на Ольгу: ну как, довольна она им теперь? Ольга незаметно улыбалась, кивала: молодец, вот так и держись!
Но что-то тревожило Ольгу, что-то смущало. Эта чрезмерная выдержка не вязалась к Сереже, была подозрительна и напоминала Ольге что-то забытое, от того Сережи, когда он только пришел в редакцию: ну да!.. Такое неподвижное лицо, скованность, и не поймешь, что у него там на уме... Тогда он почти не улыбался, и Ольге стоило труда приручить его, сделать доверчивым... Сережа, казалось, поглощенно работал, и лицо его ничего не выражало. Ничего нельзя было понять! «Обиделся он, что ли?— думала Ольга.— Но на что?..»
В конце рабочего дня Сережа подошел к ее столу. Он пытался улыбнуться, губы его дрожали. Он подал ей листок:
— Вот...— Это было заявление об уходе.
Сначала Ольга не поняла, потом испугалась:
— Что случилось, Сережа? В чем дело?
— Так...
Она пробовала перевести все на шутку, но Сережа молчал, смотрел в сторону.
— Звукооператора вы найдете,— выдавил он наконец,— я знаю одного парня, он согласится...
«Так...— ошарашенно размышляла Ольга,— значит, ты и об этом подумал...» Она ничего не могла понять! Какая муха его укусила, что это еще за фокусы?
— Мне можно идти?— спросил Сережа.
— Разумеется, иди...
Ольга перечитала заявление. «И ведь в самом деле уволится,— сообразила она наконец,— ишь ведь какое самолюбие!..» Но не понимала, на что он мог обидеться.
Она боялась, что не догонит Сережу. Так и есть, уходил автобус, не успела. Ольга с трудом переводила дух, испытывая и досаду и облегчение: не судьба! Ольга была суеверна, и размышления о судьбе занимали в ее жизни огромное место: сны, нечетные числа, дурные приметы. Впрочем, рок, в который она так верила, словно не принимал Ольгу всерьез и не подстраивал ей никаких неприятных сюрпризов, кроме забытых ключей или утерянных трамвайных абонементов. На кольце разворачивался следующий автобус.
— Сейчас подойдет...
Ольга вздрогнула: так неожиданно прозвучал его голос!
— А, ты еще не уехал,— обрадовалась она.
— Я и сам не добежал,— виновато говорил Сережа, и Ольга поняла, что он ждал ее и боится, как бы она не догадалась.
Ей хотелось сказать ему, объяснить, но она не знала, с чего начать, и уже подходил автобус. «Целых три остановки,— думала Ольга,— еще успею...» Сережа видел эту готовность в ее лице и весь подался вперед, испуганный и удивленный, ждал. «Как ему объяснить?— думала Ольга.— С чего начать?» Рядом смеялись две молодые девочки, щебетали о чем-то своем, ровесницы Сережи. Они стесняли Ольгу. Проехали остановку, осталось две.
— Значит, домой поехал,— нелепо сказала Ольга.
— Да вот,— выдохнул Сережа,— домой.
Как было объяснить ему? И что объяснять? Что ничего между ними не было и нет, но все есть и все было, и это серьезней и глубже всего, что будет потом. Что это и есть главное, а не то, что кажется им обоим. Не могла ему Ольга объяснить: ему только кажется, что все впереди, что там — достижение цели, но ведь цели невозможно достигнуть, никогда, потому что это будет уже не цель, а что-то другое, а цель окажется еще дальше. И если Ольга даже скажет сейчас, в автобусе: «Я люблю тебя, Сережа», если даже поедет к нему — все равно это будет ничтожно мало по сравнению с тем, чего он ждет от нее, сам не подозревая.
Может быть, потом, значительно позже, когда все это «быльем порастет», Сережа закончит институт, надумает жениться и уволится наконец из редакции, Ольга действительно поймет, чем был для нее Сережа. Осознает всю меру ответственности за чужое чувство, ужаснется, как ничтожны наши ресурсы сделать другого человека счастливым, как нище наше окружение и мы сами, если мнением посторонних, скучающих на досуге пошляков мы дорожим, боясь насмешки, презрения, «неприличия» иных, чем рядовая интрижка, отношений. Ведь что-то билось и в Ольгиной душе, более святое, ведь что-то внушил, одухотворил в ней Сережа, если, разглядев его любовь, она не могла уже посмеяться над ним, и не лестно, а страшно ей было за себя и Сережу. Только вряд ли она когда-нибудь задумается об этом. Жить-то надо, и жизнь гнет свое, и некогда ни задуматься, ни оглянуться. И только вспомнится иногда с удивлением: а было ли? И покажется таким далеким, как будто она прочитала эту историю в какой-то книге — историю не о себе и не о Сереже. И в этой истории вроде была любовь, которой не было в жизни.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





