ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
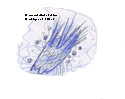


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
ГЛАВА 7
Следователь Фомин, усталый болезненный человек, измотанный нелегкой работой, кажется посетителям равнодушным службистом. Но это не так. Два дня назад Нина Сергеевна оказалась свидетельницей истории в его кабинете: истерику закатила дородная дама, мать обвиняемого. Она, кажется, пыталась дать следователю взятку, Фомин отказался, и она ворвалась в кабинет, не стесняясь Нины Сергеевны. Кричала что-то дикое по своей нелепости... Фомин бесцветно, казенно соглашался: «Ваше право... Когда дело передадут в прокуратуру... Это в мою компетенцию не входит, обратитесь к главному прокурору...» Дама вдруг разрыдалась неподдельно и искренне... «Но следствие еще не закончено,— неприязненно объяснял Фомин,— адвокат вам тоже ничего не скажет, я уверен...» Когда она ушла, сухо улыбнулся Нине Сергеевне:
— Настырная родительница. Между прочим, тоже интеллигентная женщина, зубной врач.
— А что, собственно, произошло?— пытаясь изобразить сочувствие, обескураженно спросила Нина Сергеевна.
— Ее сын пытался убить пожилую женщину с целью ограбления. В состоянии алкогольного опьянения...— вяло и как-то неохотно объяснил Фомин. Ему уже было неприятно, что позволил себе слабость в присутствии постороннего лица.— Так вот, теперь по вашему делу: я хотел бы уточнить одну деталь.
Он торопливо искал что-то в бумагах, и Нина Сергеевна удивилась, какая уже пухлая папочка — настоящее «дело», «досье», неделю назад было лишь одно заявление — значит, прояснилось что-то? И что за деталь — гарантия, надежда? Или — сейчас он ошарашит ее, убьет, произнесет вслух то страшное слово, которое она и мысленно боится произносить? Но скорее всего, и она это понимала, не то: какая-нибудь чепуха, их казенные формальности, очередная «дача показаний» — ничего он не знает и не скажет ей!
Следователь вяло читал ее показания:
— Вы говорите, в последний вечер там была девушка? Приметы: высокий рост, черные брюки, крашеная блондинка... Назвалась студенткой,— Фомин поднял блеклые, измученные глаза.— Правильно?
— Да, по-моему.
— Я выяснил, это Наталья Чижова, правда, она не студентка. Была проводницей, но теперь нигде не работает.
— Да-да, мне тоже показалось, что она врет,— неуклюже перебила Нина Сергеевна, не то заискивая перед следователем, не то надеясь на что-то,— да, мне тоже так показалось,— она глупо умолкла.
Следователь вежливо подождал, что она еще скажет, но она молчала. Вздохнул:
— Она утверждает, что ваша дочь была связана с неким Игорем Осипенко, собиралась за него замуж... Вы его знаете?
— Нет, впервые слышу.
— Наталья Чижова говорит, что не видела его с тех пор, так же как и Марину. Его приятели, Красин и Симулянт, предполагают, что он уехал к матери, в Читинскую область, но, по-моему, фантазируют. Наталья Чижова слышала от того же Красина, что он и Игорь хотели ехать в Ленинград за какими-то тряпками, они завсегдатаи черного рынка. Значит, вам ничего не известно об Игоре Осипенко?
— Нет. Совершенно ничего.
— Ну что ж, это пока все, что удалось выяснить. Звоните на следующей неделе.
Значит — опять ничего! Опять неделя неизвестности, и что он сможет сказать ей через неделю? Возможно, как в прошлый приезд, извинится, что занят, что их дело у него не единственное. В результате свидания с Фоминым осталось чувство некоторой одураченности и недовольства собой. Хотя, надо отдать должное, Фомин сделал в этот раз много, очень много: скольких людей он разыскал и допросил, и то, что умалчивалось в разговоре, недостающие звенья его работы («Каким образом он установил, например, личность этой Натальи Чижовой? — наивно изумлялась Нина Сергеевна)...— она впервые представила громоздкую кропотливость его работы, тем более что их дело действительно у него не единственное. К следователю она прониклась уважением. И в то же время она почувствовала как бы застарелую безнадежную брезгливость следственных органов к ней и ей подобным (не из-за Фомина, нет!— он, как всегда, был корректен и безупречен), а из-за этой настырной родительницы, «тоже интеллигентной женщины», как выразился Фомин. Тут и был упрек, и стыд, жгучий и нестерпимый: она, Нина Сергеевна, — такая же! И пусть Марина не пыталась убить и ограбить старуху, а, возможно, сама стала чьей-то жертвой (нет, только не это, господи!); и пусть Нина Сергеевна не пыталась подкупить Фомина или прокурора, не кричала в кабинете, безобразных и глупых слов — они с этой дамой равны, и одно общее горе привело их сюда, в угрозыск: они сами погубили своих детей. И обе не хотят, не в силах сознаться в этом, а ищут других виновников, бегут за помощью к следователям, прокурорам. Разве, глядя на эту «тоже интеллигентную женщину», верится, что ее сын мог такое сделать? Но... Именно глядя на нее, задумываешься: почему ее сын. Ведь не только рок, не только случайность.
ГЛАВА 8
Она понимала, что должна что-то делать, но понимание было совершенно безвольно: мысль, вроде поплавка, купалась в безволии ее чувств, а удельный вес апатии был слишком высок. Вместо того чтобы думать, а тем более делать, она регистрировала только эту вязкость, плотность. За окном рос тополь, и она могла сколько угодно его рассматривать: ураганом сдуло с него снег, и наст под тополем был гладок, как фарфор, зато снег намело к соседнему подвалу и завалило вход. Тополь был огромен, и ветви, если смотреть из окна, не кончались ни влево, ни вправо, а пока она глядела сидя, то и вниз не кончались. Наладили было связь, Нина Сергеевна позвонила в Вычислительный центр, но опять что-то стряслось: отключили город. Какой невезучий день, скорей бы обед,
— Все-таки мы, девочки, рассеянные,— смеется Лерочка, очистив апельсин и раздавая всем дольки,— вот кто вчера пробы записывал, Зина, не помнишь? Угощайтесь, Нина Сергеевна.
Зина Приходченко, тоже проглотив дольку, вспоминает:
— Маша, по-моему... Да, Лера, ты же знаешь, Белкина все сама проверяет, не могла она ошибиться.
Белкина в соседней комнате, ушла зачем-то в подсобку.
— Белкина, конечно, эталон,— небрежно фыркает Светлана Ивановна,— она у нас никогда не ошибается.
— Светлана Ивановна, угощайтесь,— ласково, говорит Лерочка.— Ой, Светик, я так тебе благодарна, что ты мне эту пробу нашла, а то я думаю, склероз у меня, что ли.
— Так вы думаете, что Белкина,— простодушно пожимает плечами Зина.
Светлана Ивановна молчит: Лерочкина многослойная, виртуозно-невинная политика ей еще менее приятна, чем ворчливая прямота ни в чем не сомневающейся Белкиной. Зина Приходченко тоже недоуменно молчит, смутившись — она самая простодушная и искренняя из всех женщин, принимает все на веру, а потом огорчается, когда разгораются страсти.
— Но она правда, кажется, проверяла,— виновато говорит Зина.
— Ты, Зина, не говори ей,— весело смеется Лерочка,— это же такая мелочь, а Галя Белкина, ты же знаешь, как она к сердцу принимает. Я сама ей потом скажу.
Этот калейдоскоп отношений раньше забавлял Нину Сергеевну — загадочная, бесконечная смена настроений, замысловатый психологический узор. Хотя знаешь их всех как облупленных, никогда не поймешь, чего же ждать через минуту.
— Светлана Ивановна,— вспомнит спустя минуту Лерочка,— я вчера «Вязание» получила, новый номер, принести тебе?
И Светлана Ивановна вдруг растает:
— Ой, Лерочка, принеси, конечно! Там, наверно, и крючком есть? — И кто знает, насколько искренне или обоюдно-враждебно их формальное примирение.
И как-то никогда не привыкнешь, что люди — те же дети. Что каждый в чем-то уязвим, наивен, слаб, доверчив, беззащитен. Что самые тонкие отношения выравниваются самым топорным способом, в основе которого — небольшой обман, умолчание, режущая глаза очевидная всем формальность.
Никогда человек не привыкнет, что он обманут. Хотя способ воздействовать на человеческую совесть — вдвойне бессовестный: ведь человек-то испытывает неудобство, вспоминая про эту самую совесть, в то время, когда ты, взывая к нему, неудобства от этого чувства не испытываешь, взывая якобы для общего бескорыстного дела — ведь корысть уже в том, что к делу ты подключаешь другого самым быстрейшим и доходным для тебя способом... И это несомневающееся в себе право — заставлять, поучать, ру-ко-во-дить...
— Светлана Ивановна, где у нас журнал показаний?— с трудом выходит из своей апатии Нина Сергеевна.
Светка отнюдь не смущается, но встает: работа есть работа и премия на всех общая. В ее подчинении лаборантки, и зависимость та же: инженер встала — встают и они. Машенька несет штатив с чистыми пробирками, Зина Приходченко проверяет систему. Белкина уже вернулась из подсобки, наблюдает за ними (не дай бог, трубочку перепутают или пробирочку уронят) и, затаив безнадежную обиду на всех их, ленивых и на нее непохожих, монотонно бубнит себе под нос: «Опять ариометр разбили, новенький совсем ариометр...»
Разбила его, кажется, Галя-маленькая — с похмелья вчера была, руки дрожали. Впрочем, и сегодня руки дрожат не меньше, а Нине Сергеевне позвонили из школы, где учится сын: совсем отбился мальчишка, пусть разбирают родительницу на товарищеском суде. Галя-маленькая неприкаянная и задрипанная, все это прекрасно знает, чувствует ежечасно, какой она отброс общества, потому и хочется ей прильнуть и припасть, приласкаться к кому-нибудь. Светлана Ивановна тоже отфутболила ее сегодня. Галя-маленькая заискивающе смотрит на Белкину, но временами сквозь жалкую угодливость вспыхивает во взгляде тихая и трезвая ненависть. Гнать бы ее надо с работы, но куда бедняга пойдет? Уволится — совсем сопьется. Щурит ласковые заплывшие глазки:
— А палас в гостиную постелишь?— спрашивает она Белкину.
Белкина неожиданно добреет.
— Сервант придется отодвигать,— вздыхает она. Но, вспомнив, что палас ей выделили клееный, обижается вдруг на Лерочку:— Пять лет на очереди стояла, и вот...
Лерочкины красавицы на своих местах — Лерочка энергично там командует, а для общего настроения и тонуса подтрунивает над Воробьевым: когда он женится? (Это острота безотказная и вдохновляет обычно всех.) Воробьев ухмыляется смущенно. В прошлом году он закончил институт и жениться пока не собирается, но квартиру как молодой специалист требует. Воробьев ленив — то ли по молодости, то ли коллектив слишком женский, а мужчин всего трое... Нина Сергеевна прерывает их милую беседу:
— Виталий, вы не против, если мы вас пошлем в подвал? Помогите, пожалуйста, Коле.
Молодой специалист идет неохотно, слишком грязная для него работа — таскать столы с Колей-слесарем. Ничего, не переломится, не бабам же их ворочать. Женщины сочувствуют ему, несмотря на его лень, Воробьева любят по-матерински, а те, что помоложе, имеют на него виды — жених не ахти, но зато свободный, из других отделов на него не зарятся. Женится на своей — квартиру дадут в первую очередь. Да, еще квартиры: позвонить в жилкомиссию, когда наладят связь, Зине распределили квартиру на пятом этаже, а у нее двойнята ясельные, надо обменять, пока не выдали ордер.
Светка листает журнал показаний:
— Вот, пожалуйста. Готовить отчет?
— Да, пожалуйста, Светлана Ивановна.
Светка вдруг улыбнулась, подмигнула как-то обескураживающе-дружелюбно:
— Будет сделано, товарищ начальник!
Что-то мелькнуло в ее улыбке неподвластное и юное, открытое, словно сквозь слой реставрации проступили другие внезапные черты. Ей и раньше удавались такие порывы. Нина Сергеевна тоже невольно дрогнула — почти готовая к какому-то забытому ответному движению или чувству, и это желание было так жгуче и сильно, что наворачивались слезы, и она поспешно отвернулась. Были же когда-то подругами! Тянуло приклониться, припасть к чьему-то плечу, хотя бы и Светкиному, и жаловаться, жаловаться. В ее теперешнем нервозном раздражении постоянно мешались то холодное отвращение к посторонним, то нестерпимая обида и жалость к себе — хотелось простирать руки и жаловаться кому-то, просить помощи или защиты. Может, Светка и не говорила ничего из того, что «передали» Нине Сергеевне, а если и говорила — тоже вздор. Мало ли что мы говорим от раздражения, от нечего делать. Но отчего это мертвящее душевное одиночество? В общем-то, она знала, что не переломит себя: не из-за Светки, не из-за преданной когда-то дружбы, а из-за другого. Как-то так получилось, что нет подруг. Сначала это было из-за Глеба, из-за того, что ревновала его к женщинам. А теперь — поздно.
Яна еще пыталась их мирить, но ведь они и не ссорились. Просто после работы не получалось встречаться, хотя Нина Сергеевна лицемерно приглашала в гости, а Светка зазывала ее. Тогда они обе уже забыли о прошлом, и показалось, что, может, сойдутся, ведь вместе работают. Хотя Нина Сергеевна чувствовала: нет, не сойдутся... Светка, пожалуй, искренне приглашала — хотела похвастаться, как уютно она устроилась в своей новой двухкомнатной квартирке и какой у нее милый халатик. Нина Сергеевна забегала однажды: это действительно был трогательный мирок, созданный для ожидания мужчины, способного Светку полюбить. То, что создан для мужчины, а не просто для гостей, чувствовалось сразу: не было той стылой парадности, той вылизанности, когда словно сквозь мебель видишь торопливо запихнутые вещи, не предназначенные взору гостей, чулок жены, в панике попавший в галстуки мужа, и тапки со стоптанными задниками, тщательно замаскированные новыми парадными тапками для гостей. Распорядок вещей в Светкиной квартире должен был показать входящему, что хозяйка никого особенно не ждала и даже капельку сконфужена приходом гостя. Все было несколько смещено, сдвинуто, развернуто, интимная сторона не только не затушевывалась, но и кричала о себе — керамическая ваза, забыв свое место на столике, стоит прямо на полу, а цветок успел так облететь, что лепестки на ковре эффектны. На диване брошена книжка, которую Светка только что читала и с приходом гостя стыдливо уберет (как и вазу поставит на место). Но, взглянув на обложку, вы убедитесь, что это та самая книжка, о которой столько споров и которую трудно достать. В спальне хозяйки, если гость рискнет туда заглянуть, он увидит нечто, интимно забытое на кровати или в кресле, прозрачное, с пеной кружев на рукавах и подоле, что в обычном доме означает халат, который надевают по утрам, чтобы умываться и готовить завтрак. Но поскольку Нина Сергеевна не была мужчиной, способным Светку полюбить, то и Светка, со вскриками «Какой ужас!» запихнув эту грезу женщин стоимостью в семьдесят рублей, извлекла из шкафа обыкновенную спецодежду и взялась чистить лук для салата. Нина Сергеевна, не зная куда себя деть, в неловкости полистала книжку стихов (фотография этого модного, ныне умершего поэта красовалась над тахтою). С какой стати Светка вдруг полюбила стихи? Яна ей, что ли, подарила? Хотя среди зрелых людей, не отягченных филологическим образованием, искренне читают стихи только одинокие женщины. Больше никакие умные мысли не пришли, и Нина Сергеевна пошла на кухню «помогать»: передвигать бесцельно разные мисочки и миксеры. Тоска по верности наблюдалась и в кухне: вся кухонная утварь и снедь намекала, что Светка прекрасно готовит и любимый мужчина всегда будет сыт. Отведав салату и выпив по рюмке холодного вина, им оказалось не о чем говорить, Нина Сергеевна почувствовала себя обязанной и пригласила Каурцеву в гости.
Конечно, это было не «просто» — просто Светка бы и не пришла. Яна Рохлякова приняла деятельное участие, подбирая для Светки кавалера. Глеб исправно рубил мясо на балконе и открывал консервные банки, а Нина Сергеевна сбивалась с ног, рыская по магазинам, жаря, паря и выпекая, чтобы все было «как у людей». Генеральный сбор назначили на субботу. Нервная атмосфера царила в квартире. Нина Сергеевна металась от крахмального стола к Глебу и детям с воплями «Ты с ума сошел!» и «Не смейте хватать руками!», умудряясь заглянуть в духовку, чтобы убедиться, что пирог подгорел, и путая масло с майонезом, а соль с сахаром. Стрелки бежали как по теории относительности и вдруг встали по той же теории, когда холодное оказалось на столе, а горячее закутали в полотенце. Нина Сергеевна повисла в вакууме. В платье, в котором ни к чему нельзя прикоснуться, она обречена была проклинать себя и всех за то, что теперь все остынет. Первой пришла Светка и почувствовала себя неловко в обществе бывшей подруги и ее мужа. Глеб не чувствовал ничего, кроме желания выпить, и его попытки развлечь Светку были бездарны. Все трое поглядывали на стол и не знали, о чем говорить. Поэтому Рохляковых встретили чересчур бурно и искренне: их действительно заждались. Все рассмеялись, расцеловались, повосклицали, теснясь к столу, и естественная бездумность жующих заменила им раскованность. Рохляковы привели с собой обещанного незнакомца с элегантным брюшком, который назвал себя «искусствоведом». Он был посажен рядом со Светкой и ухаживал со знанием дела. Искусствовед не переигрывал и, видимо, был не азартный игрок, а профессионал, его шулерство даже льстило партнерше. Он давал ей понять, что не здесь, так в другом месте, хотя бы она и осталась при своих козырях, и что честный шулер все же порядочнее хама-дилетанта, потому что выигрыш для него не самоцель. Это был человек с широкими белыми руками, с неподдельно-золотым перстнем на левом мизинце. Ему нравилось быть здесь интеллигентным, это чувствовалось. Прежде чем что-нибудь сказать, он глубоко вздыхал, обозначая искренность, его побудившую, а в голосе подрагивали интимные нотки, даже если он говорил какую-нибудь нейтральную фразу, вроде: «Да, старик, я решил подзаняться философией. Япония — неоткрытая страна, а старик Фрейд много сделал в области современного секса. Кстати, я обучился приемам дзюдо и делаю теперь каждый день зарядку по системе йогов. Как ты считаешь, наш Хохмачев талантлив? Он занял у меня три рубля, но говорит, что в «Новом мире» взяли его роман...» или: «Яна — мой давний друг, и поэтому естественно, что ее подруга... Ты меня прощаешь, мой друг?». Тут его глаза увлажнялись, и он рассказывал какую-нибудь трогательную историю о том, как сидели три джентльмена, Саша Хохмачев, Костя Саксафонов и он, за бутылкой старинного вина, вели велеречивую беседу, а старушка Анна Андреевна Выхухольская ополаскивала им бокалы и называла Костю озорником. И вдруг вздыхал еще умильнее, позабыв, что он, собственно, хотел рассказать, кроме как перечислить имена, неизвестные присутствующим, но вполне известные Рохлякову. Рохляков милостиво кивал, а во взгляде искрилась тонкая ухмылочка: уж он-то прекрасно знал, какой именно областью «ведает» искусствовед.
Когда все было съедено, Нина Сергеевна струсила: теперь им придется разговаривать, а она слабо представляла о чем. Все варианты застольных бесед приводили со временем лишь к тому, что гостей не хотелось приглашать и ходить к ним. И навязчивая мысль, что люди лгут друг другу и терпят тоску лишь ради того, чтобы сообща напиться. Говорить можно с живыми, но все они друг для друга мертвы и наглухо закрыты равнодушием. Понятнее Рохляковы: те хотя бы извлекают коммерцию, дружа с теми, кто им полезен, но иногда и они попадают впросак, например, сейчас.
Но опасалась она зря: гости взяли беседу в свои руки и чувствовали себя вполне полноценными людьми. Искусствовед (он был, конечно, и книголюбом) показывал новоприобретенную книгу — с ятями и с громкой фирмой издателя-немца в России. Эта книга переходила по рукам как некий фетиш современной интеллигентности. Издатель-капиталист знал, что делал: кроме пышности заставок и иллюстраций, манило содержание.
Нина Сергеевна тоже подержала книгу, состроив умное лицо над какой-то картинкой.
— Ниночка, а ты почему молчишь?— с шутливой обидой восклицает Яна.— Поддержи хоть ты нас!
Оказывается, мы говорим теперь о собачках: какую собачку лучше всего завести в современной квартире. Все показывают какую-никакую эрудицию, начитанные люди, хотя и дилетанты в собаководстве. Только не лайку, заводить лайку в городе — пижонство, нет, это жестокость, они не поддаются дрессировке, у меня был один приятель... Это очень умные собаки, но не поддаются, так вот, у меня был один приятель, у него была натуральная северная лайка, он ее любил... Но держать лайку в квартире — бесчеловечно, ей нужен лес... С лайками покончили, перешли к собакам-аристократам: дог, сенбернар, ирландский сеттер, русская гончая. Нет, это пижонство — пройтись по улице с догом, чтобы ради... Эти чистокровные собаки очень нервные, вдобавок у них слабый иммунитет, того и гляди привяжется чесотка. Нет, болонка — это не собака. Собак вообще лучше не заводить.
У искусствоведа с Каурцевой что-то не ладилось: Светка засекла его на реплике «Друг мой!» и тоже хотела показать, что не лыком шита. Этим тут же воспользовался Рохляков: видно, рыжие волосы Каурцевой, ее удлиненные с помощью пинцета брови и ледяные глаза произвели на него какое-то впечатление. Но искусствовед пока не замечал и настойчиво и мягко продвигался вперед, говоря все более смелые комплименты:
— ...когда рядом сидит такая красивая женщина, — томно проворковал он, потупляя глаза, и в лице его появилось что-то кошачье.
Светка рассмеялась, смущенная и раздосадованная отчасти, и взглянула почему-то на Глеба — сочувствия, что ли, ища?
Глеб довольно равнодушно курил, не наблюдая за ними, но этот неожиданный взгляд задел его как-то: он встрепенулся и завертел головой. Кокетство стареющего красавца срабатывало помимо воли и даже помимо здравого смысла.
— А я?..— несколько наивно спросил он искусствоведа, поворачивая свой профиль к Светлане. Улыбка излучала этакий соблазн и сарказм, а в чертах проступало нечто медальное, чеканное.
Нина Сергеевна немного оторопела. «Ах ты старая рухлядь,— подивилась она,— это надо же...»
Рохляков внимал и тонко в свою очередь улыбался.
— А ты у нас красивый мужчина, старик, — развязно похвалил он Глеба.
Светка, польщенная вниманием и ревностью всех троих, потыкала вилкой в курочку, сказала скромным голосом, не глядя на Глеба:
— Глеб, ты похож на дьявола.
Глеб поерзал еще немного и успокоился, предоставив Светлану в распоряжение тех, двоих.
Рохляков не то что Глеб: и в зрелой женщине ценит зрелость, как и в юной — юность. Наверно ему немного смешны и старомодные выжидательные ухаживания искусствоведа, и ребячливое обаяние Глеба, вечного мальчика,— Рохляков берет женщину, как берут с полки вещь: оботрет рукавом пыль, рассмотрит и воспользуется. В каком-то смысле он «обаятелен»: одна борода чего стоит, и кудри все еще до плеча. Если с ним знакомишься впервые, он благожелателен, как всякий циник, выгодная лесть ему не унизительна, потому что про себя он в грош ее не ставит, презирая всех, кроме самого себя. Да и в застольях он, если не успевает напиться, не плох: он обожает нравиться всем подряд, и эта единственная страсть даже облагораживает: лжет он вдохновенно, льстит негрубо. Лесть, состоящая больше из трогательных улыбок глазами, многозначительных хмыканий и в меру неглупых фраз, вроде: «Это, я скажу тебе, сделано, старик! Ты становишься профессионалом»,— мужчинам. Или: «Хорошо выглядишь, мать»,— женщинам, с которыми он в приятельских отношениях. Или: «Где вы нашли этот цвет? Я имею в виду цвет глаз, а не платья, но с такими глазами любое платье к лицу...» — женщинам, которым он собирается нравиться. Впрочем, это не столько врожденное умение очаровывать, сколько профессиональный навык: Рохляков по профессии журналист. В его профессии нужно нравиться, нужна храбрая развязность — отсюда его многозначительный вид и умение не выглядеть остолопом в самой заумной беседе. Иногда он бывает как-то особенно порочно привлекателен — в умении подстроиться к собеседнику, обитать и паразитировать в любой среде. Быть может, он и неплохой журналист. Так и видишь его с микрофоном или с записной книжицей в руке, развязно улыбающимся бригадирше маляров или штукатуров: «Как добились вы столь замечательных успехов в выработке столь высоких процентов?» — с долей интеллигентной иронии к столь лобовому вопросу. А глазами так и стрижет, так и стрижет. Бригадирша, должно быть, охотно включается в эту игру, принимая на свой счет его донжуанские приемчики. Однажды, в очень уж пьяной компании, пьяный Рохляков, спутав с кем-то Нину Сергеевну, пытался с ней объясниться в коридоре: «Галя (почему «Галя», так и осталось неясным, ибо Нина Сергеевна никогда не напоминала ему впоследствии об этом конфузе), Галя,— слегка покачиваясь, но твердо и очень торжественно говорил Рохляков, — я хочу сказать вам, Галя... В общем, вы прекрасны, как...» — «Как заря коммунизма, что ли?» — не выдержав, прыснула Нина Сергеевна. Он поморгал ошалело, потом понял и тоже расхохотался — чересчур звонко. «Ну и язва ты, Нинка! Ну прости, мать, — ошибся, бывает,— вцепился пьяными губами в руку,— я же тебя действительно, дуру, люблю!»
Яна ему под стать, благодарная спутница. Если вообразить, что Рохляков — ужасный ребенок, то Яна — его няня, мать его, сплела его в собственном чреве и выносила в трехкомнатной квартире и выпустила в мир, к другим женщинам, такого бойкого, но беззащитного. Рохляков время от времени клянется, что бросит ее — заведя какую-нибудь юную фею. Но он не бросит, потому что к феям в качестве жен не привык. И в то же время Рохляков — как бы Янин отец, он тоже породил ее на свой лад, как породил Зевс Афину Палладу. Трогательно было наблюдать. «Японцы — моя слабость»,— с милой убежденностью улыбалась Яна, когда Рохляков закатывал глаза над Акутагавой. Когда Рохляков пропадал в своих «творческих» командировках или предавался порывам «творческой» души, Янины эстетические вкусы и «любовь к японцам» начинали слегка метаться, как пес без хозяина. Она тянулась не отстать в отсутствие мужа, доставала самостоятельно какую-нибудь «популярную новинку». Слегка смущенный Рохляков прятал все это подальше в свои запасники (не дай бог, увидят гости-снобы!), а потом очень удачно выменивал, скажем, на Арцыбашева — тот хоть пошл, да редок, не портит вид библиотеки. Но потом и редкого Арцыбашева менял на Кнута Гамсуна. И если жена плавала иногда как школьница с друзьями Рохлякова и, чтоб не ляпнуть неуместного, ограничивалась такими определениями, как «слабость», «прелесть», «гадость», то в разговорах с подругами Яна расцветала среди Фришей и Дюрренматов, как морская звезда в воде. Помахивая сигареткой, возясь с кофеваркой, Яна бывала ошеломительно хороша: Сартр и экзистенциализм, сюрреализм и эксгибиционизм сыпались на вас и отскакивали как горох. Маникюрши хлопали кукольными ресницами, впитывая «шикарную» жизнь, как по фильмам, и, расхрабрившись, закуривали Янину сигаретку. Бедняжкам было невдомек, что не ради дефицитов, чтобы достать, Яна старается, а лишь репетирует свою будущую светскую роль. И все же следует уточнить: виной подобного восприятия «ценностей» была не абсолютная Янина глупость, а то туше, которое накладывала дрессировка Рохлякова. В жизни реальной, выходящей за сферу искусств, Яне был присущ и здравый смысл, и здоровое чувство юмора.
О чем-то шел непонятный разговор, словно играли в карты. Рохляков или искусствовед выкликали: «Веришь?» — и все подхватывали: «Верю! Верю!» — втайне содрогаясь, что сейчас их и купят. Искусствовед, изумляя широтой эрудиции, рассказывал про японских самураев. Самураи никого не интересовали, никто ничего о них не знал, но все делали вид, что знают и что самураи им интересны. Рохляков обаятельно улыбался, достигнув колен Каурцевой под столом, и огорченный искусствовед вынужден был перейти на чистую поэзию, дабы втянуть Рохлякова и отвлечь от колен, предназначенных для него. Яна грудным голосом исполнительницы русских народных песен пересказывала содержание популярного зарубежного романа, который недавно прочитал ее муж и своими словами рассказал ей.
— Джон-Уильям-Апдайк-Фолкнер,— выкликал искусствовед, и все подхватывали: «Верю, верю!»
— Ганс-Анатоль-Франс-Ницше,— солидно винтовал Рохляков.
— А вот Жан-Мориак-Фрейдизм-Киплинг...
— А Жан-Жак-Руссо-Кафка...
— О, Джойс!
— Зато новый фильм Антониони...
— ???
— О-о-о!..
Пора было поить их чаем, и Нина Сергеевна ушла в кухню. Она резала ореховый торт и злилась: столько угробила на него нервов, а он все же не удался, сыплется. Впрочем, кому он нужен за столом? Вот дети, но им вряд ли достанется, гости съедят. И вдруг стало жалко торта: на кой черт кормить этих объевшихся и опившихся людей тортом, который она печет раз в три года и который съедят из вежливости, когда детям она не дала даже слизать крем и пожалела крошки грецкого ореха? Чтобы Яна Рохлякова, отодвинув тарелочку, милостиво спросила рецепт? Раз в три года угощают ореховым тортом и раз в три года спрашивают рецепт, чтобы забыть его тут же. А мужчины, обсыпаясь крошками, вообще не разберут, что они ели и зачем, потому что горячо обсуждали какую-то девальвацию в какой-то стране, воображая себя социально причастными к своей же эпохе. Но ведь Нина Сергеевна далека от кулинарных вдохновений, печь просто для семьи ей кажется дорогой роскошью, а решается на такой подвиг лишь ради очевидно тягостных и нелюбимых людей. И чем тягостнее ожидаемые гости, тем больше она расшибается в лепешку. Что это — рабство приличий или откуп за невозможность любви? И не видятся, а вот так же: парады на дни рождения, на чьи-то крестины, родины и похороны, потому что «положение обязывает».
Нина Сергеевна заваривала чай, когда на кухню вошла Каурцева: видимо, Светка устала от Яниных выкладок интеллигентной жены творческого мужа. А Нина Сергеевна была недовольна вторжением в ее кухонный мир грязной посуды в раковине, пустых консервных банок и скомканных полотенец. Этот разор она не могла снести в чьем-то присутствии, хотя на любом пиру такое кухонное побоище неизбежно.
— Тебе помочь?— неуверенно спросила Светка, и в глазах было столько неизбытой тоски от чужих людей и разговоров, столько страха, что ее из кухни выгонят, где можно передохнуть, что Нина Сергеевна поневоле смягчилась.
— Сейчас заварится чай,— сказала она чуть ли не виновато,— пока делать нечего.
— Тогда можно, я покурю?— так же пряча глаза, спросила Каурцева.— Там неудобно.
Нина Сергеевна за компанию взяла сигаретку, хотя уже сто лет не курила. И поперхнулась затяжкой: вкус оказался не тот, какой мечтается, когда бросил курить, а самый первый, неприятный, когда закуривает некурящий. И сразу закружилась голова.
— Разучилась?— Светка улыбнулась вполне дружелюбно, хотя и несколько заискивающе, и кажется, набивалась на откровенность.
Нина Сергеевна тоже заискивающе улыбнулась: в таких ситуациях она была бессильна против чужой воли и часто делала лишнее из какого-то ложного чувства.
— Знаешь,— сказала Светка, выдохнув и отмахивая дым,— как-то смешно все это...
— Что — смешно?— не поняла Нина Сергеевна.
— Ну... Ты ведь понимаешь,— Светка глядела на кончик сигареты.— Этот искусствовед,— безразлично спросила Светка,— его ведь для меня пригласили?
— Ну... он друг Рохлякова,— солгала Нина Сергеевна. И, оживившись, добавила:— Я сама его вижу впервые.
— Ты знаешь, я завидую нашей Яне,— сказала вдруг Светка,— прожить полжизни и верить, что ее муж... Вот скажи мне откровенно...
«Откровенно» на этот вопрос было трудно ответить. Нина Сергеевна подумала: «Есть еще Глеб...» Или Каурцева все забыла? Нет, если уж она выбирает в наперсницы, то, значит, и Глеб... Она и Глеба потом презирала, при всем своем усталом кокетстве она в итоге умна, вот в чем ее ужас.
— Есть другие,— сказала Нина Сергеевна, не глядя,— почему именно Рохляков или он?
— Не
смеши ты меня,— теперь Светка глядела
и впрямь насмешливо, презирая подругу
за ее наивность, как презирала замужество
подруги, как презирала всех замужних
и тупую их верность, в которой подозревала
и Нину Сергеевну.— Еще один
трус, неужели так важно, пишет
он статьи или проектирует бани? Нет,—
сказала она как-то озабоченно-практично,—
Рохляков еще хуже, а тот хотя бы не знает
про свою глупость. Дураки
немножко порядочнее, ты замечала? Самое
пошлое,— сказала она,— что
я потом привыкну. Ведь знаю, а все равно
привыкну, иногда я понимаю вас с Яной.
Но почему меня бросают?
Вот чего я не могу понять.
Нина Сергеевна тоже не понимала. Может быть, потому, что Светка хотела владеть всегда, а любая живая душа этого боится и чувствует. Может, потому, что самозабвенно увлекалась и сгорала, отдаваясь именно игре, сюжету, мистерии. Боже мой, в пресловутом Светкином коварстве и заманиваниях, в ее замашках роковой женщины было столько детского, столь смешного и трогательного. И, обжигаясь, она была уверена, что сводит всех с ума — и сводила на время.
Способная так легко познакомиться с незнакомым, заманить его в гости и внушить определенные надежды, Светка, которая даже девицам с их этажа казалась испорченной и доступной,— когда с Ниной случился грех, Светка была еще девушкой, но никогда не скрывала, с каким парнем она целуется. Позлившись несколько недель на Нину, Светка утешилась и даже пыталась выведать у Нины, как у них с Глебом дела. Но Нина была гораздо больше себе на уме и самолюбивей и посвящать Светку ни во что не собиралась. Глеб в последнее время почему-то не появлялся, словно избегал ее, и даже в институте они не сталкивались. Шли последние дни перед Новым годом, все чего-то ждали и так рьяно готовились, что никто не поехал домой, все были куда-то приглашены. Светка только что, за неделю до праздников подцепила какого-то филолога из университета и легкомысленно согласилась идти в его компанию, звала и Нину — в компании филолога не хватало «девочек». Тридцать первого, когда Нина уезжала после занятий, Светка вертелась как раз в новом платье покроя «принцесс», и оно ей шло: худенькая стройная Светка в синем платье из тафты, распустив свои светлые волосы, походила на принцессу-замарашку, которая отмылась от сажи и едет, нарядная, на бал. Это роскошное платье придавало ей такую забавную осанку и скованность. Нина втайне позавидовала Светке, но идти к филологу отказалась: во-первых, не было платья, во-вторых, она была слишком мрачна из-за Глеба, чтобы веселиться в чужой компании. Она уехала домой и встретила праздники с мамой, испытывая странное, почти физическое облегчение, что она дома и словно бы такая вся прежняя, какой она была раньше, до Глеба. Мама обращалась к ней, к той, и дома все было по-старому, вплоть до старых кукол с отбитыми носами в старых шкафах. Снег был по окна, и мама испекла торт, а брат, здоровый уже балбес, взглядывал на сестру и чего-то стеснялся. После шампанского она потащила его танцевать, но этот увалень так отбивался и упирался, что едва не вывернул ей руку. У брата начинали расти усы и ломался голос, поэтому танцы с женщиной, хотя бы и с сестрой, были для него тем же сладким, стыдным и преступным соблазном, как и запрещенные мечты, от которых он вспыхивал, заливаясь румянцем, и от которых его нежное детское лицо стало вдруг прыщавой физиономией юнца.
Дома было скучно, сытно и тихо, первого января она до обеда проспала, а проснувшись, поехала в Иркутск. В общежитие приехала поздно вечером, и тут же на нее обрушился шквал новостей: кто-то перепился, кто-то познакомился, кто-то сломал каблук, кто-то залепил пощечину. Светка лежала в постели довольно хмурая, ответив, что было весело, но филолог оказался скотом и лез к ней. И тут черт принес эту толстуху из соседней комнаты, некрасивую девчонку с рыбьим ртом и белесыми глазами, в которых иногда, когда другие говорили о парнях, зажигалось что-то хитрое, жадное и бесстыдное. Толстуха ворвалась и закудахтала, знают ли они последнюю сногсшибательную новость, какое ужасное горе приключилось с Танечкой Катаевой, первой красавицей на их курсе: после вечера Танечка была в мужском общежитии, и там один старшекурсник сотворил с ней такое... Это такое горе, такое горе, особенно жалко Танечку, такую гордую и красивую, но Танечка молодчина, держится мужественно и даже шутит. Толстуха захлебывалась от восторга: этого старшекурсника надо проучить, разобрать на комсомольском собрании, хотя Танечка категорически против. Бедная толстуха, кипя благородным негодованием, и себе вряд ли созналась бы, что всегда немножко завидовала веселой хорошенькой Танечке, а теперь испытывает некое нездоровое возбуждение. Толстуха была все еще чиста в свои двадцать два года (самая «старая» на их курсе!), ни с кем ни разу не целовавшись, никем ни разу не приглашенная танцевать, страдала из-за этого, но делала вид, что принимает горячее участие в сердечных делах всех «униженных и оскорбленных»... Не из одной только «жалости» предавала она огласке то, о чем сама Танечка предпочла бы молчать.
— Девочки, поддержите хоть вы, нельзя так оставлять! — она так возмущалась, что разрумянилась не на шутку. Толстуха была активисткой, комсомольским секретарем их группы.— Можно повлиять коллективом, а то если всем волю давать...
— Да, печальный факт,— издевательски вдруг вздохнула Светка,— а если какой-нибудь бандит на большой дороге — и тоже пусть женится?
— Ну, ты даешь, Светка!— вознегодовала толстуха.
— Да мне-то что?— неестественно засмеялась Светка.— Можно даже на экспертизу, если Танька согласна, ты ей посоветуй,— и отвернулась к стене.
Толстуха еще повозмущалась и ушла — собирать, видимо, подписи в других комнатах, а Светка вдруг заплакала, затряслась.
— Да ты что?!—испугалась Нина.— Что случилось-то, случилось что-нибудь?
— Ничего,— всхлипнула Светка,— ты закрой комнату, а то ходят тут всякие...
А потом, перестав плакать и по-детски морщась, вдруг призналась: с ней то же, что с Танечкой, этот филолог... Она напилась, и в другой комнате, там диван, а Светке кричать было стыдно. Показывала, все запястья и предплечья в синяках — и плакала, плакала... «Ты счастливая, что уехала домой, такой проклятый Новый год... Я сама виновата, ведь я его даже не знала...» Господи, и ведь это легкомысленная Светка, которая не боялась пудрить мозги кому попало и так уверена была в себе! Нина похолодела: ее это обошло, с ней не так было, не было синяков на запястьях и не было Светкиного горя и стыда. Какая же дура эта толстая Феня! Она не знала, как Светку утешить, хотела даже рассказать про себя, но подумала, что Светке вдвойне будет больно: Глеб ведь и Светке нравился. А филолог больше не появлялся на горизонте. Неизвестно, с кем еще Светка поделилась, она была очень простодушна при всей своей вроде бы хитрости и не умела ни счастья, ни горя нести в себе одна. Но та ее следующая наперсница оказалась не такой скрытной, как Нина, и после праздников знал об этом весь курс. Даже Глеб, с которым Нина все-таки помирилась, первым делом после встречи насмешливо спросил, правда ли, что Светку кто-то лишил невинности в новогоднюю ночь? «А я-то думал, для нее это пройденный этап»,— самодовольно похохатывал он, лежа на спине и пуская дым в потолок.
Бедная Светка, не на того нарвалась, он бы ее не обидел, наоборот. («Значит, и я наоборот,— подумала Нина, ненавидя свой затекший затылок на его коварной руке,— значит, и меня он...»)
— Ну что ты, малыш, что ты злишься? Нужна мне какая-то Светка, когда у меня есть ты!
Но у Светки был счастливый характер, это с годами она его испортила, вытренировав слепоту и амбицию «эмансипированной» женщины. А в юности она легко забывала и утешалась. На характер Нины Светкиного горя хватило бы на год, скорее всего, она стала бы бояться мужчин вообще, в каждом видя следующего филолога. А Светка через месяц опять влюбилась, опять строила козни и планы, но на интригах уже ловилась сама, не в силах удержаться — какой-то тормоз в ней был сорван филологом, вероятно, та самая «честь», которую Светка берегла всерьез. Нет, Светка. не была «испорченной», как многие считали. Но и нельзя сказать, что безудержная страстность толкала ее на все новые подвиги (хотя Светка уже полюбила этим бравировать). Просто по беспечности своей она верила, что все кавалеры без ума от нее и, не утешь их Светка по-человечески, они перемрут как мухи. Этот несчастный сплав высокомерия и отзывчивости, амбиции и беспечности, талант утешаться не утешаясь, злость незаурядного ума и женская слабость доверять ласке, а не уму, телу, а не словам, словам, а не тону, жесту, а не выражению глаз, мгновению, а не тому, что за ним наступит. Эта хитрость и неумение лгать, эта вечная женская потребность быть любимой. Придумав себя жестокой, Светка была добродушна, какой создал ее господь, и, хотя в ней никто этого не ценил и не замечал, в Светке это редкое качество было выражено так естественно и полно, что ни сама она, ни другие и не догадывались, находя доброту в иных, черствых и самолюбивых людях, для которых каждый вздох — это жертва. Даже Глеба, который изменял, в том числе и со Светкой, можно было понять: Светку не надо было ни любить, ни добиваться, со Светкой они были похожи как жрецы одной касты, и, принося невольную боль, дарили то недолгое счастье, что не замутняет ничьей души и неощутимо как воздух. Жаль, что с годами любовные и другие неудачи изменили Светку. В тридцать семь лет эта женщина была уже слепа не по-юному, пестуя одну свою оскорбленность, как дитя, которое не успела родить. В прежней слабости она видела теперь почему-то гордыню и независимость, неспособную скатиться до семейного очага. Да и зла она была ровно так же, как добра!
— ...Ну конечно, и нормативы,— машинально сказала Нина Сергеевна,— у нас, кажется, перерасход по спирту.
Каурцева уходила к своему столу, неся журнал. Чужими, бесстрастными глазами Нина Сергеевна видела сейчас своих сотрудниц: лаборатория казалась театром абсурда, в котором разыгрываются отвратительные, фальшивые сцены — Каурцева тоже играла свою ненужную роль. «Нет, мы не можем через себя переступить,— думала Нина Сергеевна, тяжело глядя на бывшую подругу,— а если переступаем, то за слабость свою платим потом жестокостью...» Понимала же она рассудком, что эта женщина тоже одинока и обманута жизнью, как она сама, что некуда и не к кому ей прислониться,— но понимание было как бы мертвой конструкцией, схемой холодного ума, которым Нина Сергеевна много чего понимала... А сердце полнилось едкой обидой, чуть ли не завистью, циничной и неправедной: этой вертихвостке и тут повезло — не рожала, не мучилась, не растила — свободна как птица... У нее нет дочери, нет Марины...
ГЛАВА 9
В обед Нина Сергеевна кляла и ураган и связистов: нужно позвонить Глебу, с утра он собирался в угрозыск в Иркутск, а теперь, конечно, приехал. Поэтому она пошла не в столовую, а в ближайшие автоматы. Автоматы, все три — у столовой, и на перекрестке, и у почтамта — проглотили монеты, и — слышались короткие гудки. Теперь Нина Сергеевна кляла уже не только связистов и мороз, но и тех, кто портит автоматы. Возможно, Глеб звонил ей на работу и не дозвонился. Наконец — из общежития, с вахты. Вахтерша долго и недоверчиво ворчала, напуская начальственный вид, Нина Сергеевна вежливо раздражалась. Нелепость препирательства из-за такого пустяка доводила до мизантропии, вахтерша становилась личным врагом. «Это в крови,— бодрила она себя иронией висельников,— поставь эту бабу попечительницей клозетов, мочевой пузырь не у многих бы выдержал... И что за радость — унизить ближнего? Или — унижали ее?..» Разглядывала вахтершу: багровая шея в складочках, толстые уши. Лицо — мясо и глазки. Вахтерша, всласть наглумившись и выполнив свой гражданский долг, допустила все же до телефона. Нина Сергеевна набирала номер, косясь на нее: и у нее дети, но нет такой страшной беды, как у них с Мариной, и в чем-то тупоглазая лучше по-матерински, инстинктивно мудрей. Подобные мысли все последнее время донимали ее: и то с умилением и завистью, то с болью и виной — их детей миновала чаша. Нелепый вопрос, бунтарский и жалкий: неужели она плохая мать? Знай вахтерша — злорадствовала бы или пожалела?
— Это ты, Глеб? Что там у вас? Звоню полдня...
Но оба, покричав, застыдились: как же это они, когда... Глеб не сказал ничего нового: бесполезная поездка в угрозыск, капитан даже адреса не проверил. Не ждала ничего, но опять боль: милиция как больница, идем к богу, а они люди. Раздражаясь, сказала Глебу: «Ну что ж, в понедельник возьму отпуск за свой счет, ты всегда без толку...» И тут же опомнилась: «Прости». Он: «Да что, я же понимаю...»
Если они и виноваты, то, конечно, в том, что слишком тряслись над Мариной. В шесть лет у нее обнаружили ревмокардит, и это совпало с их дурацким разводом. Они-то помирились, а дочь заболела. В минуты особенно жестоких ссор Глеб мог ей выдать: «Если бы ты не выгнала меня ради своего хахаля, то Марина бы не заболела...» Говорилось это в пылу, говорилось не раз. Если он хотел причинить ей боль, то вполне достигал своей цели. Оба знали, что в этом и доли нет истины: «хахаль» отпал сам собою, те полтора года с ним были, скорее, нелепостью, чем счастьем, хотя она никогда не жалела о них, возомнив некую уверенность с Глебом и видимое равноправие; с мужем они помирились охотно и без счетов, решив, что это их судьба, а Марина заболела позже, через несколько месяцев... Началось с обыкновенной простуды. Как всякий детсадовский ребенок, Марина болела часто: и корь, и ветрянка, и тому подобные неизбежные болезни, когда ребенок в контакте. Нина Сергеевна третий год отработала после института, и как раз начались неприятности по службе. А к свекрови на поклон не хотелось идти.
В общем, все как-то совпало. В больнице тоже не обратили внимания, и Марину выписали в садик. А начиналась пневмония. Через несколько дней Нине Сергеевне позвонили на работу: девочка в жару, красное горлышко. И еще неделю дочь лечили от ангины, горлышко прошло, но температура держалась: скверная температура, чуть выше тридцати семи. Кончилось тем, что в самый мороз дочку повезли на рентген, и подтвердилось худшее: затемнены обе доли легких, затяжное течение. Марину увезли на «скорой помощи», и весь месяц Нина Сергеевна металась, пробиваясь к врачу — в больнице еще и карантин придумали, а врач, наглый сытый мужик, улыбался снисходительно и игриво: «Молодые матери все нервные, вот родите второго ребенка...» После повторного рентгена дочь выписали. Но дома температура возобновилась. Это было ужасное время. Зима, самые морозы, сидеть по справке Нина Сергеевна не могла, потому что на работе бурлили страсти и цвели интриги, она бы вылетела в два счета, дай им повод. На гордость перед свекровью она давно плюнула и готова была хоть пятки ей лизать, лишь бы та сидела с Мариной. А свекровь, женщина независимая, экономист на пенсии, подрабатывала на каких-то курсах, хотя особой нужды у них со свекром не было. Но бросить свои курсы она почему-то не могла. Нина Сергеевна ползала на брюхе, умудряясь даже вырваться на обед домой и опаздывая всякий раз на работу: это время совпадало не то с курсами свекрови, не то с ее репетиторством, которым она подрабатывала тоже. Вот тогда Нина Сергеевна поняла впервые, что значит остаться без матери, среди чужих людей. Мать придумала бы что-нибудь, бросила бы работу.
Глеб, конечно, волновался и переживал, но был беспомощен. И все это: бессмысленная суета Глеба, жертвующая собой свекровь, поиски врачей, подозрительные какие-то знакомые с подозрительными рекомендациями; Глеб, устраивающий вечером скандал только потому, что у него тоже нервы и сердце; неприятности на работе...— не было краю той жалкой и отчаянной возне и очень напоминало ее сегодняшнее состояние. Но тогда Марина была крошкой, и она была с ней. Особенно мучительны были утра: каждый раз у Нины Сергеевны сжималось сердце, что опять она уходит и оставляет девочку одну. Пока возилась на кухне, терла дочке морковь или яблоко, варила кашку, было еще ничего. Доставала из холодильника странное снадобье, которым якобы излечивали в народе даже туберкулез: смесь редечного и морковного сока, натуральный мед, немножко вина. Все это должно было согреться до того, как проснется Марина. В лекарство Нина Сергеевна не то чтобы верила, но думала что в безвитаминное время не повредит. А время — вот ведь закон подлости! — те несчастные час, полчаса, которые иногда тянутся бесполезно и бессмысленно и не знаешь, куда себя девать,— этот утренний час истаивал, как шагреневая кожа, все валилось из рук, и пора было бежать. Наспех царапала свекрови записку: «Котлеты и суп в холодильнике, компот у балкона, в обед постараюсь сбежать, белье не гладьте...» Конечно, и обед, и белье можно было поручить свекрови, которая знала, как трудно после работы мотаться по очередям, когда еще нужно встретиться с врачом, и съездить в лабораторию за анализами, потому что в поликлинике они будут только завтра, и записаться на очередь к эндокринологу, и знать, что дома больная девочка. Но — просить свекровь...
Нина Сергеевна глядела на будильник и не верила глазам: словно он попал в магнитное поле, а ведь было еще пять минут... бежала к девочке:
— Мариш...— Трогала губами влажный лобик, теплые во сне волосы, слабела, безумела: плюнуть, остаться дома, пусть увольняют. Отводила вялую ручку с градусником: тридцать семь и четыре, опять... Свекровь приходила к восьми часам.
Еще раз назначили уколы, какой-то сильный антибиотик, но это было настоящее издевательство: возить больного ребенка в такой мороз на автобусе. Приходящей сестры почему-то не оказалось на их участке. «Пожалуйста, давайте госпитализируем». Молодая дурочка педиатр с радостью бы переложила эту задачу на других. Тут и робкая Нина Сергеевна не выдержала: «Да ведь она только что из больницы, месяц там была! И выписали с температурой». — «Назначим повторное обследование». — «Какое обследование? Ведь мороз сорок градусов, вы помните, где центральная поликлиника? Больную девочку, с температурой... Извините меня, но вы...» — «Хорошо, ищите приходящую сестру, я вам выпишу рецепт. Но в аптеках может не быть, достанете?» Антибиотик достали через Рохляковых, с унижениями, с кровью, но достали. Оставалось найти сестру.
Нина Сергеевна до сих пор беспомощна, когда нужно «выбить» или «достать», обходя существующий порядок, а тогда форменная была недотепа. Глеб такой же, как она, и даже совсем глупый: он много говорит, что надо делать, как все, что щепетильность — удел дураков, ущемленных и вообще «опривеченных» людей, что надо в эту свару и грызню, если хочешь места под солнцем, что закон отбоpa... И тому подобное. Однако, решившись на сделку с совестью, Глеб возвращался униженный, как пес, поначалу героически врал одиссею своего хитроумия, затем понемногу сникал, начинал жаловаться и, наконец, обрушивался, негодуя, на «этих приспособленцев». Многое Нина Сергеевна не понимала в муже, любя и мучаясь понять, многое — ненавидела, выносить не могла, а вот в этом одном они были похожи. Однако роковая похожесть в «одном» делала их жизнь достаточно невыносимой. Подобные люди позволяют себе гордиться «неумением жить», но на практике слишком утомительны друг другу. В конце концов, она давно плюнула на Глеба и знала, что крест унижений по поводу «выбить» и «достать», когда уж припрет, ей приходится нести самой.
Им нужна была сестра. Среди соседей медицинских сестер не было, да и соседей они не знали, только в лицо. Глеб должен был спросить у кого-то, у кого есть приятель, женатый на медичке. Но спросить сразу было неудобно, и Глеб, подготавливая почву, шел с этим «кем-то» в ресторан, где, захмелев, нес чушь, в результате «кто-то» обижался, и хлипкие их отношения становились никакими. Утром Глеб с головной болью, но бодрым голосом говорил: «Ничего, старуха, ничего! Так дела не делаются...» Нина Сергеевна не совсем понимала, к чему эти сложные интриги с рестораном, когда денег в обрез, и почему бы не спросить просто по телефону, но когда вся Глебова таинственность кончалась таким позорным образом, она приходила в ярость. Глеб некоторое время побито молчал, а затем и сам орал с полным правом. Все это не решало проблемы. Ей посоветовали обратиться в близлежащие медпункты квартала: в школу, в детский сад, в ясли. В школе и в яслях отказали категорически. Для нее и так уже был подвиг: идти неофициально, просить частным образом. Перед детским садом она совсем пала духом.
В детском саду оказались две сестры, старшая и обыкновенная, и Нина Сергеевна начала свою униженную речь: «Извините, пожалуйста, не могли бы вы мне помочь...» — направление на руках, лекарство по рецепту достали, и дом в двух шагах... Обе сестры непреклонно потупились в стол. «Я как мать, как женщина...» — подавленно пропищала Нина Сергеевна. Выходило, что они не имеют права, бывают комиссии и могут их накрыть. Нина Сергеевна никак не могла взять в толк, почему профессиональная сестра не имеет права сделать инъекцию больному ребенку. Старшая объяснила: потому что ребенок не их ведомства. Старшая нервничала и собиралась уходить, младшая писала что-то в тетрадку. Тут Нина Сергеевна вспомнила, что женщины в таких случаях плачут. Не в припадке отчаяния, а трезво, холодным умом поняла, что последний ее шанс — заплакать. И заплакала. Удивительнее всего, что получилось совершенно естественно: она натурально заплакала горючими слезами, всхлипывая и бормоча как бы в слабости и трезво притом понимая, что слезы — ее оружие, хотя и переживая в то же время нестерпимую унизительность своих слез. Может, юродивая унизительность и толкала ее стараться. Обе сестры чрезвычайно разволновались, Нина Сергеевна не хотела бы оказаться на их месте. Сама же она расчетливо и обильно плакала, удивляясь одновременно своей расчетливости и искреннему горю. «Я же вам сказала!» — не выдержала наконец старшая, надевая личину грубости, чтобы не стать жертвой слабости, и поспешно удалилась от Нины Сергеевны в анфиладу каких-то комнат. Нина Сергеевна осталась плакать наедине с простой сестрой. Она упорно плакала, несколько отупев от собственного плача и даже окаменев и зачерствев в нем, не столько уж стыдясь, сколько откровенно вымогая, а сестра все неувереннее ерзала на своей табуреточке. «Я бы ее поколола,— пробормотала она не глядя,— но понимаете, старшая сестра...» Это уступка вдохновила Нину Сергеевну на новый приступ рыданий. Сестра нервно писала что-то в своей тетрадочке. Нина Сергеевна почувствовала, что выигрывает, что только чуть-чуть еще — и мужество сестры иссякнет. Сбежать, как старшая, она, видимо, не могла. «Я бы дома, но у меня нет шприца,— сердито сказала сестра. Наконец ее осенило, как отвязаться от Нины Сергеевны.— Я вам дам адрес,— обрадовалась она. Она назвала какую-то фамилию.— Знаете? Очень опытная сестра и живет рядом с вами. Вы поговорите, может быть, она согласится».
Так нашлась сестра для Марины. Сестра действительно оказалась опытная, но вожделенный антибиотик не помог: у девочки открылась аллергия, по всему тельцу и даже по головке пошли волдыри, резко поднялась температура. Если бы Нина Сергеевна кинулась опять к участковому педиатру, бог знает, чем бы могло кончиться, но сестра оказалась на редкость сердечной женщиной, сидела с Мариной всю ночь, утром состояние улучшилось, и до «скорой помощи» не дошло. Были и еще трагикомические ситуации: сколько надо заплатить за сердечность этой женщине. Они с Глебом понятия не имели, у сестры было неудобно спросить, свекровь где-то узнавала, через кого-то. Решили, что лучше переплатить, чем дать меньше. Нине Сергеевне мерещились кошмары о взятках и как эта милая женщина непременно оскорбится: она-то со всем сердцем, а они деньги суют. Решили, кроме денег, купить подарок и долго не могли ни на чем остановиться. Отрез на платье — дорого, а духи — как-то тривиально. Наконец выбрали цветы: зима, подарок достаточно труднодоступный и дорогой и в то же время не выглядит взяткой. Сколько было волнений и смешных репетиций: как все это вручить сестре, что сказать? Вышло гораздо проще: их розам искренне обрадовались, а из денег взяли лишь то, что причиталось по какому-то негласному прейскуранту, остальные отдали — естественно и мило.
Нина Сергеевна еще только училась на этой стезе. Потому что оказалось, вопреки ее школьным представлениям: если твой ребенок заболел, мало пойти в больницу. Марина оставалась больна, нужно было что-то предпринимать, а второй раз в городскую больницу Нина Сергеевна ни за что бы ее не отдала. Конечно, на работе спрашивали. Она казенно перечисляла: надо просить повторное пирке, обследование лимфатических желез. Ей было неприятно отвечать. Ведь понимала, что это формальность, сколько раз она вот так же сама расспрашивала случайных знакомых, проявляла участие. И прекрасно помнила, что никакое не сочувствие она испытывала, а неловкость: свои слова казались фальшивыми в чужом горе. Да и не зажила еще смерть мамы, даже на пятый год. Помнила: тогда была растерянность и непоправимое чувство вины. Толкалась к любому, чтобы забыть, заглушить,— к любому, кто спрашивал; словно снимая с себя часть вины, рассказывала, удивляясь, что все в ее рассказе — сущая правда и в то же время ложь. Когда рассказывала, то оживала иллюзия, словно бы мама не умирала еще, раз ее помнят. И вдруг видела выражение скуки на лицах. Это ее устали слушать, и это она была нетактична. Она даже ожесточилась и замкнулась, впервые с беспощадной силой осознав жалкое одиночество любого человека, который всю жизнь, с рождения и до смерти, проживет лишь один, соблазняя и утешая себя иллюзиями дружбы, любви. Постепенно это притупилось и выработался иммунитет: она говорила общие слова, отключаясь от истинно наболевшего — считала, что это никому не нужно и не интересно. Нина Сергеевна выучилась фальсифицировать откровенность и подозревала, что все живые люди поступают точно таким же образом. Так было проще и удобнее, хотя страшноватое одиночество вспыхивало всякий раз от подобных общений.
На работе, впрочем, дали добрый совет. Эти интриганки, которых она не совсем уважала и которые силились ее сжить с места, были практичные матери: дочку надо устроить в больницу предприятия. Здесь врачи, здесь уход, не то что в городе. Нина Сергеевна и сама не доверяла городской больнице: отделения переполнены, дети в коридоре лежат, а врачи — хотя бы тот, что лечил Марину и выписал с температурой, вряд ли чувствовал в себе призвание к педиатрии. Больница предприятия — это другое дело. Здесь лучшие в области специалисты, оборудование, даже кухня. Но было одно «но»: у Нины Сергеевны городская прописка, квартиру получал Глеб. Так что их дочь относилась по участку к ведомству города, а не к поликлинике предприятия. Сама-то Нина Сергеевна лечилась у своих, а вот лечить дочь не имела права. Сослуживицы дали телефон Гарифовой (закончила ординатуру, пишет кандидатскую, но дело даже не в этом — Гарифова лучший педиатр в городе). Заведует здесь отделением. К ней, именно к ней надо положить девочку, упросить, чтобы лечила она сама. Конечно, Гарифова не мед, слезы ее не трогают, денег ей не дашь, но наверно — можно упросить, если очень постараться. Тем более Нина Сергеевна работает у них, можно через директора.
На той же неделе дочку положили к Гарифовой, но все равно это была долгая эпопея. Нина Сергеевна выучилась терпеливо плакать, вымогая сочувствие, убеждать, заставать неуловимых нужных людей, а главное — не уходить, когда ей показывают на дверь. Атмосфера шантажа и соучастия царила дома и на работе.
«Звонила
ли ты Гарифовой? Еще раз позвони
Гарифовой»,— разделял ее
подвиги любящий муж. Свекровь покладисто
сидела с внучкой, слова не говоря,
высвобождая Нине Сергеевне время для
турниров и битв с нужными людьми. «Что
сказал Иван Тимофеевич?» — спрашивали
на работе. И даже свекор передавал свои
инструкции заочно: «Пусть Нина не забудет
поблагодарить. А не будет ли бестактностью
предлагать Гарифовой деньги?»
Гарифова! Это имя стало как гипноз. Женщина была некрасива, ряба, немного припадала, как утка, и, глядя на эту некрасивость, Нина Сергеевна сразу и бесконечно вверилась ей, чутьем согласившись, что лишь Гарифова поставит девочку на ноги. В дни консультаций некрасивая доктор была сердита и резка, ничего не обещала, но когда она уходила, слегка припадая,— Нина Сергеевна глядела ей вслед с мистическим чувством, и даже в этом припадании виделись энергия и воля. Гарифова вырвала ее девочку из вялого астенозного состояния, Марина вернулась домой без температуры, нормальным ребенком, но ее поставили на учет к кардиологу: у дочери оказался ревмокардит. Это потом — санатории, освобождение от физкультуры, выбивание дефицитных путевок. Они с Глебом обезумели. В год Марина превратилась из румяной жизнерадостной девочки в хрупкое создание, и с тех пор любое лето начиналось с поисков путевок к морю, а если путевок не было, они кроили и выкраивали с Глебом, чтобы обеспечить дочке теплое море хотя бы диким образом, снимая квартиру. Может быть, они слишком тряслись над Мариной, гораздо больше, чем над младшей, Лялькой. Ляльку тоже возили к морю, но как бы за компанию с Мариной, просто ей такая удача выпала, а вот Марина — той действительно необходимо для здоровья. Очень жаль, что Марину освободили от занятий физкультурой: девочка рано развилась, слишком рано осознала себя женщиной, не носясь сломя голову на велосипеде и не играя с мальчишками в волейбол. Правда, родительскими усилиями хоть плавать научилась. Видимо, поэтому младшую, Ляльку, они с Глебом упорно толкали в спортивные секции: и на фигурное катание, и в плавательный бассейн.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





