ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
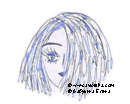
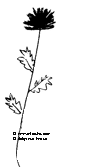
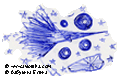
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
ГЛАВА 10
Вахтерша, дежурившая у общежитского телефона, была, конечно, заинтригована. Хотя бы потому, как усердно изображала безучастность. Может быть, Нина Сергеевна преувеличивала из мнительности, но тогда все именно так и казалось. Ей было стыдно, что вахтерша слышала разговор и бог знает о чем догадалась, точно так же, как теперь стыдно за унизительный свой стыд. Детский страх, что каждый прохожий читает твою душу, как будто прохожим есть дело до твоей души. Однако стала заискивать перед вахтершей, благодарить, заглядывая в глаза. Хотя только что, добиваясь телефона, едва не сорвалась в крик, не наговорила дерзостей. Это было особенно унизительно.
Вахтерша внимательно и осторожно взглянула на нее.
— Да что ты, девка?— искренне удивилась она, просто и откровенно разглядывая Нину Сергеевну.
Нине Сергеевне стало не по себе под ее умным, спокойным взглядом, который так неожиданно осветил и преобразил прежде непроницаемое и поэтому туповато-враждебное лицо вахтерши. Теперь перед ней сидела грузная пожилая женщина с несколько тяжелым лицом и отечными веками и видела ее насквозь — без осуждения, без любопытства.
Нина Сергеевна вдруг задохнулась от незнакомого, сладкого чувства благодарности к этой женщине и нестерпимой обиды на жизнь — так подкосило и обессилило ее внезапное живое сочувствие. И в том, что не расспрашивает ни о чем, было что-то забытое, надежное.
После разговора с Глебом (ведь не ждала, что гора с плеч!), но совсем не выносимо...
Все равно она надеялась, не признаваясь себе, что Марину уже нашли и Глеб привез ее из Иркутска и сейчас передает трубку: «Ну что же это ты, доченька?» — «Я? А что?» — «Где ты была?» — «Ездила с девчонками в Ленинград, нельзя, что ли...» — «Ты хоть понимаешь, что ты наделала? Мы с отцом так волновались...» — «Да ну вас! Что со мной может случиться...» — такую умильную картинку представляла она себе, не позволяя надеяться. Тем трудней было вернуться к опустошающей действительности. Разумеется, капитан ничего не узнал — что успел бы он за два дня после их свидания? Глеб говорит, он, кажется, рассердился: «Я же сказал вашей жене, что сам позвоню. Так я не забыл, я действительно позвоню, если что-то выяснится...» Фомин прав, все они там правы, но как это ужасно — ужасно! Время словно остановилось, нет его. И вдруг очнешься: ведь уже третья неделя. Невозможно привыкнуть к этому. И поэтому просто не думаешь, не живешь, а тянешь ожидание: скорей бы сутки прошли — может, завтра? Завтра что-то изменится, должно измениться, только надо дожить до него, до завтра.
До конца обеденного перерыва оставалось еще время, и Нина Сергеевна зашла в столовую перекусить. Есть не хотелось, но и не хотелось возвращаться на работу раньше. Сотрудницы, если только не бегают по магазинам, сейчас уже в лаборатории. Хвастают, что успели достать, примеряют чью-то кофточку, которая оказалась мала, хотя в магазине сидела как влитая, зато кофточка очень удачно сидит еще на ком-то, кто занимает теперь деньги. Возможно, говорят о Нине Сергеевне и ее дочери, которую разыскивают с милицией, какой ужас, а ведь такая скромная была, хорошая девочка... нет, за детьми нужен глаз да глаз. Нина Сергеевна не имела желания к ним возвращаться.
Столовая находилась в том же здании этажом ниже. И очереди в это время никакой. Раздатчицы удалились за ширмочку из черного пластика и о чем-то горячо там толковали, может, тоже примеряли кофточку. И в кассе не было никого. Столовая после ремонта выглядела помпезно: и чеканка, и какое-то дерево; на фанерное лицо девицы наклеены фанерные щеки, она держит на фанерном полотенце хлеб-соль. На чеканке изображены почему-то знаки зодиака. Был даже витраж изображающий изобилие. В обязательных кадках росли обязательные цветы. Комбинат не скупится на затраты, все столовые комбината — картинка. Однако производственников кормят лучше, чем здесь. Без неусыпного ока начальства персонал довольно-таки обнаглел, а изобилие только на стенах. Наконец появилась первая раздатчица, поправляя крахмальный колпачок. Выражение оживления бесповоротно таяло на лице, сменяясь сварливой миной человека, всегда готового к отпору: «Что вам на первое? Суп с гренками, молочный, борщ...» Эта готовность к вражде и постоянное быть начеку требовали куда больших душевных затрат, чем казенная улыбка лести, и Нина Сергеевна втайне пожалела девушку на ее трудной работе: легко ли отдавать столько сердца каждому сытому и голодному, несогласному с меню, объявляя, что пусть он обедает дома, раз ему не нравится. За девушкой появились и остальные раздатчицы, столь же поспешно меняя благодушие на мрачность.
Нина Сергеевна что-то жевала, было невкусно, а на душе черно: впереди еще половина рабочего дня, которую надо как-то переплыть. Девушки опять с облегчением слились и защебетали: Нина Сергеевна больше не мешала им обсуждать галантерейные проблемы. Она девушек не осуждала, интерес был, скорее, исследовательский: что напихано в эту котлету, кислый хлеб или кукурузный крахмал? Ведь у них тоже и прогрессивка и соцобязательства. Что берут в соцобязательства? Заменить котел «а» котлом «б»? Или вермишель — перловой кашей?
«Я становлюсь мизантропкой,— подумала Нина Сергеевна,— это уже совсем нехорошо». Ей казалось, она не в силах подняться на свой этаж, не в силах что-то делать и заставлять делать сотрудниц, не в силах ответить на звонок управления, если уже наладили связь. Подмывало встать и выйти: на улице снег, пойти по снегу, мимо машин, за коттеджи, туда, где ранняя заря, и ночь идти, и утро... Не для того чтобы отыскать Марину, а просто уйти от всего.
И все-таки было у нее это чувство: ведь она знала, должна была знать.
ГЛАВА 11
Потому что неприятности начались (или начинались) уже в прошлом году, примерно в это же время. Нет, раньше: конец сентября, рано выпал снег. Марина не выдержала конкурса после школы, пошла работать. И приехал отец. Нина Сергеевна отлично помнит: гадкое настроение в конце рабочего дня, но оно постепенно выветривается в автобусе, а на остановке она уже не думает ни о чем, кроме дома. Как все-таки устроена память: она забыла подробности последнего вечера перед тем, как Марине исчезнуть — состояние дочери и ничтожный какой-то разговор, из которого она не помнит ни слова, хотя не прошло и трех недель, а тот разговор, может, имел уже что-то в подтексте. Зато запомнился путь с автобусной остановки, те двести ничем не примечательных шагов, которые она прошла год назад. Микрорайон был завален снегом, а в нем протоптаны талые дорожки с черной водой, и воды было по щиколотку. Пухлый толстый снег, удивительный по своей белизне, и черные озера луж среди сугробов. И густеющие сумерки, отчего снег белей, а лужи черней, и щемящее чувство бездомности, хотя идешь ведь домой. В том году обломало деревья: они стояли в зеленой листве, сентябрь был теплый, и вдруг пошел снег с дождем. Рухнули огромные деревья, вершины крон.
Помнит это глупое и всегда счастливое волнение: вот сейчас увидит своих девочек, и дома ли они. Марина должна уже прийти с работы. Действительно, кто-то маячил в кухне — Марина. А у стола сидела, ей казалось, Лялька. Потом увидела, что не Лялька — наверное, Глеб. Ей стало казаться, что это отец, но не мог же отец так просто приехать — ни письма, ни телеграммы.
Марина подошла к окну, увидела Нину Сергеевну и замахала. «Дед приехал?» — крикнула Нина Сергеевна. Марина не поняла, а потом закивала обрадованно: «Дед...» Отец увидел ее на улице, заулыбался. Марина открыла форточку.
— Погоди, за хлебом сходишь! — закричала она по пояс из форточки.
— А ты? — рассердилась Нина Сергеевна. — Чем ты занималась?
— Чистила картошку, — капризно огрызнулась Марина. — Послушай! Дед говорит: вина купи... Деньги тебе скинуть?
Больше всего удивило ее тогда, что отец нисколько не изменился. «Еще год-другой — и они будут как ровесники,— подумала Нина Сергеевна,— а ведь ему шестьдесят...» Все та же красная луженая шея была у отца, красные щеки. Но если приглядеться — морщины от виска к подбородку. Зато почти не поседел. У него жесткие прямые волосы какого-то неопределенного цвета и довольно внушительная фигура — ему пристало бы позировать репинского бурлака на Волге. Лысоватый и как бы интеллигентный Глеб выглядел рядом с отцом подростком и в то же время стариком, хотя Глебу было тогда сорок три.
— Что же не писал? — спрашивала она, подставляя щеку для поцелуя.
— А ты?— усмехнулся отец.
Стол накрыли в большой комнате, с праздничной по такому случаю скатертью. У отца был припасен спирт, и он пил его один, а Глеб в тот вечер пришел поздно.
— А у меня с Санькой горе,— пожаловался отец. Санька, сын отца, младше Марины и учился тогда в десятом классе. Отец поплутал еще вокруг да около — о воспитании и современной молодежи. Свелось все к тому, что Санька попал в дурную компанию и угнал у соседа мотоцикл. Так что отец приехал из-за этой истории: могло кончиться штрафом или хуже, и отец приехал советоваться с кем-то, кто работал теперь в прокуратуре.
— Да знаешь ты его!— говорил отец. Он оживал, хмелея и вместе с тем тупея, и слышал только себя: — Ты его знаешь, третий дом от нас жил... Ну, гусь такой, неужели не знаешь? У него тесть директором гидролизного...
«Гусь» в устах отца означало высшую степень предприимчивости, и Нина Сергеевна не могла не усмехнуться: «гусей» отец уважал.
— Да знаешь ты его! Такого гуся не знать!
Нина Сергеевна качала головой: во всяком случае, не помню.
К старости у отца не убавилось гонору. Тогда он уже вышел на пенсию, но хвалился, что работает где-то «толкачом». Это была новость, удивившая ее еще больше Саньки: роль «толкача» не вязалась с отцом. «Однажды кулаком быка» он уже не убивал, ведро спирту на спор не выпивал (как будто он его выпивал когда-нибудь!), а вот про «толкача» не мог утерпеть, похвалился. Она чувствовала эту изнанку: «толкать», скорее всего, ему было тяжело и нескладно, совать деньги и договариваться он не умел. Хотя — не придумал же! И вот — «толкач». Она глядела на него не то с жалостью, не то с отчуждением. Горе по поводу Саньки не произвело на нее впечатления. Во-первых, Саньку она не видела никогда. Во-вторых, ей казалось, это воздалось отцу за мать и за них. И еще что-то, самодовольное, насчет воспитания: мол, с нею, в ее семье — такого быть не может. Самодовольство всех родителей. Год прошел, с ее Мариной еще хуже, еще страшней. А тогда — был чужой человек за столом, ее отец:
— Да знаешь ты его, такого гуся не знать!
И что-то в тоне и в голосе, в упрямой ямке на подбородке — мучительно-похожее: в этих светлых на красном лице глазах. Она не хотела в себе этого, но и в ней было: перспектива уйти на пенсии в «толкачи». Внешне они не похожи: Нина Сергеевна худая и черноволосая. Глеб тестя называл: «Такой дуб». «Дуб» — это о физической мощи. Но и «дуб»... И тогда, за столом, она кровью чувствовала их фамильное сходство.
Наверно, отцу и впрямь казалось, как это славно: прожить шестьдесят лет, не хуже людей прожить, а в смысле выпитого спирта, рыбалок и охот — получше многих прожить; и вот приехать к старшей дочери в гости, которая кое-чего добилась в жизни, а ведь медаль дается далеко не каждому. И, умиляясь дочерью, хваля ее, он как бы умилялся собой, и все в его жизни представлялось разумным и предусмотренным. Нина Сергеевна с неудовольствием и тревогой поглядывала на дочь, которой, видимо, «умора» его слушать: глупая девчонка чуть ли не вслух фыркала в тарелку. Это Маринино хамство появилось в старших классах, и чем дальше, тем хуже: могла ляпнуть наглость при гостях, а уж тон... Конечно, дед слегка завирался, подвыпив, но и Марина хороша: могла бы пощадить старика. Нина Сергеевна хмурилась: веди себя прилично, дед пожилой человек, хотя бы и пьяный. Марина шептала ей в ухо, демонстративно перегибаясь через стул: «Сейчас начнет вспоминать, как ты в школе училась...» Отец и впрямь начал: «Нет, ты постой, Марина, ты думаешь, дед выпил, так можно его не уважать...» И о том, как Нина Сергеевна, учась в школе, получала одни пятерки, что, кстати, было неправдой. Марина слушала издевательски сочувственно. Отец зарывался и прямил внушительные свои плечи: нет, ты постой, Марина. Пока и ему не ударило, что Марина ерничает. Тогда он обиделся и спросил, переходя на личности: зачем у Марины такая смешная юбка? И зачем красит глаза?
Марина дернула плечиком: мол, давай-давай воспитывай, только кто тебя слушать будет?— и со скучающим высокомерным выражением откусила маринованный огурец. При всем ее высокомерии и преувеличенной скуке Нина Сергеевна видела, что ушки у дочери густо покраснели — значит, злится.
С этого все и началось: с взаимных обид деда и Марины. Все остальное — разговор о Маринином устройстве на работу, разговор, в сущности, о Рохляковых и об их умении жить, Маринин цинизм по поводу этого умения. Это был первый бунт Марины. Дальше могло быть только хуже, а они с Глебом не понимали ничего, думали, все перемелется, а дальше было хуже и хуже. В тот вечер назревала между дедом и внучкой ссора, но спасла Лялька с милым ее лепетом и легким неосознанным умением всех мирить.
Нина Сергеевна всегда поражалась, насколько они разные, ее девочки. Конечно, Лялька младше на девять лет, но причина не в этом. Они и внешне не похожи: белокурая Марина почти красавица, а Лялька просто милый ребенок и может вырасти в дурнушку — бесформенный рот и зубки неровные. В глазах у Ляльки что-то щенячье, и никогда эти глаза не будут прекрасными. Вообще Лялька — милая. Лялькина милота и портит ее по сравнению с Мариной, но есть в Ляльке что-то такое, что иногда Нина Сергеевна уверена: дочь будет очаровательна, несмотря на неровные зубки. Лялька с изюминкой, с бесенком, с перцем, а Марина просто хорошенькая. Марина, скучая, хрустела огурцом, ушки у нее сердито пылали, и, видимо, ждала любого дедова замечания, чтобы надерзить, уязвить, смешать деда с прахом, отомстив за юбки и крашеные глаза своего поколения. Но тут затрезвонила на лестничной площадке Лялька и Нина Сергеевна вздохнула с облегчением:
— Слава богу, пришла!
Лялька переминалась с ноги на ногу, бросала в угол коньки, в другой — вязаную шапочку:
— Ой, холод! А что, у нас гости, да? Мама, я совсем разучилась перебежку! Сегодня залили лед, а я вышла, а Юля Николаевна говорит... Ой,— вопила она, сообразив,— дед приехал!— и бежала виснуть на деда как была: в расстегнутой курточке, в сапогах, со щеками, твердыми от мороза.— Деда мой приехал! Я с тобой буду есть, да?— и куртка была уже на полу, а Лялька на коленях у деда тыкала вилкой в колбасу.
— А руки?— изумлялась Нина Сергеевна.— Руки кто будет мыть?
Теперь обе дочери пили чай, и темой была история Марининого устройства на работу.
— Ты представляешь, дед,— с юмором повествовала Марина (она, как и Глеб, быстро забывала обиды. Хотя это шло не от легкости характера, а от некоторой рассредоточенности: через минуту она могла снова вспомнить и надерзить),— ты представляешь, она орет: у вас голова есть на плечах?! А мать, представляешь, начальник лаборатории, лучший люд города, стоит как девчонка и лепечет, мы в пять часов утра занимали к вам очередь, в пять утра. Одно и то же, будто пластинку заело.
— Да,— перебил отец,— у вас город. Если бы у нас, так можно бы на гидролизный. Только сказать кому надо, меня все знают.
Марина лукаво взглянула на мать: мол, послушай ты, что он говорит, так бы я ему и пошла на гидролизный.
— Меня тоже знают,— сердито сказала Нина Сергеевна,— толку-то.
— Ага, мы тебя смотрели по телевизору,— вспомнил отец,— весной, как медаль дали... Тем более, раз тебя уважают, так могли бы. Люди вон в институты взятки дают.
— Да пойми ты! — вспыхнула Нина Сергеевна.— Что я, завстоловой, что ли? Наконец, эти двусмысленные отношения тоже в тягость: чувствуешь, что кому-то обязан, от тебя ждут,— она кипятилась и вместе с тем чувствовала какую-то фальшь, выдуманность своей злости и поэтому кипятилась еще больше.— Да противно!— взорвалась она окончательно.
Отец с недоумением молчал, жевал что-то меланхолически. «Да я ничего, я так»,— сказал он, как бы стыдясь. Конечно, это была неправда, некая псевдо интеллигентская, скорее, игра в принципы, чем настоящая убежденность, и Нина Сергеевна почти понимала это. Может быть, это шло от образа, который мы создаем о себе, не подозревая, как мы себя искажаем. Но — кого она обманывала? Когда Яна сообщила, что есть место в НИИхиммаше,— разве они отказались? И разве принципиальные соображения, которыми она красуется перед отцом,— останавливали?
— Они возьмут, нужно только разрешение из горсовета,— сказала Яна,— Маришка ведь несовершеннолетняя.
Ах, еще и это!
— В горсовете ты уладишь в один день,— бодро консультировала Яна,— они к тебе отнесутся, вот увидишь, тебя же в этом году наградили.
Логика почти всех людей: тебя же наградили, кому же, как не тебе. Но в чем тут привилегия, Нина Сергеевна, хоть убей, не знала. Нацепить, что ли, медаль и пойти, хватая всех за горло: устройте мою дочь, ибо у меня медаль и я начальник лаборатории? Хотя таких «начальников» пруд пруди, таких «творческих» и шибко «научных» работников.
Отец раздражение дочери если не понимал, то чувствовал его инстинктивно. Он еще раз вздохнул и выпил.
— Я пью, потому что жизнь такая,— сказал он, сводя на философскую подкладку. Это ему понравилось: что он пьет не просто так, а из-за жизни, и он пустился очертя голову:— Такая жись. Вот ты говоришь, что Марину не могла устроить, и в горсовете с ними...
Нина
Сергеевна слушала этот бред с легким
стыдом: не столько из-за себя,
сколько из-за девочек, ведь они слышат.
Ляльке еще заслонит восхищение дедом,
а Марину не проведешь. И
неприятно, что Марина первая подняла
эту тему — значит, для дочери
только повод для шуток, а мать ломала
и выворачивала себя. Достаточно вспомнить
то унижение, что она пережила на
приеме у Суворовой.
Суворова — председатель комиссии по делам несовершеннолетних; прием — вторник и среда, с 9 до 13.00. Эту табличку на дверях Нина Сергеевна запомнила довольно отчетливо. Из-за наплыва десятиклассников очередь нужно было занимать в пять-шесть утра. «Возьми паспорт, аттестат... Не забудь аттестат, слышишь?» И как болело сердце: вечером Марина улыбалась ясной улыбкой разгильдяйки — у Суворовой она не была. Надоело торчать в приемной, сбегала в соседний универмаг, а когда вернулась, в очередь ее не пустили. Что-то Марина темнила: должно быть, не в один универмаг она сбегала и не на пять минут. В среду Марина пряталась с головой под одеяло, принималась даже реветь — Нина Сергеевна бессердечно настояла на своем, иначе неделя пропадет. И пока намазывала ей бутерброды на завтрак, все долбила: «Возьми паспорт, аттестат... жди меня к одиннадцати, слышишь? И никуда из приемной, поняла?» Марина кивала через раз, спала на ходу. В одиннадцать Нина Сергеевна оформила счет на базе — и бегом в горсовет. Марина, слава богу, была на месте. У Нины Сергеевны почти отлегло от сердца: очередь двигалась быстро — значит, до часу они успеют, а на работе она появится после обеда, очень удачно. «Паспорт у тебя с собой?— машинально спросила она удочери. — Ну слава богу... А аттестат?» Марина молчала, изобразив этакое детское удивление, а Нина Сергеевна просто онемела: «Да ты... не спятила, случайно? Нет, ты серьезно забыла аттестат? Но я же тебе говорила!» Марина, как всегда в таких случаях, если виновата, начала хамить, оправдываясь: «Да зачем он мне, аттестат, я же не в МГУ поступаю...» — «О боже, ты помолчи хотя бы, если не права!» Но обсуждать было некогда, их очередь, и они — сзади Марина бессловесной тенью и Нина Сергеевна с растерянным и злым лицом — предстали перед столом Суворовой, подчеркнуто-занятой над какими-то бумагами. Время шло, а Суворова читала бумаги. Нине Сергеевне показалось, что их с Мариной так и не успеют заметить, как из-за дверей настигнут очередные. Поэтому Нина Сергеевна вдруг разволновалась, переступила с ноги на ногу и что-то не то промычала, не то прокашляла. «Документы»,— сказала Суворова в стол, но руку протянула именно к Нине Сергеевне. Такой лаконизм окончательно смутил Нину Сергеевну. Она поспешно забормотала невразумительное, некую смесь извинений и заверений, что аттестат вообще-то есть, но... Чувствовала она себя перед этой женщиной гораздо младше ее, настолько подавленной и ошарашенной, что, бормоча, сама за себя краснела, как краснела и от этой ученической позы — руки по швам. «Так о чем же тогда разговаривать?» — с первых двух слов поняла ее Суворова и, зная цену своему времени и времени ожидающих за дверью, решительно пригласила: «Следующий!» Какие-то девочка с мамой возникли у стола, уже протягивая документы, и Суворова уже читала их. Неуместность ее топтания около этого стола была так унизительна, а жизнь в своем течении уже перехлестнула через нее так откровенно, и понесла она такое, что после не могла вспомнить без досады, но, кажется, упоминала и про очередь, которую занимали в пять утра... Было же что-то очень похожее на детский кошмар: зыбкий-зыбкий пол, на котором она все-таки стоит и не падает, изумленно-сердитое лицо чужой женщины, женщины совершенно иной породы, хотя и гораздо младше ее. Изумление и возмущение, нетерпение и скука все это слушать сотый раз на дню и опять возмущение, что она вынуждена слушать, не в силах их выгнать, ибо они все равно не уходят — слишком много всего нагромоздилось на этом слишком простом лице. Нина Сергеевна все стояла, умирая от стыда и тоски, и, боже мой, что она говорила... Боже мой, что ей отвечали! У Суворовой был грудной голос, народные обороты. «У вас что, головы не было на плечах?! Извините, нечего косоротиться». Она не понимала, как выдерживает и почему все еще здесь, не ушла, и не то ей в спину кричат, через дверь, не то в лицо, а десятиклассники глазеют и слышат. Марина словно бы испарилась на это время или стала мебелью или ковром. Так что непонятно, о ком это Нина Сергеевна, о чем и зачем возле стола уставшей и отчаявшейся от нее избавиться Суворовой. И потом она видела себя глазами этой женщины: Нина Сергеевна стояла красная как рак, и недаром на нее орали.
Разрешилось все как в пьесе. На выручку пришел административный товарищ за соседним столом. Он позволил себе вмешаться: «Людмила Леонидовна, а вы примите их после обеда. Ну в порядке исключения. Вы успеете до двух за аттестатом?— обернулся он к Нине Сергеевне. — Ну вот видите, и незачем так волноваться...» Он смотрел с ласковым, чуть насмешливым выражением, как бы внезапно осознав свой пол, не имеющий отношения к его административной деятельности. Взгляд относился и к Марине краешком глаза: «Племянница?..» Нина Сергеевна опять почувствовала себя красной, субтильной и вводящей в обман административного товарища, который явно принимал ее за что-то другое. Эта улыбочка жгла ей спину, и за дверью она встряхнулась, как пес. Пока спускалась по лестнице, поостыла, а на автобусной остановке уже всерьез накинулась на Марину. Она дала волю гневу. Как она орала! Красная, взбесившаяся дамочка, она была на полголовы меньше Марины — на них оглядывались. Неужели она пешка, шипела она, неужели она пешка в этом городишке, где каждая собака ее знает, во всяком случае, по имени... И чтобы так ей хамить! Нина Сергеевна так не оставит, она поговорит с Фроловым, что за кадры у него в горсовете. Тут она запнулась с разбегу и даже оглянулась, не слышит ли кто: зарапортовалась. Сердито взглянув на Марину, Нина Сергеевна продолжала: ну пусть виновата она, Нина Сергеевна,— неужели можно так орать?! Даже если учесть, что половина забывает аттестаты, даже если учесть, что Нину Сергеевну приняли не за ту,— разве можно так обращаться с человеком? Да еще этот тип: рад, что облагодетельствовал.
После обеда был совсем другой разговор. Суворова пришла из столовой добродушнейшей женщиной: нельзя было предположить, что эта славная бабочка с полным лицом умеет так мастерски ругаться и административно третировать. Пока открывали кабинет, Суворова симпатично болтала, какой нынче теплый сентябрь и что, скорее всего, это к раннему снегу. Видно, и она была рада поговорить по-человечески, а не сдерживать напор толпы, где все лица одинаковы, а требования незаконно-нахальны. Нина Сергеевна позабыла о своих не столь давних криках с Мариной, мысленно «вошла в положение» и совершенно растаяла перед такой симпатичностью Суворовой.
Так, болтая, Суворова заглянула в Маринин паспорт: «Мартынова?— спросила она дружелюбно, как бы подчеркивая неофициальность беседы.— Уж не родственница ли нашей Мартыновой, Нины Сергеевны? Нынче их посылали на конференцию, и там наградили двух наших...» Нина Сергеевна польщенно заерзала, покраснела и надулась как индюшка: «Н-ну... да...— она казалась себе скромной и отвечала так просто, непринужденно:— Это моя дочь!» — «Правда?— просто удивилась Суворова.— Извините, Нина Сергеевна, но вы так молодо выглядите! Никогда бы не подумала, я вас совсем не такой представляла...» Путевку Марине дали, и Суворова даже пожурила: зачем Нина Сергеевна не позвонила ей по телефону, к чему было занимать очередь в пять утра?
И вот отец с Мариной разбередили это неприятное для Нины Сергеевны, вскрыли тот самый чирей. Философия отца «за жизнь» была только примитивнее, а в принципе — такая же. Династия «толкачей» не за горами, только найди свою лазейку, свой стиль: пожинай с общей нивы хотя бы и крохи. Не умеешь ограбить, смоги выклянчить.
— Все не так просто,— пробормотала она, сдаваясь. Да отец и не возражал.
— Ты не помнишь, Марина, когда нам позвонила Рохлякова?— зачем-то вдруг вспомнила она.— В сентябре или в начале октября?— Нину Сергеевну раздражало, что она не может вспомнить, ведь и месяца не прошло, а кажется, так давно.
— Кажется, в сентябре,— беспечно сказала Марина,— а зачем тебе?
— Это какая Рохлякова?— спросил отец.— Не та, которая из Свирска?
— Нет, ты ее не знаешь. Моя школьная подруга.
— Они меня в НИИхиммаш устроили,— объяснила Марина. Каким-то немыслимым тоном, бог знает кому подражая, во всяком случае, Нину Сергеевну это кольнуло неприятно.— По знакомству, разумеется. У них тьма знакомых в городе, не то что у матери.
— Я смотрю, ты хотела бы стать такой, как Рохлякова,— неприязненно заметила она дочери.
— А что?— беспечно ответила Марина.— Яна знает, чего хочет, не то что вы с отцом. Они умеют жить.
— В каком это смысле?
— А в любом. Быть хозяевами жизни и ни от кого не зависеть.
«Ого!» — подумала Нина Сергеевна.
Маленькая хозяйка жизни глядела на мать победоносно и мысленно уже долбила лунку для флажка на последнем, самом головокружительном пике. Нина Сергеевна не могла не усмехнуться.
— Так не бывает,— сказала она миролюбиво,— за все надо платить, моя милая, будь уверена.
— А я знаю таких, кто не платит,— упрямо сказала дочь,— хотя бы тех же Рохляковых.
— Не платят — что ли, бесплатно кости достают с мясокомбината?— съязвила Нина Сергеевна.
Но дочь отнеслась к ее выпаду серьезно и враждебно.
— А что тут плохого?— спросила она, изумив Нину Сергеевну своим зрелым цинизмом. Это было тем более неожиданно, что в семье и не рассуждалось о таких вещах — плохо или хорошо,— и так было ясно, что плохо. Ну, пусть там маленькие нещепетильности с устройством на работу, но бесплатные кости! И Марина так просто говорит об этом! Нет, она явно еще слишком мала, чтобы позволять ей тон. А Марина продолжала невозмутимо:— Ты, по-моему, завидуешь Яне. Просто ты не умеешь. И книги у них хорошие.
Правильно, ворованный Гельдерлин. У Рохляковых процентов на шестьдесят книг с библиотечными штампами. При этом сентиментальный Рохляков любит порассуждать о хамстве, о том, как трудно цивилизованному человеку среди них. В этом году, в Болгарии, женщины из их тургруппы бросились за паласами, и Рохляков любит рассказать, как ему было неудобно перед болгарами. Он-то, еще бы, позарится на паласы! У него другие ценности: полное собрание Ремизова, перекупленное у какого-то барышника.
— Ты же знаешь, мама, что ты не права,— все тем же жутким тоном, но как бы примирительно сказала Марина
— А что, тетя Яна правда ворует кости своему Рексу?— заинтересованно спросила Лялька.
— Что за чушь!— возмутилась Нина Сергеевна.— Я же тебе тысячу раз говорила, не встревай в разговоры взрослых!
— Марина не взрослая,— без надежды сказала Лялька.
— Ты поела? Допивай чай — и марш из-за стола!
Марина хмыкнула в тарелку. Отец недоуменно курил, немножко грустя, что разговор перешел в такие раскаленные сферы. Ему хотелось пожаловаться на жизнь и на Саньку-сына, а не быть свидетелем чужих неурядиц, которых он к тому же не понимал. «Что тут такого?— вероятно, думал он про кости.— Ну, гусь, видать, бутылкой спирта не отделался, устроил кого-нибудь... Ну, гуси умеют жить!»
Бессмысленно было затевать серьезный разговор с Мариной — не время и не место. Она и так позволила дочери многое, позволила втянуть себя, но ведь она и не подозревала, что тут откроется!
Слава богу, Марина еще слишком глупа, чтобы отдавать отчет в словах и поступках. Она, конечно, вернется к этому разговору с дочерью, но не сегодня. И чтобы дать Марине почувствовать, что победный тон и победный вид со стаканом чая в руке — более серьезная шалость, чем дочь предполагает, и что Нина Сергеевна вовсе не забыла сердиться, а просто сейчас не время выяснять отношения, она проворчала дочери миролюбиво, но с выражением:
— Ты, Марина, чересчур что-то весела. Ты все-таки подумай кое о чем, ты понимаешь?
Марина дернула плечиком: мол еще бы, понимаю, что разговора не избежать. Мол, что ж поделать...
Лялька, протянув сколько возможно за столом, вынуждена была сказать всем «спокойной ночи» и укладываться спать. Теперь она маячила между ванной и комнатой, умышленно забывая то тапки, то полотенце, то ночную рубашку. Наконец надолго пропала в ванной. Когда вышла, то вид был распаренный и томный — стояла под душем, растягивая время. Печально прошествовала она через комнату, едва волоча ноги и моля деда взглядом: может, он разрешит ей еще побыть, и мать сжалится. Дед курил и не замечал этой сложной мольбы. Дед был простой человек, чуждый подтекстов.
— Ну марш в постель и, пожалуйста, не гипнотизируй деда взглядом.
Нина Сергеевна принялась убирать со стола. Отец как-то раскис после чая, вино из него вышло, и, видимо, захотел спать. Марина тоже зевала. Поскольку у нее сегодня не кино с подружками, не подготовительные курсы и не таинственный музыкальный лекторий (он-то был подозрителен Нине Сергеевне), то Марина стремилась пораньше завалиться спать — спать она мастерица, в Глеба. Стоило бы ее заставить вымыть посуду, но Марина вымоет как попало и рюмки насухо не протрет.
Может быть, дело в том, что Марина выросла белоручкой? Нина Сергеевна всегда была слишком занята, чтобы доверять дочери хозяйство. Быстрее сделать самой. Не хватало времени, все было в спешке и впопыхах: родить Марину, бегать сдавать хвосты по сопромату, перемежать чтение шпаргалок с кормлением. Но ведь бабка, мать отца, родила двенадцать детей, троих в поле. Как она успевала их растить? Четырех у нее забрала война, многие умерли в младенчестве, но ведь те, что остались, что росли как крапива и лебеда,— обыкновенные люди, не лучше и не хуже других... А Нина Сергеевна бежала всю жизнь, как на трудном подъеме. Не было времени на дочь, на работу, на мужа. Едва хватало на то, чтобы успеть в кино, успеть прочесть, и не хотелось ходить неряхой в затрапезной юбке: она была молода, и теперь еще... Только вот и узнала себя немолодой, когда случилось с Мариной.
ГЛАВА 12
Вчера Лерочка опять подслушивала. Нина Сергеевна звонила свекрови,— не о Марине, а так, домашние дела,— и опять щелчки на линии; просто физически ощущаешь чье-то дыхание, сладострастное любопытство, розовое ушко, прильнувшее, присосавшееся, как полип. Хоть провод телефонный обрезай. Пошла в их комнату, чтобы поймать Лерку с поличным, убедиться — куда там! Невозмутимая поза, безмятежное лицо, отраженное в зеркале — в зеркале над телефоном. Лерочка прихорашивалась, поводя круглой головкой, трогала пальцами кожу щек, поправляла серьги. Потом, спокойная и серьезная, сняла свой рабочий халатик, стала пуговку аккуратно пришивать. Подслушивала или нет?
Юдин как-то сказал: «Люблю таких дурочек и умниц. Женщина для науки, конечно, ноль, не обижайтесь, Нина Сергеевна, но ведь это так, за дверью лаборатории вы мчитесь по магазинам, работа для вас — прикладное. Но чего я не люблю, так это бабских претензий: такая курица мнит свое равноправие с нами, а думать способна, только когда ее носом ткнут. Да, да, и не делайте оскорбленных глаз, эмансипация определенно вас всех испортила. Поэтому я предпочитаю таких помпушек»,— сказал невнимательно и машинально, лаская взглядом толстенькие Лерины ножки.
Она поднималась впереди них по лестнице и слышать, конечно, не могла.
Нину Сергеевну покоробила тогда начальническая откровенность. «Как?— внутренне возмущалась она.— А Софья Ковалевская, а Кюри? Это мужское пренебрежение не выкорчуешь веками! А упрекать, что мы бегаем по магазинам,— подло, бессовестно. Юдину-то небось жена бегает...» Но искать в союзницах даже юдинскую жену было уже просто смешно. Покоробила простота, с которой Юдин оценивал Леркины прелести, не стесняясь своего заместителя — тоже женщины. Покоробил административный цинизм по отношению к ней и к Лерке (Нина Сергеевна — товарищ и друг, так сказать, с которым можно не церемониться в откровениях, а Лера — что-то вроде цветного телевизора и холодильника в его кабинете, вроде чайного сервиза и дорогих сигарет, скрашивающих административные будни). Кто знает, было или нет, но Лерочка держалась так, что ничего будто не было. Слушки ходили, но ведь бабы... Был, правда, некий намек, один-единственный случай: Нина Сергеевна вошла к нему в кабинет, нужны были срочно таблицы, думала, что в кабинете нет никого,— и опешила несколько: Лера отходила от стола вот такая же ясная и спокойная, как сейчас у телефона. А Юдин что-то замешкался, вскочил, потом снова сел, долго искал таблицы, хотя они ведь в среднем ящике, в папке... что-то чересчур извинялся. В коридоре ждала ее Лера.
— Ну что, нашел он таблицы?— сверлящее, настороженное во взгляде.
Нина Сергеевна смутилась, стараясь не подумать лишнего и краснея за Лерку.
— Я бы и сама взяла, я не знала, что он уже тут... А тебя он зачем вызывал?— спросила она, честно не глядя на Леру.
— Да так... С профсоюзниками опять не поладил,— безразлично улыбнулась Лерочка,— связалась на свою шею с этим профсоюзом.
Но что правда, то правда: едва пришла и уже стала незаменима — она и профгруппорг, и заказать столики для банкета, знает себе цену, никогда не унижаясь до грубой лести, а что касается работы — сообразительна и цепка, но аккуратна и не суетлива. Хваткая бабенка. И не дура отнюдь.
Как-то женщины обсуждали фильм: молодая жена изменила старому мужу — индийский вариант «Анны Карениной», с песнями, танцами и счастливой развязкой.
Женщины были тронуты до слез, некоторые посмотрели фильм дважды. Лаборанткам очень понравился любовник, толстый и страстный индийский юноша с маслянистым взглядом. Женщины постарше сочувствовали пожилому мужу. Но и любовник их симпатии привлекал — привлекали его чувства, драматические переживания.
— А что,— задумчиво сказала Белкина, мать двоих детей и бабушка четырех внуков,— я ее понимаю, нельзя было не ответить на такую любовь. Я бы тоже ответила, ведь такая любовь встречается только раз в жизни. А муж был слишком старый для нее,— вздохнув, рассудила она, вспоминая, видимо, и своего покойного мужа,— нет, я ее понимаю.
— Светлана Ивановна, а вы как думаете?— спросила Зина Приходченко.
Светка рассмеялась, тряхнула рыжими волосами.
— На мой вкус, он несколько толстоват,— призналась она,— сбросить бы ему килограммов семь, тогда бы другое дело.
Лерочка, ясная и спокойная, молчала, прибиралась на своем столе.
— Лера, а ты?— спросила Белкина.
Лерочка подняла спокойные синие глаза.
— Нет, девочки, я бы не смогла,— тихо сказала она,— я бы, наверно, презирала себя после,— и потупилась.
Такая же ясная, цельная. И опять Нина Сергеевна вспомнила эту сцену в кабинете: ясная, спокойная женщина. Только во взгляде — пытливая осторожность.
Неужели
она, Нина Сергеевна,— такая же?
Первая Маринина ложь обнаружилась рано. Ложь, серьезная для беспокойства, настораживающая, гибельная, потому что ребенок уходил куда-то вбок, недоступный зрению и присмотру, и начинал там жить сам по себе. И катастрофа, как это обычно бывает, началась с пустяка.
Вечером они собрались в ТЮЗ на «Кота в сапогах». О гастролях читали в газете за неделю, посулив Марину сводить в расчете на ее примерное поведение. Она отнеслась к обещанию серьезно и всю неделю на радость родителям лезла вон из кожи: в тетрадях появились пятерки, за столом «спасибо» и «пожалуйста» ласкали родительский слух, и даже уши перед школой были вымыты без нареканий. В день, когда купили билеты, в тетрадях красовались еще пятерки. В общем, дочь, собираясь на «Кота», могла вкусить плоды своего усердия и проникнуться, что всякое доброе дело награждается по заслугам судьбой (роль «судьбы» играли в данном случае родители, устроив для ребенка этот благородный спектакль).
До театра оставалось часа два, они ожидали Глеба с работы. Дочь вертелась перед зеркалом, не в силах от него отойти, трогала то ленты, то платье и так себе нравилась в своем наряде, как это бывает только с маленькими девочками. Оторвать ее от зеркала было невозможно, да и ни к чему, и Нина Сергеевна ушла на кухню покурить. Но сигарет на месте не нашла. Сигареты покупал обычно Глеб и прятал где-то в квартире, в мужских своих тайниках, говоря, что жена много курит, что это вредно и, вообще, без толку переводить добро. Тогда он был помешан на ее здоровье, а может, ему просто нравилось «запрещать» — Нина Сергеевна вполне ему в этом потакала. Игру с сигаретами затеял Глеб, втянув в нее и Марину. Дочь тоже прятала сигареты, если находила у матери. Не обнаружив сигарет, Нина Сергеевна решила, что это дело рук Марины, Глеб вроде не знал, где у нее заначка. Она пошла в комнату и спросила, брала ли дочь сигареты. Марина в своем забытьи у зеркала так и не очнулась, но ответила машинально, честным голосом и ясными глядя глазами: «Нет, мама, не брала». Нина Сергеевна поискала по второму разу, уже злясь на Глеба: неужели он взял? И что за дурацкая манера выматывать человеку нервы. Марине она поверила, дочь прежде не врала, то есть врала, конечно, но это сразу было видно по ней, как по любому ребенку. А тут Марина глядела ясными глазами и любовалась на себя в зеркало.
Но курить хотелось потому, что сигарет теперь не было. Их исчезновение создавало такую жгучую потребность в курении, так неодолимо нужно стало заполнить легкие дымом, что Нину Сергеевну затрясло: хоть затяжку, хоть бы чинарик какой-нибудь! Просто с ума сойти, как она захотела курить именно потому, что курить было нечего. И тут она вспомнила, что утром, Глеб уже ушел на работу, она курила именно из этой пачки и оставалось три сигареты. Поскольку Глеб с работы не приходил, сигареты не могли пропасть сами — значит, Марина ей только что солгала, и это возмутило Нину Сергеевну. (Или право на ложь она оставляла только за собой?) Она пошла и спросила, пожалуй, резко, куда Марина дела сигареты. Вот этой резкости нельзя было позволять! Ей казалось, она нормально спросила, но дети гораздо проницательней, чем мы думаем, и Марина, почувствовав в матери перемену, всерьез испугалась. Тут все накладывалось и все совпало: дочь пребывала в ожидании счастья и любой намек, что это счастье может рухнуть, для ее сознания был непосилен. Внезапная перемена заставила насторожиться и сжаться, тем более Марина знала, что ее накажут за ложь, а по голосу матери поняла, что шутка с сигаретами обернулась чем-то более грозным, что мать сердится. Может быть, это был и протест. Она взглянула теми же ясными, чистыми глазами: «Нет, мама, я не брала». — «Ну как же не брала?— теряя терпение, спросила мать. — Ведь их нет!» Взгляд дочери чуть-чуть метнулся, что-то затравленное будто померещилось в нем, но опять стал безмятежен, в силах выдержать глаза матери. «Не знаю,— неуверенно сказала Марина,— может быть, папа взял?» Это, с точки зрения матери, была уже потрясающая ложь и даже предательство («папа взял!»), Нина Сергеевна содрогнулась, и все педагогические уловки выскочили из головы. (Но Марина считала себя правой!— вот чего она не хотела да и не могла бы понять.) «Что ты говоришь, Марина,— растерянно спросила она, все еще не сводя с дочери взгляда,— ведь если ты обманываешь, то ведь я же правда подумаю на папу, разве это хорошо?» Теперь взгляд был явно затравленный, до смерти испуганный, хотя по-прежнему невинный. «Я не брала, я не знаю, кто взял!»— сказала Марина и всхлипнула.
Нина Сергеевна была в тупике. Если дочь лжет, то нужно ее наказать. Но разве может ребенок так бестрепетно лгать, тем более сваливать на отца? Как быть? Она лихорадочно думала, как поступить, и не знала. В полной сумятице крутились какие-то педагогические осколки, откуда-то вычитанные; и ее собственные истории, когда мать жестоко пресекала любую попытку лжи.
Но то была мать, а Нина Сергеевна не верила себе и не знала, верить ли Марине? Потому что не укладывалось, что ее ребенок, такой еще невинный и маленький, может трижды солгать не краснея. Но почему она не почувствовала, что случай-то был исключительный? И проклятый театр обещанный... Марина ведь знала, что ее накажут, и допустить не могла разрушения почти сбывшегося счастья — да ради этого она бы все муки вытерпела и грех на совесть взяла!
Нина Сергеевна верила и не верила и страх в глазах дочери не знала как толковать. Она вспомнила решительность своей матери и почти машинально пробормотала (этого нельзя было ни в коем случае делать!): «Марина, подумай как следует, ведь если ты лжешь, театр придется отложить». Зачем она это сказала? Взгляд дочери помертвел, а в матери возникло, разорвалось ощущение чего-то непоправимого.
Пришел Глеб, Нина Сергеевна сконфуженно отозвала его на кухню. Он слушал по привычке вполуха и понял совсем не то, что она, волнуясь и мучаясь, ему шептала.
— Кто виноват, что ты куришь?— сказал он раздраженно и так громко, что Марина могла услышать.— И не мучай ребенка, правильно, что спрятала.
— Ах, да тише ты, что ты орешь!— замахала Нина Сергеевна. Когда он понял, то вышел из себя.
— Значит, никуда она не пойдет!— и опять так громко, что Марина услышала.— Конечно, она, не я же, только этого мне еще не хватало. И главное — «папа взял»! Это все ты, а потом жалуешься!
Только не хватало еще поругаться. Ах, может быть, не надо было говорить Глебу? Его крик дела не менял, только ожесточил дочь, которая накалена была уже матерью. Отец припер ее к стенке и потребовал честного слова, а поскольку Марининому страху катиться дальше было некуда, она это честное слово дала. Но они с Глебом были так тупы в своей прямолинейности, что опять ничего не поняли; честное слово для обоих было равнозначно клятве, оба считали себя честными людьми. Для них пределом падения казалось дать честное слово и не сдержать его, а тем более дать заведомо ложную клятву. Но они не учли, что подобную клятву так же, как призывы к человеческой совести, нельзя эксплуатировать по пустякам, нельзя разрежать, дробить и мельчить нравственное чувство, потому что сначала стирается смысл клятвы, а затем выхолащивается и разрушается само нравственное чувство. (О, господи! С каких это пор они оба стали такими «нравственными», что могли подозревать в «безнравственности» даже собственного ребенка?)
Вынудив Марину дать честное слово, они с Глебом совершили преступление дважды: толкнув ребенка на непосильную для него ложь и разрушив представление о клятве, потому что клятва давалась по ничтожному поводу и сигареты прятал сам отец (и она считала отца правым). Представление о честном слове было мгновенно дискредитировано в детской душе, хотя ребенок и не сознавал. Но раз заставляют клясться на сигаретах — значит, цена клятвы не так уж и велика. Вот тут — и надо было им оглянуться на то, что они натворили, что-то поправить, как-то объяснить, а добившись правды, не водить Марину в театр. Они же вдруг, неведомо почему, успокоились: раз дочь дала честное слово — значит, она не лжет. Хотя с чего бы дочь плакала, раз права, чего бы она плакала? Если бы не солгала, она бы дала свое честное слово легко, в душевной ясности, а не плакала бы, не тряслась от отчаяния — нет, из этих ясных глаз не катились бы слезы и не выкрикивала бы она нелепо, закрываясь ладонями: «Не я брала, я не знаю, кто брал! Зачем вы меня мучаете!..» А для них вымученное, вырванное — не слово даже, а звук его — было очевидней реальности.
Сигареты потом нашлись за кухонным столом, и Марина призналась. Но что-то было непоправимо надорвано, и сгублена та невидимая связь, благодаря которой родители читают в детской душе. Марина не раз бывала наказана потом за вранье! И никогда уже не было потом твердой уверенности: правы они или нет. Боясь той бессовестной лжи, урок которой преподала им Марина, они были гораздо жестче, чем надо, и подозрительней, но и в подозрительности их не было надежной опоры, они гибли, как в хлябях, не в силах ни за что зацепиться, потому что с годами Марина выучилась очень искусно лгать. Разве могла бы когда-нибудь она подумать, что придется шпионить за собственной дочерью? И все жила надежда, глупая мечта, что Марина говорит правду, и даже когда Нина Сергеевна сталкивалась лоб в лоб с очевидностью, когда подтверждались факты, собирались улики и сходились все концы — Марина опять лгала, и ее невинные глаза убеждали больше, чем факты.
В прошлом году, когда Марина уже работала, Нине Сергеевне довелось еще раз с новой силой пережить тот ужас непонимания, когда тебе лгут в глаза и ты бессилен не верить. Марина поздно пришла с работы. На ее вопрос ответила, что задержалась на службе, дежурство. Нина Сергеевна поверила бы, но что-то (или Марина была оживлена, или глаза так блестели?) толкнуло бессознательно, и уж конечно не думая, а в шутку, наклониться к дочери: «А ну-ка, дыхни». Марина, нагло глядя в глаза, дыхнула, от нее пахло вином.
— Может, ты пиво пила?— заколебалась Нина Сергеевна.
Дочь искренне и весело рассмеялась:
— Какая глупость, мама! С тобой что-то неладное творится, я серьезно. Ну позвони завтра Сизых, сама убедишься.
Тут в кухню вошла Лялька, разговор со старшей пришлось отложить. Дети пили чай, Нина Сергеевна что-то подавала, убирала, подкладывала, машинально включалась в разговор, а из головы не шла эта невообразимая чушь.
«Но не могло же мне показаться,— затравленно думала Нина Сергеевна,— или я с ума схожу?..» Ах, и, как назло, Глеба не было, его сроду не было, когда он нужен. Вдвоем бы они не могли сойти с ума, и Глеб бы понял, пила дочь вино или нет. Но Глеб где-то задержался, тоже найдет потом причину, но его-то ложь давно Нину Сергеевну не занимала. Она все же надеялась поговорить с Мариной и добиться правды, дожидаясь, когда Лялька уйдет в свою комнату. Но Марина под предлогом, что ей нужно заниматься, ушла с Лялькой сама. Когда Нина Сергеевна убрала со стола и заглянула к ним, Марина решала какие-то тождества, а Лялька обезьянничала, списывая в свою тетрадку и не понимая, конечно, ничего. Через полчаса обе потребовали чая с малиной (обе немножко кашляли), она заварила два стакана и понесла и на пороге задохнулась: в комнате разило вином! И это был не пивной запах, а что-то покрепче, раз Марина проспиртовала даже комнату. Померещиться тут ничего уже не могло, и Нина Сергеевна даже обрадовалась, что разговор состоится. Лялька легла спать, потушили свет, а Марине надо было еще накрутить термобигуди, и она вернулась в кухню.
— Ну, так где ты пила?— спросила Нина Сергеевна добродушно, потому что чувства ее несколько улеглись, когда она убедилась, что Марина лжет. Она решила, что лаской возьмешь больше, чем строгостью, и дочь сознается хотя бы.— С ребятами, что ли, собирались, в кафе ходили?
Марина высокомерно вскинула брови:
— Неостроумно, мама, и сколько можно? — Тон был спокойный, ровный и немножко презрительный. — У тебя уже нездоровая мнительность, сходи к врачу.
Нина Сергеевна так и застыла с раскрытым ртом, а дочь спокойно опускала бигуди в кипящую воду, одну за другой, будто речь только что шла о несущественной мелочи.
— Но как же так? — взорвалась она не сдерживаясь.— Ведь в квартире же пахнет, как тебе не совестно-то?!
— Я тебе сказала,— упрямо ответила дочь,— позвони завтра на работу или сходи к врачу, у тебя галлюцинации.
— Но ведь ты лжешь, лжешь!!!
Нет, это было уже слишком! Нина Сергеевна схватила ее за плечи, повернула к себе:
— Ведь ты лжешь, как ты можешь так спокойно?!— Она кричала, выходила из себя, трясла ее за плечи, и прямо, не мигая, глядели дочерины пустые холодные глаза, в которых не было ни ненависти, ни жалости, ни сочувствия, ни даже злорадства. Одно холодное упрямство, замкнутость, стена, о которую лоб расшибить, но не пробить, не пробиться. Ни одного человеческого ответного движения, хотя бы безобразного или негодующего.
Нина Сергеевна больше не могла. Она сдалась, расплакалась, затряслась. Где она виновата, где она проглядела, что дочь так страшно ей лжет. О нет, неразделенная любовь, ревность и страсти — ничто по сравнению с непониманием родного существа, тобою рожденного. Так мы и умрем, не понятые своими детьми, не понимая их.
Дочерины руки обняли ее, но без тепла, неловко, голос старался быть сочувственным:
— Ну, не надо, мама, ну что ты. Ну перестань, перестань, ну в самом деле... Вот и сердце, опять будет плохо... — но глаз она не поднимала.
Нина Сергеевна самозабвенно рыдала у нее на плече, принимая этот холод за любовь, это тоскливое неудобство за нежность. Так все закончилось, и дочь ее ласкала, впрочем, не долго, потому что нужно еще кудри завить, да и спать пора, уже поздно. И эта рассудительность опять резанула по живому.
Марина уже спала, а она не могла, не могла. Может, и правда она сходит с ума, может, действительно к врачу надо? Так, наверно, и сходят: начинает мерещиться. Неужели могло ей померещиться, что от Марины пахнет вином? Но ведь разило! Она перебрала все в памяти: как Марина дыхнула, и в комнате этот запах спиртной. Но теперь казалось, что это было когда-то давно, а может, не было. Ничего не было, только дочь обнимала ее и ласковые слова говорила.
Пришел Глеб и лег с нею рядом, а она ворочалась, молчала. Он злился. Потом шептала свой сумасшедший бред, он не понимал и тоже злился.
— Чушь,— сказал он, зевая,— пьяна, конечно. Позвони завтра на работу, да не забудь, я знаю тебя. И не вздумай всю эту дребедень накручивать, что разобьешь ее сердце, тут ты действительно неврастеничка и дура.
— М-да-а... — говорил он позже в большом сомнении,— может, тебе показалось?
На другой день Нина Сергеевна все же позвонила Марине на работу, ужасно стесняясь: теперь она думала, что все ей показалось. И сейчас она рассердилась на себя, а заодно и на Глеба, и решительно набрала номер Марининого начальства. Заранее не представляя, что и в какой форме спросит она про дочь. Кроме того, вспомнились вчерашние Маринины советы обратиться к врачу. А что, если она и вправду спятила? Телефон был исправен, и кто-то на другом конце провода снял трубку. Она была очень раздергана и плохо соображала, что спрашивала. Но ее льстивый униженный вопрос сразу поняли и, рассмеявшись, сказали: нет, никаких дежурств не было, дочь, должно быть, немножко вас обманула.
Что испытала Нина Сергеевна? Не бешенство, не бурю негодования, не взрыв — нет! Лишь тоскливое недоумение и какую-то равнодушную усталость. Это было хуже, чем если бы она сошла с ума. Дочь лгала, и ее мир был плотно закрыт, ни щели, ни отдушины. Что-то нечеловеческое было в этой лжи, в этих реакциях. И самое страшное, что Нина Сергеевна не была поражена, но просто подумала, что ей противно, что ей не хочется начинать все снова, выяснять. Не хочется, будто ей безразлично и это не ее дочь.
А вечером, когда она спросила, Марина так же легко и цинично рассмеялась:
— Да Сизых сам не знает, меня Элла Васильевна просила остаться.
— Так я же с Эллой Васильевной и говорила.
Марина опять что-то несусветное врала, столь же невозмутимо. И опять были слезы, истерика, крик, призывы к совести, вой и визг. И Лялька из комнаты слышала, маленькая... Нина Сергеевна поняла, что не в силах бороться. Она просто оставила Марину в покое и сидела в кухне, тупо глядя в окно. И к ней пришла Марина. Просилась в кино, чтоб мать ее отпустила. Не льстивым, не униженным, а сердечным человеческим голосом просила денег, пятьдесят копеек или сорок. «Такой фильм, ну сама сходи, если не веришь,— говорила Марина, ну пожалуйста...»
— Нет, Марина,— устало отмахнулась Нина Сергеевна, даже не пораженная ее наглостью,— сделай милость, оставь меня в покое.
Марина что-то лепетала неожиданно детским и ласковым голоском.
— Я с тобой не разговариваю,— ответила мать,— и не слышу.
Но Марина не отставала, и тогда мать спросила:
— Хорошо, но ты ответь, лгала ты мне сейчас или нет?
Дочь потупилась скромно, с достоинством:
— Да, лгала.
Значит, все-таки лгала! Хотя бы это!
И последующий разговор в ванной, таясь от Ляльки, когда дочь и мать плакали, и обе целовали друг друга, прощали, понимали, жалели. Нина Сергеевна, конечно, расчувствовалась и отпустила дочь в кино.
Марина! Где она теперь, господи?
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





