ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


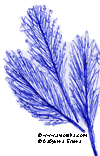
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Уварова Людмила
Чем ближе Эрна Генриховна узнавала Громова, тем все больше он ей нравился. Особенно привлекала его спокойная доброта, которую он старался оттенить ненавязчивой иронией. В то же время не было в нем ни бахвальства, ни душевной грубости, ни ложной многозначительности.
Эрна Генриховна обладала свойством мгновенно, чуть ли не с первой минуты уловить неискренность и притворство.
Однако в Громове, как она ни пыталась вглядеться и, что называется, вдуматься в него, не было ни малейшей фальши.
И все-таки она не желала успокаиваться.
«Не может быть, что это все у него искренне,— думала она.— Неужели он не мог выбрать кого-то красивее, интереснее, зажигательней, чем я? Наконец, просто моложе?»
Он приходил к ней два раза в неделю (чаще ни у него, ни у нее не получалось — оба были очень заняты у себя на работе) и никогда не садился ни на минуту, пока не сделает всего того, что казалось ему необходимым сделать. Он был мастер на все руки, приходя, начинал чинить испорченный радиоприемник, или перевешивать бра, или прибивать отклеившиеся квадратики паркета, или просто подметать пол, хотя она каждый раз пыталась вырвать щетку из его рук.
Однажды не успел он прийти, как Эрна Генриховна сразу же пожаловалась: во всей квартире неожиданно испортились телевизоры — ни на одном нет изображения.
Он мигом сообразил — все дело в коллективной антенне, что на крыше, не поленился и не постеснялся соседей, полез на крышу, увидел, антенна и в самом деле лежит на боку. Выправил ее, поставил на место.
— Мне, право же, немного совестно,— призналась однажды Эрна Генриховна. —Ты и так устаешь за целый день, приходишь ко мне отдохнуть, а тут я на тебя нагружаю тысячу дел...
Он только улыбался в ответ и потирал ладонью голову.
Он никогда не ныл, не жаловался, не старался вызвать к себе сочувствия и так же не признавал всякого рода любовных объяснений. Эрна как-то сказала ему:
— Я тоже человек в достаточной мере сдержанный, но не до такой степени, как ты!
Он спросил:
— Чем же моя сдержанность
отличается от твоей?
Она промолчала.
Как-то неловко было признаться, что она
так и не знает, как же он относится к
ней: любит ли ее, или все это просто от
нечего делать...
Впрочем, с другой стороны, ей казалось, что он не может, даже не умеет относиться легко, несерьезно и ходить просто от нечего делать...
Однажды — было это в воскресенье утром, когда он не работал, а она только отдежурила в больнице,— он явился к ней, сказал:
— Поедем со мной в одно место...
— Какое такое место? — спросила Эрна Генриховна.
— Потом узнаешь.
Вдруг перебил себя, спросил торопливо:
— А ты еще не успела поспать после дежурства?
Она ответила:
— Почему же? Успела, но...
Он повторил:
— «Но», что значит «но»?
— Еще бы минуток двести...
— За чем же дело стало?
Она нахмурилась:
— Надо же было белье намочить!
— Когда ты намочила?
— Вчера утром. А сегодня надо непременно выстирать, как тебе известно, ванна у нас не отдельная, а коммунальная...
— Известно,— сказал он.— Вот что, ложись-ка поспи. Авось после придумаем что-нибудь...
Скажи кто-либо Эрне Генриховне, что она будет не только слушаться какого-то постороннего мужчину, но и с радостью подчиняться ему, она бы ни за что не поверила. Но сейчас, мысленно дивясь собственной покорности, сказала:
— Ладно...
Правда, сильно хотелось спать, как нарочно, ночь выдалась трудная, вплоть до самого рассвета все время привозили больных.
Она проснулась разом, в один миг, будто кто толкнул ее. Ясный день смотрел в окно, тихо сыпал снег с неба, время от времени над крышей соседнего дома пролетали птицы, голуби, что ли, а может быть, вороны...
Эрна Генриховна потянулась, сладко, со всхлипом, зевнула. До чего хорошо себя чувствуешь, когда выспишься, кажется, добрый десяток лет с плеч долой...
— Ну и здорова же ты спать,— сказал Громов.
Она приподнялась на диване. Он сидел за столом, откинувшись на спинку стула, барабанил пальцами по своей коленке. А на столе, у нее расширились глаза, на столе стоят чашки, молочник, чайник, накрытый стеганой «бабой», на проволочной подставке, в сковородке скворчит яичница, на блюдечке нарезаны ломтиками помидоры, соленый огурец, зеленый лук. В плетеной вьетнамской хлебнице хрустящие хлебцы, рядом вазочка с медом.
— Изволите вставать, мадам, или подать вам завтрак в постель? — спросил Громов.
— Еще чего!
Эрна
Генриховна проворно вскочила с
дивана, сдернула с гвоздя полотенце,
отправилась в ванную ополоснуть лицо
и руки.
Но почти тут же вернулась. Спросила:
— Что это значит?
— Что значит?
— Ты что, выстирал белье?
— А что в этом такого особенного? — отпарировал он.— Я и на рынок успел сбегать, и в булочную, как видишь.
— Вижу,— сказала Эрна Генриховна, усаживаясь за стол и разламывая пополам хрустящий хлебец.
— Тебе чаю налить? — спросил Громов.
— И себе тоже,— сказала она.— Кстати, как мои соседи? Должно быть, изрядно потешались над тобой?
— Пусть их,— ответил Громов.— Если их это хотя бы в какой-то степени веселит, пусть радуются...
«Почему ты такой? — думала Эрна Генриховна, глядя на Громова.— Почему вдруг случился в моей жизни? Добрый, неназойливый, невздорный, даже по-своему красивый, во всяком случае, красивее меня, это уж наверняка».
— А теперь,— сказал он,— поехали в одно место.
— Куда хочешь,— сказала Эрна Генриховна, снова поражаясь собственной покорности.
Они вышли в коридор, и тут же им повстречалась Ирина Петровна. Вежливо пожелала Эрне Генриховне доброго утра, потом сказала, понизив голос:
— По-моему, он у вас настоящее сокровище!
— Неужели? — суховато спросила Эрна Генриховна.
— Еще бы! Чтобы мужчина умел так стирать, так выжимать белье, это просто чудо! Вы не находите?
— Нахожу,— невозмутимо отозвалась Эрна Генриховна.
Громов открыл дверцу своих «Жигулей».
— Прошу вперед, на привычное место.
Эрна Генриховна села, накинула на себя ремень.
— Куда едем?
— Много будешь знать, скоро состаришься.
— Я и так уже достаточно старая,— сказала она.
— Ну не до такой степени.
Они перебрасывались короткими шуточками, а машина между тем набирала скорость, ехала все дальше, в Замоскворечье, потом остановилась в одном из тихих, заросших деревьями переулков.
Оба вылезли из машины, он взял Эрну Генриховну под руку.
— Гляди,— сказал.
Круглый скверик, тополя, запорошенные снегом, низенькая железная ограда.
— Можешь себе представить, тут был наш дом...
— Вот здесь, на этом самом месте? — спросила она.
— На этом самом месте.
...Да, здесь был дом, в котором он родился и прожил долгие годы.
Сколько миллиардов шагов исходил он по этому тенистому замоскворецкому переулку? Не сосчитать.
У них была просторная угловая комната, два окна, из окон виднелся старый купеческий сад. По весне залетали в окна радостно гудевшие шмели и пчелы, а в июле белый тополиный пух так и вился под потолком, оседая нежными пушистыми островками на полу, на стульях, на подоконнике, на столе...
Да сих пор звучит иногда в ушах мамин голос: «Илюша, домой, обедать...»
А он во дворе, гоняет с ребятами мяч и ухом не ведет.
«Илюша,— взывает мама.— Где же ты?»
Он не любил ходить с мамой. Боялся, что подумают о нем: девчонка, мамсик, маменькин сыночек. Чуть ли не со слезами просил ее: «Не ходи рядом...» Лишь позднее, когда не стало мамы, вдруг осознал, как много она значила для него, как пусто и холодно стало без нее дома.
В сорок первом в начале июля он стоял вместе с отцом на улице, провожал взглядом ополченцев, шагавших мимо с автоматами за плечами.
Они все шли да шли, пожилые, молодые, даже и вовсе, как ему казалось, старые, уходили на войну.
Война. Неужели война? А ведь совсем недавно, на прошлой неделе, был выпускной вечер в школе, и он, Илюша Громов, окончивший десятилетку, танцевал с Марьяной Колесовой, и Марьяна, чуть кривя красиво очерченные свежие губы, говорила:
— А ты неплохо танцуешь, вот уж никак не ожидала...
— Почему это ты не ожидала? — спрашивал Илюша.— Ты вообще, я считаю, меня недооцениваешь...
— Кто? Я?— удивлялась Марьяна.— Ну, знаешь, дорогой мой...
Она не пыталась скрыть от него, что он ей нравится. А он был влюблен в нее выше головы.
И кто знает, как бы оно все пошло, если бы не война...
Странное дело! Должно быть, справедливо говорят, что нельзя встречаться спустя годы с прошлой любовью.
Он на самом деле ощутил справедливость этих слов: минуло много лет, он уже был женат, как-то спешил к себе на завод, и она встретилась ему. Она, Марьяна.
Первая остановила его, а он ее не узнал. Смотрел удивленно на дебелую, хорошо откормленную тетку с розовым щекастым лицом.
Потом узнал наконец, мысленно поразился, сказал:
— Сколько лет, сколько зим и весен...
А она вдруг вся поникла, загрустила, щуря некогда яркие, а теперь потускневшие, как бы вылинявшие глаза.
— Ты же меня не узнал, не спорь, не уговаривай...
Он молчал, чего же тут говорить? Разве сравнить Марьяну теперешнюю с той хрупкой насмешливой светлоглазой девочкой?
Так и расстался с ней на шумном уличном перекрестке, ни о чем толком не узнав, не поговорив как следует.
Она спросила напоследок:
— Танцевать еще не разучился?
Он махнул рукой:
— Какие там танцы...
В самом деле, до танцев ли ему было тогда!
...В августе сорок первого отец уехал в Сибирь с филиалом завода; просился на фронт — не взяли, он был нужен на производстве. Илью тоже не взяли, сказали: придет очередь — возьмем, и, чтобы не терять времени, он поступил работать на отцовский завод учеником слесаря.
Мастер Сергей Ларионыч, давний приятель отца, уверял Илью:
— Погоди еще, твой век долгий — навоюешься. А здесь войны не меньше, чем там.
Сергей Ларионыч тоже был замоскворецкий, жил с раннего детства на Житной, примерно с того же самого времени знал отца Ильи. Только, как говорил Сергей Ларионыч, жизнь у них начиная с семнадцати лет катилась по разным рельсам: он остался на заводе, стал мастером, а отец поступил на рабфак, оттуда в институт и, окончив его, вернулся на свой завод.
— Тогда мы вновь подружились, хотя стояли не на равных, — говорил Илье старый мастер. — Твой отец стал начальником производства, а я, как видишь, выше мастера не поднялся.
Он многому научил Илью за те недолгие месяцы, что Илья проработал на заводе, перед тем как уйти на фронт. Первым делом — включать станок мягко, не рывком, как это нередко делали многие новички.
— Имей в виду, — поучал Сергей Ларионыч, — станок, он тоже все как есть понимает. И за добро всегда добром же ответит. Будешь с ним по-хорошему, будешь щадить его, содержать в чистоте и в порядке рабочее место, не запускть, а вовремя ремонтировать, прислушиваться к его ходу вот так же, скажем, как доктор к сердцу человеческому прислушивается, смазывать да чистить его почаще, глядишь, он у тебя подольше прослужит, а будешь спустя рукава относиться, словно мачеха к немилой падчерице, он у тебя в самый неожиданный момент откажет. И захочешь, не сумеешь повернуь по-своему...
Сам Сергей Ларионыч относился к станкам в цехе словно к живым, одухотворенным существам. Некоторые ученики подсмеивались над ним, кое-кто даже считал, что мастер малость не в себе.
Когда Илья уходил на фронт, он проводил его до военкомата, долго стоял на улице, ожидая, пока выйдут будущие фронтовики, отправятся на вокзал.
Илья шагал в длинной колонне своих ровесников от Калужской площади до Комсомольской площади.
То и дело оборачивался и тогда позади, где-то в толпе различал в толпе лицо старого мастера.
Сергей Ларионыч в конце концов отстал возле Смоленской.
Сперва Илья попал на Калининский фронт, потом под Ленинград.
Ему повезло: ни разу не ранило, даже легкая контузия миновала его. Он так и писал отцу в Сибирь: «Я у тебя неуязвимый, для пуль и мин непробиваемый...»
Отец писал ему пространные письма на фронт, писал, что гордится им, что надеется после победы снова увидеться, что он вкалывает с утра до ночи, а иногда даже ночью приходится вкалывать — выполнять заказы фронта.
Только о том, что женился, отец не написал. Решил — сообщит позднее. О таком событии сообщить никогда не поздно.
Илья вернулся домой почти сразу после победы. Он уже знал о женитьбе отца, о том, что его мачеха коренная сибирячка и что отец решил осесть там, как он писал, до самого своего конца, на остатние годы.
«Что ж,— решил Илья.— Пусть лучше так. А то бы мы жили все вместе, втроем, вдруг не ужились бы?»
Он поступил учиться в станкоинструментальный институт на вечернее отделение, днем работал в том же самом цехе, где до войны работал отец.
Во дворе завода напротив заводоуправления находился четырехэтажный дом с одинаковыми занавесками на окнах — голубого ситчика в белую полоску. Это был профилакторий, здесь многие рабочие отдыхали после работы, одним была прописана врачами физиотерапия, другие — холостяки — нуждались в регулярном питании.
Илья как-то решил для интереса побывать в профилактории.
Была поздняя осень, что ни день — дождь со снегом, слякоть, холодная изморозь.
Не захотелось идти домой, может быть, и вправду переночевать в профилактории, в тепле, благо и ходить-то далеко не надо?..
В первый же вечер он познакомился с докторшей Адой Львовной. Маленькая, подвижная, быстрая. Черные влажные глаза, темные волосы, курносый нос. Смешная? В общем, да, но в то же время чем-то привлекательная, может быть, черными глазами, как бы омытыми дождем, белозубой улыбкой, даже курносым носом. Смотрела на него снизу вверх — он же был чуть ли не в полтора раза выше ее ростом, командовала:
— Хватит читать! Примите ванну с сосновым экстрактом, и спать до утра.
— Слушаюсь,— отвечал он.
Было
забавно покоряться этой малявочке,
слушать ее повелительно звучавший
голос, глядеть в строгие влажные глаза.
Профилакторий их завода был одним из лучших во всем районе, даже завоевал переходящее знамя в соцсоревновании. И потому в заводском клубе был устроен вечер, и в президиуме сидели врачи и сестры профилактория, Ада Львовна делала доклад.
Сильным, хорошо поставленным голосом она перечисляла передовые методы лечения, применявшиеся для поддержания и восстановления здоровья производственников.
Так и говорила:
— Для поддержания и восстановления здоровья производственников мы применяем ванны с сосновым экстрактом, физиотерапевтические методы, облучение кварцем и УВЧ.
Ей долго охотно аплодировали, рабочие любили строгую свою докторшу, хотя иные и подшучивали над ее ростом, начальственным, не терпящим возражения тоном, неприступным выражением лица. Кое-кто пробовал за ней поухаживать — куда там, неумолимо обрывала при первой же попытке.
Тезка Ильи, прозванный за огромный рост и могучую стать Ильей Муромцем, не на шутку влюбился в нее. Несмотря на несокрушимое свое здоровье, терпеливо просиживал никак не меньше часа в ванне с сосновым экстрактом и по очереди принимал физиотерапевтические процедуры, начиная от гальванического воротника, кончая кварцевым облучением.
Пышущее здоровьем краснощекое лицо его стало смуглым от кварца, глаза на загорелом лице казались небесно-голубыми.
— Как, лучше себя чувствуете? — спрашивала Ада Львовна.
— Лучше,— вздыхая, отвечал Илья Муромец и протягивал руку Аде Львовне.— Разрешите в знак благодарности пожать вашу руку, доктор...
Маленькая энергичная ладонь Ады Львовны тонула в его мощной лапе, он осторожно сжимал хрупкие пальчики.
Однажды поделился с Ильей Громовым:
— Я на ней хоть бы сразу женился, прямо сию же минуту...
— А она к тебе как? — спросил Громов и вдруг поймал себя на том, что с некоторой, удивившей его самого боязливостью ожидает ответ Ильи Муромца.
— Да никак, — с горечью ответил Муромец, и Громов ощутил внезапно такой прилив радости, что еле сдержался, чтобы не запеть во все горло.
В тот же вечер после работы он отправился в профилакторий, хотя, по правде говоря, надо было посидеть в библиотеке за книгами, приближалась зачетная сессия, одна из последних, к весне он должен был закончить институт.
Ады Львовны, как на зло, не оказалось на месте. Он обошел весь дом, побывал в процедурной, в зале отдыха, заглянул во врачебные кабинеты, ее не было видно.
Спросил Илью Муромца, который, конечно, тоже являлся в профилакторий после смены:
— Что это нашей докторши не видать?
— Уехала,— ответил Илья Муромец.
— Куда уехала?
— Да у нее два дня отгула.
Спустя два дня Громов встретил Аду Львовну на заводском дворе.
— Мы тут соскучились без вас,— сказал, подойдя ближе.
— Вот как? — холодно спросила Ада Львовна. Помедлила немного, потом сказала: — Если хотите, проводите меня сегодня домой.
«Если хочу!» — чуть было не воскликнул он, но внешне сдержанно спросил:
— В котором, прикажете, часу?
— Что-нибудь в девять.
В половине девятого он уже стоял возле подъезда профилактория, ожидая ее. Она возникла внезапно, вдруг очутилась рядом с ним, с независимым видом взяла его под руку.
Уже крепко лег снег на землю, приближался конец декабря.
Громов старался идти вровень с Адой Львовной, а это было нелегко, он привык шагать широко, размашисто, ее маленькие ножки едва поспевали за ним.
Она жила далеко от завода, в Сокольниках, по дороге рассказывала ему, что вместе с нею проживает ее крестная — древняя старуха, ворчливая и брюзгливая, впрочем, добрая душой...
— Потому я на нее и не обижаюсь,— сказала Ада Львовна.— Ведь она — единственный близкий мне человек на всем свете.
Дом, в котором жила Ада Львовна, был, в сущности, не дом, а ветхая от времени дача, вся в резных башенках, с наличниками над окнами, с цветными стеклами, выложенными над верандой, обнесенная полуразвалившимся забором.
Единственное удобство — очень близко от метро, минут пять — семь, не больше.
Громов поднялся вслед за Адой Львовной на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице. И вдруг попал в тепло, в сияние света; трещали дрова в печке, зеленый плющ затейливо вился вдоль стены, свисая до пола, в клетке у окна распевала канарейка.
— Кока, вы где? — позвала Ада Львовна.
Откуда-то издалека донесся хриплый недовольный голос:
— Здесь я, куда денусь...
— Они отдыхают,— негромко произнесла Ада Львовна, подмигивая Громову.— В своей резиденции.
Позднее он узнал, что резиденция крестной — маленькая, метров пять, каморка, где могла поместиться лишь одна ее широкая металлическая, с шарами кровать.
— Одну минуточку,— сказала Ада Львовна,— я сейчас.
Он сел за стол, оглядываясь. Стены увешаны фотографиями, старинный диван красного дерева, зеркало в прекрасной резной палисандровой раме. Тихо, уютно, кажется, за окном не Москва, а глухая глухомань...
— Сейчас будем чай пить,— объявила Ада Львовна, снова войдя в комнату.— Подождите еще совсем немного.
— Готов ждать,— сказал Громов, глядя на нее.
Она переоделась, вместо привычного делового синего костюма с белой или кремового цвета блузкой — легкое домашнее платье, короткие рукава открывают нежные, тонкие руки, темные волосы не стянуты в пучок на затылке, а свободно рассыпаны по плечам.
Громов смотрел на нее во все глаза.
Она усмехнулась:
— Можно подумать, что вы меня раньше никогда не видели.
И Громов вдруг смутился, словно мальчишка, которого неожиданно застукал учитель в тот самый момент, когда он закурил сигарету.
В тот вечер она ничего не рассказала ему о себе. И он ушел, так и не узнав, что она за человек, и как, в конце концов, относится к нему, серьезно или флиртует от нечего делать...
Все это ему довелось узнать позднее, когда они поженились.
Она долго не соглашалась стать его женой.
— Мы с тобой ровесники, а это очень плохо, потому что женщины раньше стареют. Ты еще будешь молодой, а я уже старуха старухой...
Это было явное кокетство, потому что никто не дал бы ей ее тридцати двух.
Маленький рост, миниатюрное хрупкое сложение на диво молодили ее, и она понимала, что ей еще суждено в течение долгих лет оставаться молодой.
Как-то Громов шел с Адой по улице, им встретилась красивая, полная, золотоволосая женщина. Улыбаясь, стала махать рукой еще издали, потом, приблизившись, кинулась целовать Аду Львовну.
— Адочка, дорогая, как я рада видеть тебя, если бы ты знала!
Розовые пухлые губы ее впились в щеку Ады Львовны, в то же время она успела пытливо, хотя и бегло оглядеть Громова с головы до ног.
Они постояли на улице, золотоволосая толстушка щебетала об успехах дочки, поступившей в университет, о муже, который отправился куда-то за рубеж в командировку. Не преминула рассказать о себе, о том, что защитила кандидатскую и теперь собирается опубликовать целый ряд статей в научных журналах.
На прощанье она вновь осыпала Аду Львовну поцелуями, ласково кивнула Громову.
— Это знаешь кто? — спросила Ада Львовна.— Жена моего троюродного брата. А хороша, не правда ли?
— Не в моем вкусе,—сказал Громов.— Чересчур грузна и массивна.
Ада Львовна не была бы женщиной, если эти слова не польстили бы ей, тем более что, в отличие от жены своего родственника, она была миниатюрна и хрупка на вид. Но чувство справедливости привычно взыграло в ней.
— Что ты,— сказала,— она же красивая, какое лицо, ты обратил внимание?
Громов рассеянно кивнул. Именно в этот самый момент они собирались перейти мостовую, и его больше интересовал цвет светофора, чем даже самое красивое лицо самой красивой на свете женщины.
— Дидя очень милая, ласковая,— продолжала Ада Львовна, когда они уже перешли мостовую.— Характер такой, что хоть мажь ее на хлеб.
— Дидя? — переспросил Громов.— Что это за имя?
— Елизавета. Ее все так звали с самого детства, и до сих пор осталось — Дидя. У нее и муж такой же — ласковый, добрый, нежный... с теми, кто ему необходим.
— Однако,— заметил Громов.— Однако ты даешь!
— А что? — спросила Ада Львовна.
— Вернее, не даешь им спуска, видно, что здорово их обоих не любишь, ни эту самую Дидю, ни ее мужа, хоть он тебе и брат.
— Нет, я бы этого не сказала,— возразила Ада Львовна.— Не люблю? Это звучит, пожалуй, чересчур сильно. Напротив, я смотрю на нее и на него с интересом.
— Чем же они тебе интересны?
— Как человеческие особи. Я вспоминаю, как на различных торжествах и празднествах они поддерживают друг друга. Он начинает витиеватый тост, она тут же вступает: «Аллаверды к твоим словам», и дополняет каким-то своим, еще более ласковым и многослойным. Или она чествует кого-то, он продолжает: «Аллаверды», и, что называется, дает на всю железку. Причем это в отношении нужных им людей. Тех же, кто им уже не нужен, они перестают замечать.
— Ну уж! — усомнился Громов.— Тогда объясни-ка мне вот что: ты ей, как я понимаю, не нужна ни с какой стороны, разве неправда?
— Безусловно, не нужна,— согласилась Ада Львовна.
— Так какого же лешего она с тобой так подчеркнуто нежна? Какой от тебя прок?
— Тут, я полагаю, не одна, а две причины,— сказала Ада Львовна.— Перво-наперво и у такого рода людей все-таки имеются свои привязанности, как ни говори, они же не автоматы, не могут жить все время по одному принципу — ты мне нужен, потому я тебя и обволакиваю, и льщу напропалую, и угождаю, чем могу. Во-вторых, она ласкова со мной прежде всего потому, что это ей ничего ровным счетом не стоит, а вдруг как-нибудь в будущем отзовется? Потому и ласкова на всякий случай...
— Любопытные экземпляры,— заметил Громов.
— Даже очень. По-своему обаятельны, даже, я бы сказала, талантливы, а уж как услужливы, если им это интересно, необходимо, ничего не пожалеют, лишь бы сделать приятное нужному человеку.
— Мне тоже встречались такого рода особи,— сказал Громов.— Знаешь, чем они все одинаковы? Просто все на одно лицо? Тем, что у таких вот индивидуумов никогда не бывает друзей, есть только лишь нужные люди. Заметила?
— Да, это точно. И хотя они уверяют кого-то нужного для них, что они его любят, что дружба у них до конца, что их водой не разольешь, на самом-то деле они не имеют друзей, потому что не умеют дружить.
«Она умнее меня, сильнее характером»,— часто думал Громов.
Он понимал, что жить с нею трудно. Многие приятели его уверяли: легче и приятнее всего с женщинами недалекими, а с умными, напротив, тягостно, приходится все время следить за каждым своим словом, стараться не отставать от них, быть постоянно в курсе жизни, умные высмеют, запрезирают, а глупенькие, как правило, никогда не заметят, что ты тоже не самый умный...
Но ему было с нею интересно. Казалось, каждый день приносил что-то новое, порой неожиданное.
И еще его привлекала ее влюбленность в свое дело.
Как-то она призналась, что профилакторий в сущности ее вторая семья, порой даже трудно решить, какая семья ближе.
Рабочие любили ее, персонал боялся и, как полагал Громов, не выносил на дух.
Она могла при всех накричать на вальяжную Дарью Федоровну, кастеляншу профилактория, за то, что та не постелила вовремя чистое белье.
— Дома, надеюсь, у вас чистая постель? — ехидно спрашивала Ада Львовна.— Да? Не сомневаюсь, что лилейно-белая. Почему же вы считаете возможным, чтобы наши пациенты ложились на несвежее белье? Объясните, пожалуйста!
Дарья Федоровна пыхтела, толстые щеки ее заливал клюквенный румянец.
— Я проработала в больнице, до профилактория, чуть не двадцать лет,— пробовала она вставить слово.
Но Ада Львовна безжалостно обрывала ее:
— Ну и что с того? Значит, в больнице от вас страдали больные, а здесь страдают рабочие...
В конце концов, доведенная чуть ли не до слез, Дарья Федоровна почти торжественно обещала:
— Никогда больше, ни разу в жизни...
Однажды Громов зашел за Адой в тот самый момент, когда она распекала повара, подавшего на ужин кислый творог.
— Как же так можно? — спрашивала она и, не давая ему произнести ни слова, продолжала:—Небось самому нравится свеженький творог, а рабочие, те, как хотят, так, что ли? Рабочим все сойдет, что ни дашь?
Повар, худой, смуглый, горький пьяница, страдающий запоями, в то же время совестливый, после каждого запоя не переставал каяться, обзывать самого себя самыми обидными словами, стоял понурив голову, стараясь не встречаться с Адой глазами, а она, разгораясь все сильнее, стучала маленьким своим кулаком по столу, допытываясь:
— Сколько так будет, говорите? Нет, вы мне русским языком скажите, сколько будет продолжаться такое безобразие?!
Громову стало жаль повара, безмолвно принимавшего все ее попреки, он почти насильно накинул на Аду пальто и, схватив под руку, увел за собой. Случайно обернувшись, вдруг увидел, как повар глядит ей вслед исподлобья с неприкрытой ненавистью.
— А они тебя, наверно, здорово не любят,— сказал Громов.
— Кто «они»?— спросила Ада.
— Твои служащие, все эти нянечки, кастелянши, повара, официантки.
Она равнодушно пожала плечами.
— Пусть их,— сказала.— Мне их любовь ни к чему, лишь бы дело свое делали, а что они там обо мне думают, меня абсолютно не интересует...
Они прожили вместе без малого восемь лет, Аде исполнилось уже сорок, и временами, особенно по утрам, она выглядела пожилой, очень усталой. Но она не сокрушалась, бегло окидывала себя в зеркале взглядом, иногда говорила философски спокойно:
— Всему свое время...
Наскоро кивала Громову и неслась в профилакторий, там ее постоянно ждали неотложные дела: то надо было выбить диетическое питание язвенникам, то получить новую мебель, то хлопотать о штатной единице, которой не хватало для полного счастья,— диетсестру, или фтизиатра, или врача-специалиста по лечебной физкультуре.
Много позднее, когда они уже были в разводе с Адой, Громову припомнился один случайный разговор. Дарья Федоровна, которую Ада особенно часто и охотно честила, сказала ему однажды после особенно яростного Адиного разноса:
— Эх, Илья Александрович! А ведь вы прогадали, голубчик!
— Чем прогадал? — не понял Громов.
— Тем, что на нашей Адочке женились,— выпалила прямехонько ему в лицо толстуха.— На таких, прямо скажу, не женятся.
— Вот еще,— возмутился Громов.— Почему на таких не женятся?
— Потому, что она больше о себе, чем о муже да о семье думает,— отрезала Дарья Федоровна.— Потому и детей не стала заводить, эгоистка стопроцентная.
Громов только усмехнулся в ответ. Что с нее взять?
Не спорить же с нею, в конце концов.
Но когда спустя примерно семь лет Ада заявила ему, что он ей мешает, он вдруг вспомнил слова, сказанные как-то толстой кастеляншей.
— Ты стоишь у меня на дороге,— откровенно сказала Ада.— И мне приходится приспосабливаться к тебе.
— А по-моему, брак — это всегда в какой-то степени приспосабливание друг к другу,— сказал он.
Ада пренебрежительно пожала плечами:
— Пусть так. Тогда тем более все это не для меня.
После профилактория она уходила в библиотеку, целые вечера проводила там за книгами, готовилась к защите кандидатской. Иной раз даже жаловалась Громову:
— Я опоздала со своей диссертацией лет на десять. Мне бы теперь в пору докторскую защищать.
Как-то он сказал ей:
— А ты, видать, честолюбива сверх меры.
Она спокойно согласилась:
— Да, наверно, так оно и есть. Ну и что в том такого?
Расстались они довольно миролюбиво. Ада даже шутила напоследок:
— В плохих романах обычно пишут: «Они оставались друзьями...»
— Пусть так и будет в жизни,— предложил Громов.
На заводе ему дали квартиру, он отдал ее Аде, сам переехал в общежитие.
К нему хорошо относились, в общежитии все устроилось так, что ему сумели предоставить маленькую, но отдельную комнату. И он жил в этой комнате вплоть до того самого дня, когда познакомился с Эрной Генриховной.
...Он обернулся к Эрне.
— Странно как-то все получилось.
— Что странно?
— Я полагал, что больше уже никогда не женюсь.
— А разве ты женился?
— Буду жениться.
— На ком? — спросила Эрна, предвкушая ответ и в то же время страшась его.
— На тебе, ясное дело.
— А если я не пойду?
— Пойдешь,— уверенно сказал Громов.— Я тебя очень и очень буду просить, и ты согласишься, в конце концов...
Она посмотрела на него.
— Скажи, неужели за все эти годы у тебя не было ни одной женщины?
— Почему не было? Были,— ответил он.— Не хочу врать, были женщины, и даже совсем неплохие. Но меня удивляет другое.
— Что же именно?
— Я ни на ком не хотел жениться. Ни на одной из них, впрочем, их было не так уж много, но у меня даже и мысли такой никогда не возникало. Веришь?
— В общем, да.
— А на тебе хочу жениться.
— Почему на мне хочешь?
— Хочу, и все тут. А почему это тебя до такой степени интересует?
— А почему это не должно меня интересовать?
— Потому что это аксиома, не требующая доказательств. А вот если бы твой мыслительный аппарат был покрепче, ты бы стала интересоваться куда более значительными вещами.
— Например, какими? — спросила Эрна. Она чувствовала себя немного задетой словами Ильи.
— Например? Примеров сколько угодно. Ответь мне, пожалуйста, на самом ли деле существовал граф Калиостро? Какая звезда в небе должна погаснуть первой? А как обстоит дело с Николаем Первым? Помер ли своей смертью или покончил жизнь самоубийством? А что касается Александра Первого, то не ушел ли он шататься по городам и весям под именем некоего старца Кузьмича? Кто точно убил президента Кеннеди? Кому это было выгодно, как думаешь?
— Пошел-поехал,— сказала Эрна.
— А что? Если хочешь, вот они налицо, неразрешенные загадки, которые так и остались загадками для многих и многих поколений...
Он огляделся вокруг, потом быстро, крепко прижал к себе Эрну.
— Перестань,— строго остановила она его.— Мы же на улице.
— А разве я считаю, что мы в Большом театре?
— Мы на улице,— строго повторила она.
— Но никого же нет, разве не видишь?
— Вроде никого,— согласилась она.— Что же из того следует?
Он улыбнулся:
— Следует то, что нас никто не осудит. И очень прошу тебя, перестань спрашивать, почему я хочу на тебе жениться. Даже у ангела в конце концов может терпение лопнуть. Не будешь больше спрашивать? Даешь слово?
Она ответила покорно:
— Даю.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





