ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

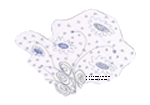
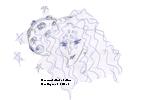
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
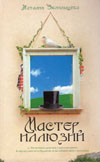
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
ГЛАВА 24
Она долго не могла уснуть. На улице поднялся ветер, и на верхнем балконе хлопала какая-то фанера. Звук, а может периодичная его бесконечность, выводил из себя, особенно ожидание, растущее напряжение, что вот опять хлопнет. Хлопало, и что-то, больно сжавшись, разжималось в ней, как пружина, на секунду она как бы вздыхала свободно, чтобы копить новые силы для ожидания очередного хлопка. Это проходило уже на болевом пределе, и она несколько раз удерживалась, чтобы не вскочить, не побежать к соседям — пусть уберут фанеру со своего балкона... Были, конечно, и другие звуки, даже много. Сбоку исходил невнятный диалог двух голосов, мужского и женского, прерываемый то визгом шин, то стрельбой: напряженность голосов заставляла думать, что они все время ссорятся — это шел по телевизору у соседей фильм. Капало в ванной; на улице спешили шаги, чтобы хлопнуть дверью и взбежать по лестнице, а потом долго ходить по своей квартире, левее или правее, сверху или снизу, за спиной. Внизу, через несколько этажей, женский голос уговаривал плачущего ребенка; то и дело щелкали выключатели на всех этажах. Нина Сергеевна успевала рассортировать эти звуки и немножко помучиться от них, пока утихал ветер и фанера наверху не хлопала. А потом снова была измучена одной лишь фанерой, тоскливо и неправдоподобно сжимаясь и даже стискивая зубы, выжимая из глаз слезы, когда хлопало. Нервы разгулялись, а к соседям было стыдно идти: сочтут истеричной, обидятся. Она сунула голову под подушку, задыхаясь и дрожа, но фанера и сквозь подушку хлопала. Это было бесполезно. Стараясь не разбудить Глеба, Нина Сергеевна встала и в ночной рубашке ушла в кухню рыться в аптечке: выпить хоть что-нибудь, чтобы уснуть. Мучительно бухало сердце, опять начиналась эта дрожь, и она изо всех сил стискивала зубы. Только бы не было спазм. Если одновременно начиналось сердцебиение и удушье, это было самое отвратительное. Сердце уже не бухало, а мелко-мелко дрожало, неслось, как секундомер, частый молоточек колотил по хрупенькой скляночке, и что-то там такое живое, нестерпимое сжималось-разжималось, сжималось-разжималось. Она накапала в стакан и выпила, посидела немножко в кухне. Все в ней билось мелко и нехорошо дрожало. Только бы не было спазм, а пароксизма сегодня не будет, она знала. Нет, мыслей о смерти не бывает. Есть только страх смерти: вот как теперь, когда пьешь валокордин и всеми силами надеешься, что до вызова «скорой» не дойдет. А если дойдет, опять же будешь молить бога, чтобы успели врачи, успели уколоть: тогда, после бешеных толчков, разрывающих тебя на части, что кажется, от следующего уже не встанешь, провалишься, и все, и эти сбивы, когда проваливаешься...— тогда хоть, когда уколют, такой разливается покой, и так все безразлично, кроме как блаженно чувствовать себя, приподнять руку и рассматривать пальцы, которые почти уже не дрожат и можно пошевелить каждым отдельно, испытывая радость оттого, что тебе это удается. Фанера на чужом балконе продолжала хлопать. Сердце, кажется, успокаивалось. Нина Сергеевна выпила таблетку снотворного и вернулась к Глебу, стараясь его не разбудить. Было уже поздно, наверно, около часа: даже телевизионные голоса умолкли и выключатели больше не щелкали. Ветер не утихал. Наверху завозилась соседка, загремела шпингалетами: видимо, фанера и ей мешала спать. Нина Сергеевна поглубже вздохнула и решила уснуть во что бы то ни стало. Сердце уже не дергалось, она забыла о нем, но не могла избавиться от блажи, плавая где-то на поверхности сна, почти приближаясь к нему, не в силах в него погрузиться. Разумом, или, может, «чердаком» психики, как теперь говорят, она очень хотела спать, и казалось, вот-вот опустится с головой, но не могла и лежала с открытыми глазами. Рядом ровно дышал Глеб, счастливчик. Она отодвинулась от него, вздохнула и осталась лежать сама по себе.
Нет, смерти она не боялась. (Сердце уже совсем отпустило, и Нина Сергеевна забыла свой животный ужас и обмирания.) Она снова не боялась смерти и, снова допустив, приблизив к себе, рассматривала в упор, как отвлеченную мысль: ведь громадное большинство людей умерло и лишь ничтожная часть живет. Смерть — избавление, пожалуй, от всего, что терзает и мучит нас на земле: там ты будешь свободен и бесстрастен,— а не этого ли, собственно, мы и добиваемся всю жизнь, увиливая от каждодневных обязанностей, от вечных долгов, от расплаты?.. Однако — это была лишь мысль, абстракция; и нечто совершенно иное, тяжелое, физически ощутимое, но уже не поддающееся никаким определениям и философствованиям, вроде бесшумной ночной птицы, кружило над ней, едва ли не касаясь лица крылами.
У ее матери было хорошее сердце, только поэтому она жила последнюю неделю, особенно три последних дня. Иногда это плохо — иметь хорошее сердце. Нина знала, что мама больна, но как-то не придавала значения: она болела давно, всегда, к болезням своим относилась беспечно, и дети привыкли, что мать время от времени кладут в больницу. Умерла она совсем неожиданно, и не от старых болезней, а от язвы желудка, о которой никто не подозревал... Мама вернулась с курорта, где подлечила свои почки, чувствовала себя здоровой, и вдруг ее увезли с прободением — дал телеграмму брат. А Нина сама в это время лежала в роддоме. Получилось, что она не смогла навестить мать, это мама после выписки навестила ее: какая-то сразу увядшая, худая, чужая. «Настоящая бабушка»,— смеялась она, тетешкая Марину. Ей не было еще и пятидесяти. Мама едва оклемалась после операции и жесточайшего перитонита, только потом Нина поняла, насколько это было серьезно. Резекции не делали, было не до того — спасали жизнь. После поправки ей разрешили есть все и велели готовиться к повторной операции, резекции желудка. Нина боялась, что у мамы подозревают худшее. И действительно, через несколько месяцев ее начало рвать кровью. Марине шел седьмой месяц, когда маму положили в Иркутск на повторную операцию.
Через два дня была оттепель, Нина торопилась передать какие-то пустяки маме, вроде зубной щетки и пасты, и поскорее бежать: Марина не кормлена, а в институте зачеты. Она нетерпеливо толклась в приемном покое вместе с другими посетителями, санитарки все не было, потом вышел некто в белом и сказал, что ей можно выписать пропуск. В порядке исключения. Нина растерялась, засуетилась, дрожащими руками все никак не могла найти завязки у халата и тапок. Пропуск просто так никому не выдавали. Страх все рос, пока она поднималась по лестнице, украшенной эмалированными белыми дисками с красными крестами,— не тот панический страх, когда боишься опасности, а тупое, щемящее, невыносимое чувство, когда подходишь к пределу и не избежать его. Она не узнала маму: та была стара и худа как скелет, лихорадочно возбуждена, хотя говорила через силу, глаза бездонные, темные на белом, безумном лице, и безумие это — ужас, предчувствие и ощущение смерти. Мама лепетала что-то про зачеты, про Марину, про пустяки, Нина не слушала, только глядела, похолодев, на это чужое, беспомощное и не верила, не могла поверить, что не обойдется, что маму не спасут. Машинально, хладнокровно врала, что зачеты уже сдала досрочно — мама поверила, она была не в себе. Нине разрешили остаться до вечера, на ночь, на все дни... Вечером говорила с врачом, ее «готовили».
Ночью маме совсем стало плохо, жар и бред, она словно мешалась от боли и, заглушая в себе боль, безумно шептала, что вон та, у окна — сумасшедшая и каждую ночь не спит, караулит зарезать. В палате никто не спал: маму распирал перитонит, она металась, плакала беззвучно. Мама всегда была на редкость терпелива, но видеть это было бесчеловечно.
Утром пришел профессор с обходом и на всех кричал, кричал и на мать, но под грубостью была безнадежность, которую он не хотел обнаружить при пациентке. Стали готовить к операции — промывать кишечник. Мама обессилела от боли и была послушна, как ребенок или животное, позволяя делать все что им вздумается. Потом маму увезли в операционную, две сестры следовали за тележкой, неся систему. Эта была передышка и тупой покой в фойе, где Нина курила с каким-то язвенником, который прятал свою папиросу в рукав. Язвенник ободрял ее тем, что выжил после прободения и вот даже курит. Это было облегчение: хоть что-то стали делать, и не на ее глазах. К тому же она знала, что мама спит под наркозом, что ей не больно. И, вопреки всем доводам, вопреки тому, что ее предупредили, она надеялась. Верила в чудо. Потому что иначе быть не могло, потому что мама не могла перестать быть, исчезнуть куда-то — мало ли что они предупредили. Мама была в операционной, когда санитарка позвала ее вниз: пришли Глеб с братом. Она вышла, странно спокойная и отчужденная. Глеб обнял с грубоватой жалостью, ему было не по себе, неловко. Она сказала, что нет надежды, что — может быть, сегодня или завтра, вопрос дней. Говорила холодно, разумно, а сама не верила: мама не могла умереть, это неправда, и раз увезли в операционную — значит, есть надежда. Но она холодно говорила о положении вещей, и даже хватило рассудка сказать, чтобы дали телеграммы маминым родственникам и отцу, потому что брат несовершеннолетний и отец должен будет решить. Глеб сказал, пусть она не волнуется, с Мариной его мать, кормят кефиром с молочной кухни. Только теперь она вспомнила о дочери и удивилась, что забыла о ней. Но сейчас умирала мать, на ее глазах, при ее полной беспомощности, ибо она могла выступить только в роли сиделки, и заботы о Маринином кормлении было не втиснуть. О дочери позаботится свекровь и Глеб. Тогда ее впервые поразила в себе эта жестокая последовательность применяться к случаю: быть там, где ты нужнее, не метаться бестолково, отдавать себя только одному, главному, если остальные потерпят без тебя.
День был на исходе, зажгли свет, когда маму вывезли из операционной. Вокруг эскортом шли сестры, придерживая системы трубок — переливания крови и дренажную. Маму повезли в «одиночку», угловую палату, бывшую умывальную. Там даже раковина стояла в притворе, а в самой палате разболченные отрезанные трубы тянулись до середины стены. Нина поняла, что маму привезли умирать, что умрет она, наверно, сегодня ночью.
Мама спала, опутанная трубками. Сестра включила настольную лампу, и все ушли. Нина села в изголовье. Под наркозом у мамы было успокоенное, как бы просветленное лицо, без той застывшей маски боли, которая так уродовала ее перед операцией, и Нина подумала, может, обойдется, как-нибудь да обойдется. Даже какой-то подъем: вот ночь впереди, и главное, что она рядом с мамой, и уж не даст, ни за что не даст и не пропустит, и если мама переживет эту ночь, то будет жить. Ее не предупредили, как тяжело отходят после наркоза: пронзительно, внезапно мама вдруг распахнула черные безумные глаза, подалась вперед, вскрикнула и забилась, вырывая из себя трубки. Нина закричала не своим голосом, прижимая ее к постели и удерживая за руки: в своем безумии мама была нечеловечески сильна, одной ей было не удержать. На крик прибежали врачи и сестры, стали держать всем скопом — мама выбилась из сил, откинулась на подушки, утихла. Белые люди виновато переговаривались вполголоса, чтобы скрыть от родственницы какую-то оплошку, свою ошибку, от которой зависела, может быть, мамина жизнь. Врач, ассистировавший профессор, ласково похлопал Нину по плечу:
— Извините, мы вас не предупредили, это наркоз. После глубокого наркоза они всегда так.
Маме сделали укол, и все снова ушли. Да и поздно было, рабочий день у них кончился.
Это была ужасная ночь. Мама была в бреду, то и дело рвалась, бормотала бессвязное — Нина обессилела удерживать ее, чтобы она не выдрала из себя иглу переливания крови или дренажи. Потом мама ненадолго утихла, забывшись, прерывисто дыша. Нина с дрожащими руками и коленями отдыхала на стуле, страшась нового приступа. Раза два заходил дежурный врач, щупал пульс, трогал мамин раздувшийся живот и был недоволен. Нина знала про него, что это Черных, подающий надежды хирург, делает операции на сердце. Черных был крупный, рыжий, плечистый мужчина лет тридцати или тридцати двух. Он первый сказал Нине правду, которую чувствовал или знал.
— Вы знаете, в каком она состоянии?— хмуро спросил он Нину.— Сделано, конечно, все, но...
Нина кивнула, что знает, что ее предупредили.
— Сколько она будет жить?— тупо спросила она.
— Не знаю. Вероятно, после первой операции остались спайки... вторичная инфекция...— он еще объяснял что-то не понятное Нине.
Она послушно кивала.
— Как у нее с почками?— спросил Черных.— Камни, цистит? Было что-нибудь?
— У нее хронический нефрит. Перенесла две операции, последнюю — в позапрошлом году.
— Ну вот,— сердито сказал он,— ну вот. Значит, этого и следовало ожидать...
Оказалось, у мамы отказывают почки.
Мама по-прежнему бредила, приступы усилились, она то и дело билась, пыталась вырваться из опутавших ее трубок, как из сетей. Минуты забытья, когда она выбивалась из сил, казались теперь Нине передышкой, отрадой. В эти минуты она начинала жарко умолять неведомо кого, суеверно молиться: «Не дай ей умереть, господи, не дай умереть, только бы она не умерла этой ночью, тогда я... я все сделаю, что ты попросишь, только не дай, хотя бы до утра...» Но мама еще не узнавала ее, когда билась, кричала, просила забрать ее отсюда. Здесь ей чудилось что-то страшное.
За полночь мама впала в забытье, и Нина, обессиленная предыдущим, задремала. Нет, она не спала: это было внезапное и неглубокое отключение, когда сон мешается с явью и, в общем-то, бодрствуешь. Кажется, она вспоминала... Капризный, переутомленный мозг возбудил почему-то именно эти клетки памяти: будто бы лето, будто бы в лесу... Явно она переживала это сейчас, явно сейчас с ней происходило, причем в буквальном смысле: физически... Ночью они пошли купаться. Черная, как вар, неподвижная вода в запруде казалась вязкой, плотной, как тот же вар, и душное черное небо над ними. Они шли по боне, по связанным плотам, босые ноги оскальзывались на ошкуренных бревнах, Глеб подавал ей руку... Черная стена леса на берегу, остро обведенная по контуру ночным небом, которое вблизи не сливалось, а распадалось на берега, лес и воду; все это было, наверно, прекрасно, если бы не лютовали комары, и то ли дремало, то ли сторожило их, затесавшихся сюда: всплескивала рыба, ломалась ветка, что-то шевелилось и тихо вздыхало в лесу... «Как хорошо!— хотела сказать Нина, убив очередного комара и вывихнув ногу на бревне.— Какая красота, правда?..» Но она промолчала. Глеб рядом, держась за ее руку, спрашивал смущенно, взяла ли она полотенце, но голос казался далеким и чужим — он словно отделился от Глеба и больше не принадлежал ему. Этот громкий, как радио, человеческий голос странно отражался от воды, от деревьев на другом берегу, катился по реке и падал эхом где-то уже за плотиной, километрах в трех от них. Был какой-то звуковой обман, путаница: идущий рядом Глеб немо шевелил губами, а отлетевший от него голос громко разговаривал с кем-то за плотиной, зато вода из плотины шумела и плескалась в двух шагах от них...
— А мыло?— спросил невидимый голос над лесом.— Я хочу вымыться.
Они пробовали воду ступней: вода была как парное молоко, теплей, чем душный воздух этой ночи, даже в купальниках было не прохладно, а душно...
— Не вздумай нырять,— предупредил Глеб, здесь коряги.
Она бросилась, ударилась животом о неподвижную воду и поплыла. Теплая масса воды обняла ее, поместила не сопротивляясь, как в те далекие времена, когда мы были животными. Тело становилось умнее головы, радостно и легко вспоминая, каким оно было животным: наверно, оно было чем-то вроде выдры, потому что на руках в воде сразу вырастали перепонки, но еще оно было чем-то вроде рыбы или дельфина, потому что ноги без усилия становились хвостом... Нагрелся только верхний слой воды, нижний был холоден и плотен, и, когда она опускалась чуть ниже, сжимало ледяным обручем, острой прохладой. Она всплывала в более теплый слой и нежилась в нем, потом снова опускалась в холодный, чувственно, экстатически переживая свое слияние с водой: пропуская себя сквозь волны то теплого, то прохладного, то жгучего, жестокого почти наслаждения плыть в холодном, постепенно принимая его температуру, то — всплывать в отдохновенную, более естественную для температуры твоего тела теплую субстанцию, и — не слышать себя, растворять, распускать свои члены в живой воде, истаивать, как сахар, в теплом и невесомом, становясь бесплотной прозрачностью медузы, возрождать секрет обладания этой эфемерностью, текучей гибкостью, подчиняясь и отдаваясь воде... То — резко всплывать и плыть, разрезая собою воду, внезапно плотную и упругую, твердым своим, враждебным воде телом — разрывать, вспарывать ее собою, как челноком или ножом, воду враждебную и затаившуюся, которая может погубить, если захочет... Там, в глубине, если опуститься еще ниже, были уже водоросли, как русалкины волосы, и отвращение, и скользкий страх прикасаться к ним, и то, что тянет прикоснуться к этому страху, прикоснуться вплотную, еще раз испытать их скользкие странные объятия и всплыть на поверхность с обмотавшейся вокруг шеи травой... Она перевернулась на спину: на нее опрокинулось черное вогнутое небо, она лежала как под куполом, под колпаком, на зыбкой подкладке воды, как над бездной — вверх и вниз раздалась бесконечная глубина, а сама она повисла, покачиваясь, на тонкой пленке натяжения сцепившихся молекул, на границе двух сред, из которых вода казалась более родной. Где-то рядом шумно плескался и фыркал Глеб. Теперь, отдышавшись, она с удовольствием вспомнила о муже и позвала его. Глеб подплыл, и они выбрались на плот.
Очнулась она от внезапного чувства, странного и неоправданного, как это бывает в кошмаре или сне: ей показалось, что в палате кто-то есть, кроме них... Мама была без сознания, тихо, прерывисто дышала. В палате никого, разумеется, не было, врач и сестра дремали где-то на этаже. Нина ощутила себя удивительно бодрой и приготовилась нести свою стражу, уверенная, что ничего больше не произойдет. Мама вдруг разомкнула глаза и не забилась, как прежде, а стала медленно, страшно подниматься, сосредоточенно глядя на дверь. Штатив со склянкой крови пошатнулся, мама потянула все эти трубки за собой. Нина бросилась к ней. Мать вцепилась ей в плечи, порываясь встать, в глазах был ужас, мать глядела ей за плечо, словно там... И вдруг закричала. Нина Сергеевна и перед смертью будет помнить этот крик. Это был уже не человеческий крик, он был уже там, во что мама всматривалась и увидела. Нина закричала тоже.
Эти остановившиеся глаза, угасающие, но еще теплые, она видела потом ночами, без конца ей снился этот сон: мама вцепляется ей в плечи и кричит с остановившимися глазами.
Прибежали врач с сестрой, испуганно засуетились.
— Камфору!— сердито кричал Черных и еще что-то кричал, по-латыни.
Мама лежала в подушках, они долго возились с ней, Нина автоматически подавала им что-то, не помнит что. Потом ее послали за горячими грелками. Наконец появился пульс, врач в изнеможении опустился на стул, нервно и радостно засмеялся. Все трое вышли в коридор, возбужденно говорили, врач предложил свою сигарету Нине. Она хотела что-то спросить и вдруг разрыдалась.
Теперь маме кололи камфору, через час или полчаса, Нина не помнит. Бред не прекращался, мама переставала узнавать ее. При каждом новом приступе, когда Нина наклонялась, чтобы успокоить, мама вжималась теперь в подушки, боялась ее, как-то жалко, по-детски, трусливо умоляя взглядом. Или в этом бреду она разобрала, что Нина заодно с ними, с теми, что через силу заставляют ее жить? Или ей чудилось что-то страшное?
Под утро мама ненадолго пришла в себя, узнала. Осмысленные, измученные мукой, умные глаза, как у больного животного — та же тоска в них.
— Я умру, доченька,— с трудом прошептала она,— скажи им, чтобы они мне дали спокойно.
Нина, конечно, бурно возмутилась: что — нет, что самое страшное позади, что теперь только хорошее... Мамин взгляд опять насторожился и замкнулся, что-то жалкое и хитрое промелькнуло в нем — безумное... Она опять перестала узнавать.
— Да-да, я буду...— торопливо и жалко, с какой-то хитрой усмешечкой прошептала она.— Иван Афанасьевич сказал, что...— говорить ей удавалось с трудом, и это было неимоверным напряжением.— Я вам обещаю...— она больше не узнавала дочь,— я в а м расписку дам, если вы мне не верите...— в изнеможении прошептала она.
Она впала в забытье.
Умерла мама на следующие сутки, так и не приходя в сознание, Нина в это время дремала на диване в коридоре после трех бессонных ночей. Умерла днем, в четыре часа.
Она уже засыпала, сквозь сон. Раздражалась, что опять кто-то шел по улице, голоса чьи-то. Проклятая ночная акустика, когда голоса отражаются даже от стен. Бухали шаги, как на плацу, спешили, но не бежали, споро так, радостно шли — молодежь, наверно... И голоса молодые... Шли уже близко, дома три от них... Она стала проваливаться в сон, но снова выплыли голоса: парни что-то говорили, девушки смеялись. Это темное, теплое, бездонное, куда она уже погрузилась, уже бросилась, поплыла — опять ускользало, опять выталкивало... Шел по улице... Глеб сегодня... Нет, не так: на улице...
Они шли по улице и разговаривали громко, не считаясь ни с кем. Опять визгливо рассмеялись девушки. Парней было двое или трое, и особенно раздражал один ломкий самоуверенный голос. Бубнил, выламывался. «Хо, провожать!— не считаясь с теми, кто спит, кричал юнец.— А что мне за это будет?..» Кокетливое бормотание девушек и визгливый их смех. Вульгарны они были, эти девушки, ненатуральный их смех, эти манерные, вызывающие интонации, хотя слов не разберешь... «Да тебя не провожать надо,— громко заигрывал юнец,— тебя бы надо...» — и тут он — Нина Сергеевна не поверила своим ушам! — произнес краткую циничную фразу. Девушки в ответ, как ни странно, рассмеялись... Так споро, весело они, четверо или пятеро, шли, уже под окнами вышагивали. «Ну да,— продолжал юнец,— я хотел бы тебя...— и он опять произнес это слово,— а я тебя провожаю!..» Видимо, очень ему понравилось слово и, видимо, очень точно выражало его желания, и он все говорил своей девушке: «Не провожать тебя надо, а... Может, вернемся?» Девушка хихикала в ответ, и смех был чей-то знакомый, хотя и отвратительно-искаженный. Какая-то знакомая девушка шла,— возможно, с их двора. Смех был отвратительно-незнаком именно своей вульгарностью, но голос, кажется, был знаком — этот тембр, эта звонкость, детскость, едва различимая под хохотом потаскушки... «Я хотел бы тебя...»— повторил свою присказку юнец и, видимо, решил осуществить на деле, потому что девушка, захохотав, воскликнула: «Да ты что? Да пошел ты...» Вот он, голос этот! Еще бы не знаком: Марина это была, она. Дочь, Марина! Стало быть, парень к дочери обращался. И куда они шли, куда? Мимо окон собственного дома куда она шла?! А ее ищут в угрозыске. Вне себя Нина Сергеевна вскочила, тапочки на босу ногу, надернула как попало пальто, прихватывая полы, и бегом — вниз, во двор, к дочери! Боже мой, какая чушь, почему Марина здесь и домой не идет? Что это за люди? Боялась, что не догонит, уйдут.
На первом этаже услышала, что не ушли, говорят у крыльца. Распахнула дверь, поскользнулась на обледенелом крыльце в тапочках... Да, это была Марина! Обернулась на шум: лицо все в слезах, несчастное, жалкое... Нина Сергеевна бросилась к ней:
— Доченька!
Накрашенные губы Марины как-то странно поехали, что-то безобразное было в этом бледном, плачущем, размазанном лице, Нина Сергеевна отшатнулась: дочь была пьяна! Мертвецки пьяна!
— Что с тобой, что?— бормотала Нина Сергеевна.— Кто тебя?
Дочь пьяно всхлипывала, сморкалась.
— Пойдем домой,— тянула ее за руку Нина Сергеевна,— где ты пропадаешь, кто тебя. Пойдем же, слышишь?
Марина пьяно качала головой, упиралась, выдергивала руку.
— Но почему? Кто тебя... Они тебя не отпускают, да? — догадалась вдруг Нина Сергеевна.— Куда они тебя ведут?!
Только теперь она догадалась оглянуться на тех двоих: оба высокие, в полушубках, один покряжистей, поплечистей, другой — видимо, тот, что разговаривал с Мариной — совсем юный, с наглым порочным лицом, с опухшими глазами. Между ними — низенькая девица с кукольным мертвым личиком. Да она же видела их в трамвае сегодня! Но у тех были открытые приятные лица, а у этих — мерзкие, страшные, ухмыляющиеся маски. Они стояли в стороне, с любопытством наблюдали, не вмешиваясь,— ждали Марину. Марина отвернулась от матери, быстро шагнула к ним, тот, что повыше, взял ее под руку.
— Куда?!— рванулась Нина Сергеевна, вцепилась в дочерин рукав.— Куда ты? Ты знаешь, что тебя в угрозыске ищут?..
— Отпусти-ка, мамаша,— с грубой угрозой сказал парень.
Нина Сергеевна в упор взглянула в это наглое, юное, циничное лицо:
— Ах, ты еще...— она размахнулась, пальцы легко вдавились в мягкое, детское, парень дернул головой, как марионетка,— на щеке отпечаталась белая пятерня.
Схватил за кисти рук крепко, Нина Сергеевна слабо рванулась, но он подставил подножку. Чувствовала, что где-то сверху над ними — луна и что крика не услышат; чувствовала лицом холодный грязный лед, шершавый асфальт, закрывала руками голову... Пинки были несильные сквозь пальто, пальто — ватное, только бы ее не перевернули на спину, только бы не в живот... Но уже больно — в поясницу и по ногам, в бедра; ногам было холодно, тапочки слетели, но она закрывала голову. Кто-то наступил ей на пальцы, и она открыла лицо, все еще вжимаясь, сжимаясь.
ГЛАВА 25
Она проснулась. Ей было страшно, душно, а главное, так невыносимо тяжело, что захотелось вернуться, откуда она пришла только что... Это было ощущение, обратное тому, которое мы обычно испытываем, просыпаясь: то был сон, а наконец-то ты в мире, в реальности. Эта комната, тысячу раз знакомая, казалась лишь одним из обманов, тех фантастических мест, в которые мы постоянно попадаем во сне, испытывая облегчение, если место уже знакомо, или страх, что это то же проклятое место — в зависимости от сна. Ей было страшно сюда возвращаться, а особенно страшно вспомнить, что это и есть жизнь. Со сжавшимся сердцем она поняла, что в ловушке: что ей еще жить и жить, наверное, долго, и, может быть, никогда это не кончится. Дальнейшее представлялось лишь собранием нелепостей и боли, которая все усиливается к концу, когда надежд уже не будет: дети, последняя наша надежда, обманут и ничего, кроме своей боли, не добавят и не привнесут. Счастье, пока они не выросли. За стеной спала младшая, Лялька, милый ее ребенок, ее солнышко, ее последняя радость. Она бы счастлива была умереть и не знать, что будет с Лялькой в дальнейшем, не испытать ее боли и не узнать своей вины. Она понимала, какой эгоизм так думать, ведь помнила свое одиночество без матери, когда твою боль уже никто в мире не разделит. Безумно одиночество старухи, у которой нет детей. Но и не хватило сил думать, что придется испытать в жизни все, что тебе предназначено по какому-то нелепому и страшному сюжету.
«Да нет, все будет хорошо,— внушала она себе.— Марина, конечно, жива и найдется».
Но необходимость думать об этом сжимала только усталостью и тоской.
Рядом спал муж. Тысячу раз изучено во сне лицо, самозабвенное, искаженное какой-то неведомой жизнью, которая с ним сейчас происходила. Человек, с которым прожита жизнь, и, пожалуй, единственное существо, которому она по-настоящему нужна. Без нее он уже не сможет, как и она без него. Конечно, и это смогут, когда кто-нибудь из них умрет. Но пока живы — уже никто им не заменит друг друга. Никакая молодая несбыточная любовь, ничья красота, ничья щедрость душевная. Он уже слишком стар и, даже испытав, испугается и вернется к жене доживать вместе век. Жизнь, которая одинаково принадлежит и ему и ей,— эту жизнь не выбросишь за борт. Она вспомнила: какая-то девчонка звонила ему неделю назад. Он сконфуженно отвечал, косясь на жену, а Нине Сергеевне было смешно и противно, и, пожалуй, она сочувствовала этой дурочке. Девчонка чуть постарше Марины, годится ему в дочери. Она названивала ему днем и ночью, и даже когда он был в командировках; Нина Сергеевна уже злилась, особенно из-за дочерей: могла снять трубку Лялька или Марина. Тянулось у них с Глебом около года. Однажды девчонка позвонила в три часа ночи, и Нина Сергеевна вышла из себя: «Девушка, имейте совесть...» Нина Сергеевна видела ее дважды: один раз на вокзале к Глебу подбежала какая-то длинная пигалица с прыщавым лобиком, руки и ноги на шарнирах. Залилась румянцем, Нину Сергеевну и не заметила. Глеб сделал неузнавающие глаза, косясь на жену, но вынужден был пигалицу узнать; ее звали Ира, и пигалица смотрела на Нину Сергеевну с ревностью и враждой. Вероятно, недоумевала, почему ее возлюбленный женат на такой старой и неинтересной женщине. Вероятно, считала, что она бы лучше подошла ему в жены... Нина Сергеевна смотрела на пигалицу насмешливо, с оттенком снисходительной жалости: что нашла эта дурочка в Глебе и неужели она думает, что у Глеба всерьез?.. Второй раз было осенью, в сентябре. Был ужасный холод и дождь, Глеб долго и зло говорил с ней по телефону, делая вид для жены, что говорит с Рохляковым. Пигалица, видимо, настаивала и угрожала Глебу чем-то таким, что он вынужден был согласиться к ней выйти, несмотря на дождь. Жене он проворчал, что выйдет за сигаретами. Однако переобулся в теплые носки и напялил под пиджак свитер, а на пиджак плащ, а на голову берет — для похода за сигаретами это выглядело странно. Должно быть, он понимал, что пигалица его сразу не отпустит. Нине Сергеевне это было безразлично, разве что немножко жаль Глеба и его старых костей, которые он по такому дождю промочит и простудит. Когда он уже хлопнул замком, она вспомнила, что надо купить спичек, коль уж он пошел за сигаретами, и хотела крикнуть ему из форточки. И замерла у окна. На дожде у подъезда стояла пигалица в шелковом вечернем платье до пят, с коротким рукавчиком. Светленькое нелепое платьице под этим дождем. Прическа от парикмахера расползлась и жалко висела вдоль лица, пигалица посинела и горбилась, обнимая руками плечи. Смотрела она не вверх, на окна, а почему-то вниз, в землю. Понимала ли она, как некрасива и смешна под этим дождем, в этом глупом платье до пят? Но, видно, пигалицу давно устало все интересовать. И только мечта, которую она упрямо лелеяла: она в вечернем платье, такая красивая и счастливая, и ее любимый рядом. Это она и видела теперь, вопреки погоде и злому Глебу, которого терпеливо дожидалась. Вышел на крыльцо Глеб, ежась и теплее запахиваясь в плащ, и обомлел, увидев пигалицу в белом вечернем платье, стоящую посреди лужи... И первое его движение — был взгляд на окна и по двору: не видит ли кто? Пигалица оторвала руки от плеч, качнулась было к нему, но Глеб сказал ей что-то обидное и резкое, руки повисли плетьми, и голова опять опустилась. Так они и пошли: пигалица ежась, а Глеб оглядываясь; руки он ей не подал, плаща своего не предложил. Вероятно, берег свои больные кости, а может, вообще не заметил, что пигалица дрожит и мерзнет.
«Да ведь это же я!— удивленно и странно подумала Нина Сергеевна.— Это я и есть... Я, только восемнадцать лет назад, а Глеб все тот же. Это меня он разлюбил, это я бегу и глотаю слезы и не знаю, что мне еще делать, чтобы его вернуть. А он и разлюбил, потому что я глотаю слезы, требую, не понимаю. Да и вообще нас с ней нет, ни меня, ни ее — для него нет. Он только думает, что мы есть, а нас нет, он видит что-то другое, не нас: какая-то женщина, что двоится в его воображении и может оказаться десятью женщинами, сотней женщин. Вот он думает, что он честный человек, что возвращается он к жене — ко мне то есть. Но ведь меня нет, той, что он любил когда-то — меня уже нет: она осталась там, на улице, с ним рядом, и он выдумывает причину сейчас. Так к кому же он возвращается, если не ко мне?»
Странно было Нине Сергеевне. Словно два конца жизни открылись ей, словно это ее униженная молодость бредет уныло по лужам в длинном, белом, почти свадебном платье, а Нина Сергеевна смотрит вслед, и только спутник все тот же.
Они прожили с Глебом жизнь, это верно, по счастливой или несчастной случайности она оказалась рядом с ним навсегда. И вот он сейчас спал рядом с ней, ее муж, отец ее дочерей. Миллионы раз ей казалось, что она любит Глеба, миллионы раз казалось, что она его ненавидит. Она знала о нем все, больше чем о себе самой. Но почему судьба избрала ей именно этот сюжет, именно с этим героем? Почему они народили двух детей, чужие друг другу люди, и не воздалось ли им за этот грех несчастье с Мариной? Да и любила ли она когда-нибудь Глеба? То, первое, была не любовь: какая же любовь бывает у растения, у слепых лепестков, которым пора, но страшно раскрыться? Ей нужно было, чтобы ее не испугали, укладывая в постель. А потом привязала уже испытанная боль, прожитая жизнь, дети, привычка, жалость. Глеб пошевелился во сне, словно растревоженный ее отчужденным разглядыванием: пошевелил губами и сморщился как ребенок, готовый заплакать. Что-то детское, очень родное и забытое было в его теперешнем выражении: ну да, Марина, конечно... маленькая она тоже часто куксилась во сне и вообще плохо спала, неспокойно. Неожиданно Нина Сергеевна вспомнила лицо дочери, что пригрезилось ей только что в ночном кошмаре — жалость, и мука, и отчаяние были в этом ужасном воспоминании. И... она боялась себе признаться, но была и надежда. Предчувствие было где-то рядом: предчувствие, что вот если она что-то вспомнит сейчас, что-то очень важное и главное,— то все, все разрешится и, может быть, уже сегодня им позвонят из угрозыска. В который раз она билась над одним и тем же, что надо было вспомнить, но оно ускользало, выпадало из сознания, оставляя лишь томительное недоумение. Она снова перевела взгляд на мужа. «Но ведь я же его люблю,— подумала она с удивлением,— такого, какой он есть. Наверно, это и есть любовь: жить рядом друг с другом...»
Она знала, что сейчас встанет, минут через пятнадцать. Босая, шлепанцы в руках, пойдет в кухню, вспыхнет сиреневый цветок горелки и его призрачный двойник в черном окне. Вскипит чайник, встанут Глеб и дочь. Неотвратимый мир надвигался на нее, как кислое спросонья лицо Глеба, как его комментарии за завтраком по поводу событий в Ирландии, как его брюки, пуговицы, носки, «дай мне свежий платок», как ее собственный туалет на глазах у Глеба. Как «поскорее возись, мне еще постель убирать»,— ртом, полным шпилек и подтягивание чулок, не стесняясь Глеба, как его волосатые ноги давно не стесняются ее. Как Лялька спросонья, которой они оба стесняются, а Лялька не стесняется их — прошлепает, милая, длинноногая, в ванную и оттуда с мокрым свежим лицом: поленится как следует вытереть. Девчачья фигурочка в десять лет, росточек, стебелечек, руки, столь тонкие и прелестные и развитые, стройные ноги фигуристки с женской почти щиколоткой и некоторой мосластостью ступни, натруженной постоянными тренировками, с сильным бедром уже не ребенка, но еще и не девушки, в котором можно уже угадать будущую форму. Ее личико перед зеркалом в потоке светлых пушистых волос, обливающих плечи и лопатки, и выражение глаз в зеркале: детски наивных и женски задумчивых, лукавых глаз вопрошающих. И тень сомнения оттого, что она ждала увидеть другое лицо, и неудержимая, затопляющая сомнения радость: собственная свежесть и блеск глаз и светлый ореол волос ей нравятся, и удовольствие волосы расчесывать. Что может быть прелестнее маленькой девочки перед зеркалом, еще не знающей, но чувствующей, что она мила? Когда представления о мире так свежи, а собственная учительница обожаема и мать с отцом еще кажутся честнейшими и достойнейшими людьми. Как больно знать уже сейчас то разочарование, которое постигнет дочь в дальнейшем. А пока — проверить уши и ногти, поцеловать пахнущую мылом и детством щеку, согреть завтрак. «Я уже бегу, смотри, не опоздай. Посуду поставь в раковину...» Неотвратимый день, как путь до автобусной остановки, как работа, как надвигающаяся планерка, как служебный автобус, в котором всегда есть место у окна, в отличие от городского транспорта. Она переживала это, все еще лежа на спине, уже уносимая потоком в автобусе. И, лежа, она уже не была здесь, как никогда не бывала в настоящем времени, а лишь истекала из потока прошлого, наполняясь вновь и вновь, все одна и та же, неодолимо неслась в будущее, которое старело и убывало на глазах: все та же текучая вода, на той же излуке твоей единственной жизни... Глеб спал, искаженный и захваченный сном и озабоченный сознанием, что пора проснуться. Эта забота пробивалась и брезжила на поверхности его сна, напрягала брови и заставляла дрожать веки, но он как бы отмахивался, отгонял от себя и еще более сладко вздыхал, стонал, улыбался во сне, хмуря брови от загадочного сознания, что неминуемо должен проснуться. Глеб спал, а она, лежа рядом, неслась в потоке машин в своем спецавтобусе навстречу надвигающейся планерке. Ей досталось место у окна, то, которое доставалось всегда, она уютно привалилась к стенке, ничего не видя за окном, кроме собственного лица в черной раме ночи. Лицо разрезали призраки несущихся и обгоняющих машин. И навстречу ей неслось собственное смутное лицо, сейчас же отстающее, но не пропадающее, возникающее вновь из темноты дороги, ибо это она была неподвижна, и только отражение, возникая из будущего, неслось навстречу, чтобы неизбежно отстать.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





