ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

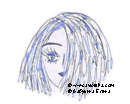

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Полянская Ирина
2. Предлагаемые обстоятельства
Тая вернулась домой поздно, но застала сказку в самом ее «жили-были». Мама с воодушевлением, от которого ее лицо помолодело, рассказывала Геле, как она написала сегодня жалобу на продавщицу магазина. Старшая дочь с таким же воодушевлением внимала ей, будто речь шла о какой-то грандиозной победе. Увидев в дверях комнаты младшую, мама запнулась, но перевела взгляд на Гелю и, черпая вдохновение в ее доверчивом восторге, продолжила свое повествование...
Она стояла в очереди за окороком. За исключительным, совершенно постным окороком тамбовским. Продавщица, мстя очереди за свою несовершенную личную жизнь, отпускала медленно, с издевочкой в движениях большого, уставшего за день тела. Мама для пущей убедительности в двух словах описала пеструю очередь и голоса протеста из самой ее глубинки, где терпеливо стояла она сама. Люди, раздраженные медлительностью продавщицы, робко, но роптали. (Тая прошла в коридор и сняла шубу.) ...И тут довольно нахальная особа, знаешь, из тех, кто не привык стоять в очередях, с перстами, отягощенными кольцами, очевидно знакомая продавщицы, скорее всего сама продавщица из галантереи или же из магазина «Книга», а может, и не продавщица вовсе, а парикмахерша, маникюрша или прочий нужный человек, одним словом, без очереди: полкило. (Геля кивнула.) И он, окорок, уже кончается. Та, что в перстнях, парикмахерша или маникюрша, шепнула что-то продавщице, отпускавшей окорок; продавщица, перегнувшись через прилавок, что-то интимно шепнула ей в ответ, и они скрепили свой тайный сговор и дружбу пятьюстами граммами тамбовского окорока, самой постной его частью. Очередь двигалась медленно, терпеливо, окорок таял. И тут к продавщице подошел юный нахал, возможно, директор кинотеатра или грузчик из мебельного, и, не сказав ей ни слова, протянул чек и получил четыреста граммов.
После этого продавщица обратилась к следующей покупательнице. Заметь, что эта покупательница, когда перед ее носом влезли без очереди, ни слова не произнесла, вот как привыкли к хамству. (Геля сказала: «Да! Да!» — и прищелкнула языком от возмущения.) Покупательница была, оказывается, без чека, потому что обычно, пока окорок не завесят, не знаешь, сколько выбивать, но она не знала порядков, то есть беспорядков в этом магазине. Продавщица буркнула ей: «Ступайте в кассу» — и обратилась ко мне, продолжала мама. Та женщина сказала ей: «Ну вы уж завесьте мне, а то в кассе очередь, и пока я вернусь с чеком, окорок может кончиться». Но продавщица, вперив в нее ядовитый взор, заявила: «Успеешь, а нет — так не моя печаль». Женщина прошептала про жалобную книгу. Продавщица презрительно ухмыльнулась, ибо она была уверена, что книга зарыта в надежном месте и недосягаема для покупателя, и, точно компенсируя в глазах очереди только что проявленное хамство, обратила внимательный, полный привета взгляд к маме, ожидая ее приказаний. Та женщина принялась уговаривать продавщицу, но вновь была отвергнута. Продавщица показала ей точеный высокомерный профиль с двойным от близости к окорокам подбородком. И тогда заговорила мама. Пронзительно и гневно она посмотрела на продавщицу, душа которой сразу же удалилась в пятки, хотя она еще до конца не поняла, с кем имеет дело, и все еще пыталась отстоять свою фиктивную зависимость от чека, без которого никак невозможно выдать двести граммов окорока тамбовского. Вдохновленная мамой очередь заволновалась, вспоминая обо всех неотраженных оскорблениях и недовесах, имевших место в этом отделе, и на продавщицу повеяло общественным холодом. Тем не менее она брякнула ножом о доску, на которой резался окорок, и предложила покупателям встать на ее, продавщицыно, место да попробовать попахать часок-другой, у нее, продавщицы, кроме тамбовского окорока, еще и нервы имеются, а вы шумите, а вы работать мешаете... Женщина, навлекшая на себя немилость продавщицы, переминалась с ноги на ногу и собиралась уже уйти ни с чем, когда мама в энергичных и саркастических выражениях напомнила ей о том, что ее только что смертельно оскорбили, к ней обратились на «ты», и очередь секундантов взволнованно подтвердила это. Женщина снова неуверенно протянула полиэтиленовый мешочек, но продавщица сдунула его с прилавка, как сухой осенний лист, и женщина оставила свое сопротивление. Пощечина была бы вовек не смыта и позор не отомщен, кабы не мама, которая, построив очередь в четкие ряды, размахивая авоськой, повела людей на штурм директорского кабинета. Навстречу шумной процессии вынеслась директриса с лицом, выражавшим крайнее сочувствие и нежность к покупателям, и, призывая в свидетели грузчика, прилепившегося к телефонной трубке в ее кабинете, схватила маму за руки, клянясь самым для нее заветным, что скоро выйдет из декрета Танюша и тогда будет кому работать, а сейчас Лиля одна, за всех одна, и потому нервная, да еще и с мужем недавно разошлась, поймите ее по-человечески! «Все недавно с мужьями разошлись!» — раздался крик из очереди. А жалоба, сами понимаете, продолжала директриса, заглядывая маме в лицо, не одну Лилю лишит прогрессивки, но и весь наш в общем-то здоровый коллектив, включая ее, директрису, которая, конечно же, примет к Лиле меры и задаст ей перцу в конце рабочего дня,— так что нет, не пишите жалобу, а не то пострадают все ни за что ни про что, пела директриса, апеллируя к грузчику, прикипевшему небритой челюстью к трубке.
Но нет, речь шла о человеческом достоинстве, которое мы должны беречь как Родину, в сравнение с ним не могла идти никакая прогрессивка. И мама в окружении очереди, ставшей коллективом единомышленников, стройно подтягивавшим по ее знаку припев, твердила, как Риголетто «отмщенье!», до тех пор, пока... Увидев лицо Таи, мама закусила губу и договорила, суетясь над столом, что в жалобной книге она сделала запись о попрании человеческого достоинства не только лишением заслуженного тамбовского окорока, но и словесным оскорблением...
— И как она выглядела, книга? — проговорила Тая насмешливо.
— Ну как, как! — застенчиво сказала мама.— Я в волнении и не разглядела, кроме того, писали другие товарищи, я же без очков не вижу, а очки оставила дома, на холодильнике в кухне, где я вчера вечером писала письмо бабушке.
Ах, сказочница-мама, кто поверил бы, что она может лишить кого бы то ни было прогрессивки! Нет, никогда бы на это не отважилась мама, и все ее сражения с ветряными мельницами разыгрывались в пламенном, болезненно-чутком к чужой маленькой беде воображении. А ведь сколько Тая ее воспитывала и требовала, чтобы мама на всех фронтах активно и безжалостно боролась со злом, не поддаваясь сладким увещеваниям...
Геля, не решаясь поддержать в присутствии прозорливой сестры мамино реноме, перевела разговор на другое, а Тая, вскоре почувствовав неловкость, замолчала и удалилась к себе.
Это был родной дом, в нем жили родные люди, но с недавнего времени и дом, и городок, и сестра с матерью вызывали в ней глухое сопротивление. Миссия старшей среди этих двух фантазерок, которую они ей навязали, была Тае не по плечу, но признаться в этом было невозможно: слишком много надежд обе женщины связывали с нею, слишком во многом на нее полагались. Они верили, например, что среди них, романтических неумех, вырос человек, умеющий жить, совершать отважные поступки и трезво смотреть на жизнь. Этим впечатлением о себе Тая была обязана нескольким решительным действиям, а также тому успеху, которым она пользовалась среди окружающих. Ей охотно шли навстречу, охотно подчинялись. Мама и Геля гордились: в ней что-то было, было, она умела добиваться того, что задумала.
Два года назад Тае удалось посреди учебного года перевести сестру с вечернего отделения захолустного мединститута на Кавказе на дневное в их областной город. Тогда же мамой была создана легенда о том, как младшая дочь «добилась приема у ректора, которого поймать невозможно, а заговорить с ним страшно, такой человек», как она объяснила ему, что Геле по несправедливости не дали в медучилище диплома с отличием и посему она была вынуждена поступать в институт у черта на куличках на вечернее отделение, какового в здешнем институте не имелось. Ректор со свойственным всем ректорам и директорам жестокосердием немедленно ей отказал, но Тая вцепилась в подлокотники кресла и заявила, что без положительного ответа с места не сойдет. Ошарашенный ее напором ректор призадумался, запросился на конференцию, где его давно уже ждали, но Тая была не лыком шита, и припертый к стене, вмиг очеловечившийся ректор дал свое согласие. Эта легенда слабо смахивала на быль. На самом деле Тая встречалась не с ректором, а с деканом лечебного факультета, славным лысым дядькой и не лишенным чувства юмора, которого она, наверно, чем-то тронула; он изложил ее дело ректору с отменным красноречием, после чего заполнил вызов на имя бедной Гели, писавшей с Кавказа отчаянные письма. Но мама не могла удовлетвориться историей в подобной интерпретации и от себя присовокупила к ней подлокотники кресла и конференцию всесоюзного значения, которая могла сорваться из-за упрямства Таи. Соседка Ира, принимавшая участие во всех делах этого семейства, выслушав маму, с минуту помолчала, соображая, а затем заявила, что, по ее, Ириному, глубокому убеждению, тут имели место небольшие такие шуры-муры, впрочем, очень может быть, вполне невинные, ректор тоже человек, а Тая девочка хорошенькая, хитро прищурившись, добавила умная Ира.
За время отсутствия Таи в этой комнате ничего не изменилось. Мама с Гелей трепетно оберегали ее дух, выразившийся в ничем не искоренимом беспорядке: на письменном столе так и остались разбросанными различные Таины тетрадки, листки с записями, которые трудно расшифровать и ей самой, раскрытые книги. Со всего вытирали пыль, но трогать не трогали, точно Тая с минуты на минуту могла войти и разгневаться оттого, что пропал какой-то листок. На рояле тоже царил сущий бедлам, этажи нот грозили вот-вот рухнуть, все это были в основном ненужные ноты, партитуры опер, которые она так и не раскрыла, сборники этюдов, которые она не играла, совершенно недоступный для нее соль-минорный концерт Брамса, приобретенный из форса, вполне возможные «Времена года», стопка романсов, которые пели с Гелей на два голоса. Геля чуждалась всякого блеска и публичности — тут с ней ничего нельзя было поделать, и она только жалобно улыбалась, когда Тая кричала ей, что самое большое преступление — зарывать в землю свой дар божий. В каждый свой приезд Тая касалась клавишей не без некоторого страха — та небольшая техника, которая у нее некогда имелась, все уходила и уходила из пальцев, вряд ли теперь был ей под силу пассаж из «Грез любви», а в Москве не было времени заниматься. На Тайной кровати все так же сидела Мерседес в вязаной кофте, на стене по-прежнему висела выпущенная Таей к маминому дню рождения стенгазета «Стружка».
Тая приехала только сегодня утром. Она еще не успела оглядеться и побыть одной. Старый ее халат висел на спинке стула, как она бросила его, уезжая. В кармане его она обнаружила не съеденную в прошлый приезд конфету.
Второй ее поступок, за который ее превозносила мама, был не менее фантастичен в маминых глазах. Тая добилась, чтобы к ним наконец провели телефон. И снова воскрес рассказ о подлокотниках кресла, об изверге-директоре телефонной станции, которого Тая и в глаза не видела, а поговорила в высшей степени корректно с его заместителем и вовсе не била графин на его столе. Просто подошла их очередь, о чем на станции как-то забыли, и вот Тая напомнила. Соседка Ира и после этого запнулась о легкой интрижке, но маме стало казаться, что для ее младшей дочери и впрямь все дороги открыты, таково обаяние ее личности. Тут-то на них с Гелей обрушился очередной Тайн сюрприз, самый большой, сюрприз из сюрпризов. Тая целый год после окончания школы готовилась к поступлению в пединститут на музыкальный факультет. В июне она объявила, что хочет проветриться, взяла отпуск в Доме культуры, где работала концертмейстером, и уехала с подружкой Натой в Москву. Ната была известна всему городу как актриса — в драматической студии при этом же ДК она играла главные роли, была броско хороша собой, и поэтому никто не удивился, когда она поехала сдавать экзамены в театральное училище. Но через две недели Ната явилась к Таиной матери и печально донесла ей, что, если Тая напишет, что она поступила в музыкальное училище на теоретическое отделение, не верьте ей: Тая уже прошла третий тур в театральное, сказала Ната и разрыдалась. Через неделю действительно пришла телеграмма о теоретическом отделении. Мама кинулась к Ире. Ира явилась; узнав, в чем дело, она, не говоря ни слова, открыла сервант, где всегда стояла неполная бутылка какого-нибудь вина, оставшегося после последнего семейного торжества Стратоновых, налила три рюмки и произнесла небольшую речь. Уж теперь-то, сказала Ира, точно без небольшого амурчика с директором училища не обошлось, но все это прелестно, и не надо сидеть с физиономиями, будто у вас телевизор перестал показывать, а напротив — радоваться. С ума сбеситься, Тайка — артистка! Снова призвали неутешную Нату, та подтвердила, что конкурс был немыслимый, тыща человек на место, к тому же брали каких-то блатных, та — дочка, эта — племянница, ни кожи, ни рожи, но фамилии сами за себя говорят, так что Тае смертельно повезло, добавила несчастная Ната.
Через день приехала сама Тая и обстоятельно доложила, как она играла программу, Баха сбацала слабенько, сонату вообще запорола, «Баркарола» звучала прилично, а уж на экзамене по сольфеджио диктант написала раньше всех и без единой ошибки. Мама и Геля сочувственно кивали. Умница Ира, сидевшая тут же, уточняла, какие вопросы попались на экзамене по музлитературе, и не уставала восклицать: «Ты подумай! Ну надо же!» Непонятно было, зачем Тая до сих пор разыгрывает всех, но оттого, что она не подозревала, что это все разыгрывают ее, было приятно, и Ира с наслаждением рассказывала потом, как актриска прибежала к ней поздно вечером — признаваться. Теперь уже у мамы, у Гели, да и у Иры не оставалось сомнений в том, что Таю ждет блестящее будущее, полное приглашений на съемки, заграниц и фотографий в журнале «Экран». Но у самой Таи сомнения были, хотя она не смела ни с кем поделиться ими,— более того, сдав зимнюю сессию, она всерьез подумывала о том, чтобы бросить училище. Она уже училась на втором курсе. Жалко, конечно, бросать, но что-то надо делать. Вот об этом она сегодня и хотела переговорить с подружкой Натой, не столь любимой, сколь любящей. Всякий раз, когда Тая приезжала домой, она шла к подружке с некоторым душевным ущемлением: ей казалось, она завладела теми дарами, которые по праву принадлежали Нате, она отбила у Наты саму судьбу, в последний миг заменив ее собою, и оттого подружка не поступила в вожделенное училище. За это Тая и поплатилась теперешней сердечной маетой. Не то чтоб она не обладала способностями — кое-какой талантишко имелся, по актерскому мастерству была пятерка; не то чтоб ее мучило то обстоятельство, что она вовсе не падает в обморок при виде театральных кулис и редко приходит в восторг от спектаклей — никто на курсе особенно не падал в обморок, а восторгаться считалось немножко моветоном, никто но стремился в жертвы искусства, скорее наоборот — искусство, как это случается довольно часто, делалось жертвой и жертвоприносилось чему-то более конкретному и ощутимому. Просто это было не ее дело, а те славные в общем-то люди, окружавшие Таю, были не ее людьми, а скорее Натиными, все было Натино, не ее, а что до нее, то ей казалось, она уклонилась от некоего важного долга — какого? Очевидно, был у нее другой долг... Кроме того,— о, тут бы соседка Ира порадовалась своей прозорливости! — отношения с руководителем курса совершенно зашли в тупик; и любовь была не той любовью. Возможно, оба они, Святослав Владимирович и Тая, добросовестно, усердно разыгрывали сцены из известной пьесы Гауптмана — разница в возрасте была уничтожающей, чувства обоих неопределенны; романтический порыв, встречи под бледной городской луной, ничего конкретного с одной стороны, с другой — все ужасающе конкретно — семья, квартира, большая общественная деятельность, звание, которое еще не утвердили, ученики, которые что-то чувствовали, подшучивали над Таей, стихотворные строчки, воспоминания о юности, несытое тоскливое чувство, болезненно отзывавшееся в нем отсутствие Таи на занятиях, молчание в телефонной трубке, прочее, прочее... Что уж говорить про Таю, которая, вызвав все это на себя, решительно не знала, как поступить дальше — замуж она за него не собиралась, ее вполне устраивали те же взгляды, те же телефонные звонки, сирень, однажды весной присланная ей в общежитие с мальчишкой-осветителем. Но ни один роман не стоит на месте, подозревала Тая, он либо должен рассосаться со временем, либо иметь свой конец—какой? какой? — она не робкого была десятка, но тут что-то робела, ее устраивало то, что есть, пугало то, что будет, и надо было как-то увернуться, закончить все не заканчивая, потому что любовь, потому что сирень... Со всем этим Тая, поставив вещи, поцеловав своих родных, понеслась к Нате. Но оказалось вдруг — Нате не до нее, она замуж вышла. Да, люди в двадцать лет замуж выходят, вот как, пора. Смотри и ты не засидись. Ната, выслушав на кухне за чисткой картошки и про луну, и про телефонные будки с ледяными в зимнюю стужу дисками, и про явление мальчишки-осветителя, сказала взросло: «По-прежнему себе придумываешь трудности». Нате теперь легко давались диагнозы. Она жила не придуманными страстями, а нормальной человеческой жизнью, что и не преминула не без торжества сообщить Тае. Нор-маль-ной. И другой мне отныне не надобно. Намек был на нее, на Таю,— больше подружка не верит всем ее бредням о том, что надо уезжать далеко от дома, чтобы найти себя, и что не надо бояться неустроенности, и прочее. Она переросла Таин романтизм, Таин авторитет навеки подорван для нее. Так это надо было понимать. Оказалось, Натин муж — тот самый Гена, из-за которого в десятом классе Тая сходила с ума, чем бурно делилась с Натой, пока они не уехали в Москву. Гена тогда казался недоступным: красавец, студент журфака МГУ, правда заочник, шахматист-разрядник, фигура для городка заметная. Как, однако, все это банально, близкие подруги наследуют наше чувство, из поверенных и наблюдателей они таинственным образом превращаются в обладательниц тех, кого мы любили, из нахлебников наших страстей — в прямые наследники. Ната представила мужа подруге с лицом, на котором было написано следующее: она наверстала ускользнувшее было от нее счастье, она просто впрыгнула в другой поезд, который кратчайшим путем доставит ее к цели. Гена, пожимая Тайну руку, поправил: он не журналист, он не любит, прошу заметить, когда его величают пышным именем журналиста, он всего лишь газетчик, обыкновенный газетчик, просто и скромно. С первого взгляда было видно, что у них с Натой любовь, и не та, что у Таи со Святославом Владимировичем, когда какие-то невидимые пузырьки подымаются и лопаются на поверхности и напиток пока еще шипит и искрится, а другая, спокойная, хорошая, какая и должна быть у мужа с женой. Ната хвалилась, что начинает опускаться, глаза не красит, хула-хуп не вертит. Гена, как полагалось, прервал ее: ты моя красавица. Все было так, но Тае казалось, что на самом деле перед ней, изголодавшейся по нормальной жизни с нормальными отношениями, не имеющей своего угла, надежд на устойчивое будущее, настоящего друга и советчика, разыгрывается домашний спектакль, где каждая реплика уже давно выверена на людях. Показалось: когда Гена, большой, красивый, схватил жену на руки, усадил за стол, чтобы она не бегала поминутно на кухню, Ната бросила па подругу мгновенный торжествующий взгляд. Боже мой, вдруг пронеслось у Таи, так ведь и я — я тоже приезжала к ней из Москвы, чтобы делиться своими успехами, своим торжеством, к ней, у которой все отобрала! Эта мысль ошеломила Таю. Она, такая умная и чуткая, могла быть столь изощренно жестокой, слепой, беспощадной, чтобы хвалиться перед тем, кто менее удачлив, топтать чужое самолюбие, так по-хамски перечислять перед голодным все лакомые блюда, которыми ее судьба не обнесла... И Тая тихонько весь вечер смотрела семейный альбом, свидетельство недоступного ей счастья, похваливала Натины пирожки и качество Гениных снимков, пренебрежительно отозвалась о своем училище и о своих способностях — это было принято со снисходительным протестом. Стыдно, стыдно, прочь отсюда!
Тая стояла посреди комнаты с чувством, что надо что-то додумать, решить, пока есть время, каникулы, передышка, ей больше не правилась ни та жизнь, ни та игра, в которую она так упоительно играла, ни — еще хуже — она сама себе больше не нравилась, с этим надо что-то делать, и хорошо, что есть комната, где можно предаться размышлениям и где ее никто не может потревожить.
В дверь поскреблись. Вошла мама, что-то разыскивая у нее в комнате, включила машинально репродуктор, открыла крышку рояля, пробежала пальцем глиссандо; ничего-то она не искала, никакой розовый шарф, на который сослалась, подбираясь поближе к Тае, просто пришла с неотложной беседой. (Господи, и тут не спрятаться, достанут!) По радио заиграли бодрый марш из «Фауста». Мама моментально выключила радио, заявив, что в последнее время не переносит Верди.
— Это не из «Аиды»,— раздраженным голосом сказала Тая,— неужели не узнаешь?
— Да, да,— рассеянно сказала мама, присматриваясь к ней.
Для откровенного разговора маме необходим был разбег, которым послужил ее рассказ об учениках-вечерниках; хорошие ребята, хоть и недостаточно развитые, воспитанные, но с ними еще интересней, чем с маменькиными сынками и доченьками, которые учатся в обычной школе, благодарная публика, восприимчивая, музыку на уроках с удовольствием слушают. Все это отрадно, люди, полюбившие книгу и музыку, должны совершать в жизни меньше дурных поступков, это мое убеждение, горячась, говорила мама. Тут бы Тая с ней поспорила, но к чему? Об учениках рассказала живо, интересно, но все это была увертюра. Наступила пауза. Тая нахмурила брови. Мама переменила выражение лица и позу. Она сидела за столом, Тая на своей кровати. Мама со стулом подъехала ближе.
— Речь пойдет о Геле.
И слава богу. Тая почувствовала облегчение. Не хватало только, чтобы мама заговорила о том, чем сейчас интересовались все,— Тайным будущим, это была болезненная для нее тема. О Геле всегда пожалуйста. Что может быть приятнее, чем поговорить о Геле. С Гелей все ясно, окончит мединститут, без куска хлеба не останется. Геля — это не больно.
— Не знаю, пишет ли тебе Геля о своем Олеге,— произнесла мама, испытующе глядя на нее, но Тая перебила ее:
— Пишет.
— Вот как,— продолжала мама,— не знаю, что именно она тебе пишет, но там — беда.
И замолчала, ожидая вопроса. Тая была вынуждена задать его:
— Какая еще беда?
— Не сердись, детка, я не преувеличиваю на этот раз.
— Надеюсь, она не в положении?
Мама покраснела и отвела глаза.
— Пожалуйста,— сухо произнесла Тая,— говори все как есть, я не ребенок.
— Да,— огорченно проронила мама,— я понимаю.— Она смотрела, как Тая вертит в руках куклу. Кукла мешала. Тая усмехнулась и отбросила Мерседес в ноги.
— Значит, ты думаешь, твоя сестра способна... то есть у нее могут быть те отношения, при которых... которые... словом, как у мужа и жены?
В неумении мамы называть вещи своими именами заключалось что-то мучительное для Таи. Страх перед словом — куда уж тут перед делом, перед поступком, и как следствие этого страха — вот эта самая жалкая вечерняя школа, хотя с ее умом и красноречием могла бы блистать в университете... да еще и Гелин никому не известный удивительный голос. О, эта проклятая боязнь наступить кому-то на ногу, когда вокруг только и делают, что пихают друг друга локтями.
— Одним словом,— стараясь угодить Тае, решительным тоном сказала мама,— она страшно любит этого человека и готова ради него на все. Ей скоро двадцать четыре года, пора думать о будущем, а он все морочит ей голову, но жениться на ней, видимо, не собирается.
— Откуда такие сведения?
Мама, смутившись, примолкла. Видно было, что она собирает в себе силы для какого-то решающего признания.
— Откуда тебе это известно?
Мама,
наклонив упрямо лоб, сказала:
— Я была у него втайне от Гели.
Вот оно что.
Тая прикрыла глаза. В который раз появилось ощущение, что как она ни цепляется за жизнь, как ни старается, ее обеими руками отталкивают от того, за что она держится из последних сил, и делает это не коварный враг, изощренный недоброжелатель, а самые родные на свете люди, с которыми невозможно бороться, от которых нельзя откреститься. Бессильное и мучительное чувство своей зависимости ото всего: болезней матери, ее неумелого стремления наладить их общую жизнь, от неудач сестры в эту минуту так сильно и пророчески заговорило в ней, что все ее мелкие достижения, с трудом и отвагой отвоеванные рубежи показались погребенными под полной безнадежностью. Нет, из этого вовеки не выкарабкаться. Это — как камни на ногах, как гири, не взлететь. Вечная готовность матери к несчастью и почти радость, когда оно наконец разразилось: я же говорила, я предчувствовала! — и ее запоздалые неуклюжие попытки изменить ход судьбы.
— Зачем? — простонала Тая.—
Зачем же?!
Мама поежилась, но овладела
собой.
— Зачем ты это сделала,— продолжала тихо Тая,— так унижать Гелю, нет, невозможно, безбожно! Что он теперь о Геле подумает!
— Да! — воскликнула мама.— Тебе важно, что он подумает о Геле, и неважно, что он над ней вытворяет, тебе неважно, что она чахнет, изводится этой неопределенностью! Она заканчивает институт, ее распределят в какую-нибудь глухомань, где она будет одинока, а он —у таких, как он, все всегда бывает прекрасно! — он останется при клинике и будет преуспевать. Я не могу спокойно созерцать ее страдания и смотреть, как он насмехается над ней!
— Хорошо,— устало произнесла Тая,— о чем вы говорили?
Мама почувствовала, что одержала над ней верх. Голос ее сделался уверенным.
— О Геле, конечно. Я спросила его, что он намерен делать. Он стал что-то плести о трудном Гелином характере — это у Гелечки-то трудный характер! Он просто хочет отхватить кого-нибудь повыгодней. Был бы с вами отец — попробовал бы этот тип так себя вести с Гелей!
— Что думает сама Геля?
— А вот не знаю,— пылко сказала мама,— затаилась и молчит. А он теперь бывает у нас не часто. Если б ты видела его физиономию — самоуверенная, упрямая. Лучше б ты не переводила ее сюда, хотя она, наверное, и там бы влипла в какую-нибудь историю, такая доверчивая.
— Может, мне ее теперь в Москву перевести? — хмуро сказала Тая.
— Поздно,— серьезно ответила
мама,— теперь поздно.
Надо сделать
другое — тебе с ним встретиться и
поговорить.
«Да, эта их беспомощность когда-нибудь утянет и меня на дно»,— подумала Тая.
— Зачем это?
Мама перебралась к ней на кровать и взяла ее за руку.
— Ты сумеешь поговорить с ним, чтобы все стало ясно наконец. Тебя он послушает, я просто не сумела подобрать слова, может, погорячилась, вот он и замкнулся. Сделай это ради меня, я ведь редко тебя о чем-нибудь прошу! Ради сестры! Спроси его...
— Что, что спросить?! Он скажет — я не люблю ее, вот и все!
Мама усиленно замотала головой.
— В том-то и дело, что нет. Он сказал, что любит ее. Но когда я заговорила о том, что он собирается делать, замолчал, и все тут. Ты скажи ему, пусть его не волнует жилищная проблема, мы нашу квартиру разменяем, пусть живут. Чем могу, постараюсь им помочь. Поговори с ним, умоляю тебя!
Автобуса, как всегда, долго не было, а когда он подкатил, Тая так глубоко задумалась, что с полминуты рассеянно созерцала толпу замерзших разгневанных людей, втискивающихся в задние двери. Спохватившись, она тоже попыталась ухватиться за поручень, чья-то добрая рука подхватила ее, вжала вовнутрь, и она стала пассажиром.
Двери с усилием закрылись, автобус медленно, отдуваясь, потащился по заледеневшей дороге мимо железной ограды ремесленного училища, где однажды в детстве, летом, были заросли барбарисовых кустов, шиповника, акации, настоящие джунгли, а потом игры перенеслись в более отдаленные от дома места, к парковому озеру, в лес, за Волгу, все дальше и дальше от дома — автобус туда не ходил.
— Граждане, поплотнее, поплотнее,— упрашивала пожилая кондукторша. От ее присутствия в автобусе веяло домашним, уютным — здесь кондуктор с катушками билетов на груди, дома — чья-то бабуля с клубком и спицами, граждане ее слушались, дышали друг другу в мокрые воротники и шапки. За окном автобуса угадывались однообразные дома, чья-то бедная фантазия, ей-богу, создала этот город наспех. А ведь когда-то он был любим весь напролет, от городского парка на окраине до угрюмого с редкими деревьями кладбища, от единственного кинотеатра до железнодорожного полотна. Остановки «Универмаг», «Городской фонтан», «Почта» — вот и пролетели весь город навылет, вот и заснеженное долгое туманное поле, и кондукторша заснула над ним как над книгой, скучное зимнее поле, и все в автобусе, казалось, задремали.
Просить — вот что самое ненужное и гадкое в жизни, думала Тая. Просить, умолять, вымогать, клянчить: можно выстраивать бесконечно сужающийся в своем смысле коридор слов, из которого не выбраться, эти глаголы обозначают противодействие собственной душе, от просьб и вымогательств она, нежный плод, набивает такие синяки, от которых можно сгнить заживо. Просить можно порядочного, иной только насладится зрелищем твоего унижения. Подать прошение о помиловании, апеллировать к высшей инстанции, просить жалобную книгу, взывать к совести — ох уж нет. Надо молча терпеть, дорогая моя, это вполне приемлемое для нас с тобой действие, ведь речь идет о твоей, да и о моей чести, в сравнении с которой рассуждения о твоем будущем — ничто, и ты обязана быть гордой, кричала себе Тая, наконец усевшись и прижавшись лбом к стеклу.
Впереди нее сидели и болтали две девочки, две подружки, вернее, говорила одна, а другая только кивала — у нее и пальтишко было поскромнее, и шапочка, она все время порывалась встать и уступить место, хотя старушек поблизости не было, но соседка ее удерживала. Соседка должна была рассказать всему автобусу, что на Черное море она этим летом не поедет, скорее всего папа возьмет курсовку в Болгарию, если только не в Югославию, лично она бы охотней поехала на Адриатику, но папа-чудак мечтает увидеть Габров. Подружка слушала о чужом благополучии с завидным терпением; тут не могла идти речь о равенстве, хотя обе девочки сидели в одном и том же автобусе и от них пахло одними и теми же духами, за которыми у одной стояли ночные дежурства в клинике, пи-рожок на обед и отчаянная борьба за стипендию, а у другой ничего не стояло, и французские духи подарил ей любящий отец. Наверное, и белые халаты, выглядывающие из сумок в полиэтиленовых пакетах, также не могли уравнять обеих подружек, чем-то они наверняка разнились, эти медицинские маскировочные халаты. Может, девочки — однокурсницы Гели, а какой халат у Гели? Геля сама шьет, симпатичный, значит, должен был быть халатик...
Но что можно придумать, чем закалить душу, чтобы никто не смел обижать, обвешивать, не отдавать долги, не брать в жены — что? Натаскать себя, чтобы сделаться такой, как те, кто обижает, обвешивает, не отдает долги и не держит слово? Как натаскать, с чего начать? Перестать уступать старушкам место в транспорте? Не здороваться с вахтершами, сорить на улицах, хамить в магазине? Как-то мелко все это. А им не мелко? Им можно? Им хорошо? Автобус плавно катил по дороге мимо заснеженных дачных участков, скучный провинциальный пейзаж, грязный слякотный снег на обочинах, халтурные декорации к состряпанной на злобу дня драме, дежурные реплики в автобусе, фальшивые модуляции голоса героини, сидящей впереди Таи, с которой не посмеют обойтись как с Гелей, ее папа в Югославию повезет отдыхать! Остановка «Красноармейская». И Тая, глухо сопротивляясь каждому своему шагу, сдавленным голосом спросила дорогу к логовищу врага. Вобрав голову в плечи, она пошла вперед. Рядом с общежитием из телефонной будки ее окликнул парень: он наберет номер, а она пусть будет так любезна и женским голосом пригласит к аппарату Людмилу. Тая машинально взяла трубку: ей ответила сама Людмила, и парень, забыв поблагодарить, вырвал трубку у нее из рук, отвернувшись к стене, засекретничал. «Обманывают мужа,— решила Тая,— хорошего человека, инженера, который вкалывает весь божий день. А может, он и не инженер, и не хороший человек вовсе, и они правильно делают, что обманывают? Можно ли поступать правильно, обманывая?.. Я бы расцарапала этому Олегу физиономию, но надо обманывать, надо говорить с ним вежливо и вежливо обманывать... Да вернулся ли он с занятий?..»
Оказалось, вернулся. Об этом ей сообщил открывший дверь его комнаты в общежитии юноша, немедленно принятый ею за Олега по причине респектабельности светло-серого костюма и густого запаха одеколона. Но пришлось переадресовать моментально возникшую к нему ненависть.
— Нет, я не Олег,— сказал юноша и, оглядев Таю, любезно добавил: — К сожалению.
Тае было не до кокетства.
— Он играет в карты,— подождав, сказав юноша,— что ж, я его позову.
Тая вошла в комнату, и он убежал.
«Каков интеллект,— зло подумала Тая, приобщая и это обстоятельство к ясному для нее и без того «делу об Олеге»,— в карты играет! А этот красавец сейчас вызовет его хихикая, к тебе, мол, барышня заявилась... Пошло. Спасибо, голые женщины не висят на стенах». На стене висела карта Атлантического океана с очерченным красным карандашом Бермудским треугольником. Четыре железные кровати — на одной подушка покрыта связанным крючком покрывалом, наверное, мама кому-то прислала. Растерзанный Драйзер на столе, «Финансист». За окном сетка с пакетом кефира.
В комнату вошел худой очкарик в тренировочном костюме, буркнул «здрасте» и стал рыться в стенном шкафу у двери. «Вот сейчас он войдет,— думала Тая,— я ему все сразу выскажу, прямо при этом очкарике, и хлопну дверью. Нет, глупо — дверь аккуратно прикрою».
Вернулся посланный ею красавец, схватил с пола спортивную сумку и, бросив Тае, «всего доброго», вышел за дверь. Тая изумилась и кинулась следом за ним.
— Стойте,— крикнула она уже в конец коридора,— Олег придет или нет?
Очкарик, незаметно облачившись в пиджак, выглянул из комнаты.
— Олег — это я.
Тая обернулась к нему. Перед нею стояло безобидное веснушчатое существо в кургузом пиджачке, который оно в смущении оправляло, невыразительного роста, в смешном тренировочном трико. В одно мгновение Тая измерила всю глубину пропасти, отделяющей образ, созданный при содействии мамы, от увиденного ею. Эта пропасть была символична и характерна для нее самой. Тая не знала, как ее заполнить. Ту громоподобную речь, которую она держала про себя в автобусе, никак нельзя было приспособить ни к этим трико, ни к веснушкам, ни к очкам. Тая пробормотала:
— Ага.
Он вопросительно смотрел на нее. Подобное чувство нетерпения, которое сейчас мучило ее, приходилось испытывать, когда делали на первом курсе этюды и партнер попадался дубоватый. Но речь была заготовлена, надо, было ее говорить.
— Я сестра Гели. (Его лицо сделалось радостно-внимательным и почтительным. Тая не купилась.) Нет, не перебивайте, что вы обо мне наслышаны. Мне ни к чему любезности, тем более что я вам их говорить не собираюсь. Ангелина просила передать вам, чтобы вы оставили ее в покое. Она в вас не нуждается.
Тут Тая поняла, насколько это все глупо. Соблазнитель Гели, казалось, не удивился ее филиппике.
— Чаю хотите?
Тая взялась за дверную ручку.
— Как хотите,— молвил он,— только я сейчас с Гелей ходил в кино. «И снова утро»,— стесняясь, доложил он. Видимо, ему хотелось усмехнуться, но он боялся обидеть свою обличительницу.— Геля мне ничего подобного не говорила.
— Зато я вам говорю,— перебила его Тая,— я, ее сестра!
Он смущенно наклонил голову, точно не мог видеть ее разгневанную физиономию.
— Вы еще совсем маленькая девочка,— произнес он,— извините...
Тая выскочила и изо всех сил хлопнула дверью. Она помчалась по коридору, стремясь уйти от позора как можно быстрее, и выскочила на улицу. И тут радостный зимний день, сверкая роскошным снегом на газонах, ударил ей в глаза. Кругом-то, оказывается, красота, немыслимая, все в инее и снегу, в высоком небе маленькие робкие облака солнце, прохожие смотрят весело, никто никого не подсиживает, не обвешивает, не обманывает; и вот наш автобус миролюбиво катит навстречу, симпатичный, между прочим, № 128, просторный, в каждом замороженном окне прогрето дыханием свое окошко величиной с кулак.
В автобусе говорили о хорошем: о том, как часто теперь стали ходить автобусы, и что скоро будут курсировать экспрессы, и что Тоня родила девочку, и Мишка среди зимы притащил в роддом розы, и что Анна Кирилловна замечательно рвет зубы, не то что Марья Тимофеевна, у которой дочка вышла замуж за француза, самого настоящего, из Парижа, и вся из себя теперь француженка. Нет, мы взяли щенка у Крутовых, говорили справа, там такая родословная, что древо надо рисовать во всю стену; ничего страшного, уверяли слева, если арбуз незрелый, надо его засолить, знаете, как вкусно, я никогда не расстраиваюсь, если зеленый, и сразу засаливаю; не самка, а сука, объяснял парень девушке, сука, в смысле девочка-щенок, вырастет, будут щенята — могу подарить. Тая снова вспомнила первокурсные свои этюды, убогую, высосанную из пальца драматургию, например, сестра через десять лет после войны узнает потерянного во время эвакуации брата по родинке на плече, смех один, чушь, но ее хвалил Святослав Владимирович за точность оценок. Как мучительно было изобретать эти этюды с предлагаемыми обстоятельствами, которые, конечно, случаются в жизни, но не разлиты в ней, как вот это, например: вошел парнишка, спрятался за спинами пассажиров, заяц; женщина с чемоданом на дороге ловит машину — с мужем поссорилась, спешит к маме, словом, со сторон сплошные этюды, а ты выдумываешь, мало видишь глазами, слышишь ушами. Вчерашний визит к подружке — этюд, этюд и разговор с мамой, и эта поездка какой этюдище... Фу как стыдно, думала Тая, весело катя домой.
Геля была уже дома и за обеденным столом читала «Нервные болезни». Именно читала, а не учила, такое нее было увлеченное лицо. Тая, не снимая шубы, стала в дверях.
— Геля, пошли в кино,— сказала она,— хорошее кино идет. «И снова утро».
Геля оторвалась от учебника и посмотрела наконец в Таину сторону.
— Спасибо,— ровным голосом сказала она.— Я уже видела.
— Знаешь,— сказала Тая,— я только что была у твоего Олега.
За спиной Таи прозвучали вкрадчивые шаги: мама шла из кухни с тарелкой бульона и еще в коридоре сделала оглянувшейся Тае значительную мину.
— Мама,— вздохнув, произнесла Геля, — Тая зачем-то ездила к Олегу? Ты не можешь объяснить зачем?
Мама донесла тарелку и поставила ее на стол, соображая. Она метнула взгляд в Таину сторону:
— Это я ее просила. Не сердись, детка.
— Знаешь, мама,— сказала Тая,— мне он вовсе не показался таким самоуверенным и нахальным, как ты расписывала.
— Правда? — сказала мама неуверенно.— Нет, нет, у меня создалось обратное впечатление, мне казалось, что это весьма довольный собственной особой человек. Впрочем, я его не так часто вижу в нашем доме, особенно последнее время.
Геля тихонько засмеялась и покачала головой.
— Геля, мама тоже с ним о тебе разговаривала,— сказала Тая.
Геля захлопнула учебник и придвинула к себе тарелку с бульоном.
— И о чем же вы с ним говорили, дорогие мои?
— О тебе, о вас,— взволнованно сказала мама,— меня волнует неопределенность в ваших отношениях.
— Никакой неопределенности нет,— мягко возразила Геля,— вечно ты все трагедии сочиняешь.
— Неделю назад ты плакала,— обиженным голосом произнесла мама.
— Да, тогда мы поссорились, и,
кстати, я была виновата. Мама, мама, мы
сами разберемся. Вот видишь, какой он
славный! — Геля засмеялась.— Он мне
тебя не выдал. Он вовсе не самодовольный,
наоборот, все время в себе сомневается,
и в том, что из него настоящий врач
получится, и во мне. Он тебе просто
кажется таким, потому что ты его всегда
видишь в вязаном свитере, он Альке
важности придает. А ты-то зачем поддалась,
Тая? Ты
что у него делала? Вступалась
за честь сестры? Беда мне с вами обеими.
Ты, Тая, еще совсем маленькая д е вочка.
Геля повторила те самые слова, которые Тая услышала на прощанье от ее возлюбленного. От этого совпадения Тае стало так радостно, так легко и так наконец все понятно, что она подпрыгнула, щелкнула пальцами возле маминого носа и убежала раздеваться в прихожую.
— Где там вчерашний исключительный и замечательный окорок? — закричала она маме.— Неси-ка сюда этот чудесный тамбовский окорок, я голодна, как сорок тысяч братьев.
Потом мама с Гелей уселись смотреть телевизор, а Тая ущла к себе. В комнате за ее отсутствие был наведен порядок. Теперь мама могла это сделать — Тая была еще с ней. В тот раз, когда она летом уезжала из дома, только мама провожала ее. Гелю затребовала к себе подруга, у которой приболел ребенок, и Тая с мамой поехали на вокзал без нее. Тая рвалась в Москву, родной городок сделался тесен, пуст, не имел больше ни смысла, ни значения, в нем не над кем стало одерживать победы, воздух в нем застоялся, и неживая зелень тополей утратила способность выделять необходимый для Таи озон. Тогда как там, на северо-западе, в двадцати двух часах томительного путешествия, поспешных плацкартных откровений, ночной духоты, некрепкого чая, разворачивалась во всю ширь настоящая жизнь. Захудалая окраина существования, откуда рвалась прочь Тая, была так же отлична от конечного пункта ее путешествия, средоточия бытия, как провинциальная драма от высокой трагедии. Там было все: театры, книги, которых здесь нигде не достать, люди, которых не увидеть на скучных улочках этого города, фантастические возможности, невероятная любовь. Там были лабиринты, здесь прямолинейные улицы с названиями, от которых можно было прийти в отчаянье. Там после занятий они гуляли со Святославом Владимировичем, и она видела, что его узнают, оглядываются им вслед, размышляя, какое чудесное родство связывает знаменитого артиста с безымянной девочкой. Иногда за ними увязывался мальчишка Петров — самый младший и неоперившийся из ребят на их курсе, он избрал Таю предметом обожания, сквозь которое трудно было прорваться им со Святославом Владимировичем, ибо когда они останавливались у переулка, ведущего в общежитие, оба мужчины, пожилой и совсем юный, заложив руки за спину, умолкали и смотрели себе под ноги. «Тебе куда, Петров?» — грубо спрашивал Святослав Владимирович, которому пора было сворачивать направо. «Нам с Таей по пути»,— рискуя карьерой, многозначительно отвечал Петров, и Тая, проклиная в душе этого деспота, в мрачном молчании шла с ним до общежития. Прорвать оборону никому не известного Петрова его знаменитому сопернику было трудно, почти невозможно, в самом деле, не лишать же его ролей... И вот Петров вел ее в молчаливом торжестве, водрузив над ней свой черный зонт, не смея, однако, идти с ней слишком близко, а Тая поручала проливному дождю весь свой нерастраченный гнев. Но что Петрову ливень — еще один Таин дар, он, пожалуй, и переодеваться не станет, сушить одежду не будет, он та-ко-ой!..
И вдруг там, где тетка безмятежно торговала под навесом клубникой в ящиках, пропасть разверзлась перед Таей, и она пропадала в ней, не замеченная Петровым, никем, никем,— в хвосте очереди, прижатой к стенке здания, стоял грозный призрак с молоньей в руке, мгновенно достигшей ее сердца...
Этот человек был безымянным и не известным никому из толпы прохожих, кроме нее, один из покупателей, самый крайний, за которым она заняла очередь. Он вежливо подтвердил, что он крайний и есть, не угадав ее и не слыша, как страстно и сильно бьется в ней полученное от него сердце; он не узнал ее и не мог узнать, хотя говорили, что она похожа на свою мать, но столько лет прошло, и он не помнит, ни ее, ни мать. Пришлось уцепиться за Петрова, единственную реальность, чтобы не отнесло бешеным потоком в полузабытое прошлое, где она была нелюбимой и странной девочкой, рыдавшей от каждого проблеска нелюбви человека, стоящего сейчас перед нею, а он был ее отцом. Он держал зонт над девочкой-подростком стольких лет, сколько длится молчаливое мамино страдание. Девочка не вертелась, а молча и достойно стояла рядом и держала отца за ту руку, за которую когда-то, будучи младше ее, цеплялась Тая. Девочка была очень похожа на него в отличие от Таи. Очередь двигалась, дождь шел, прошлое вздымалось из земли, гремя ржавой цепью, отряхиваясь ото сна, и лицо Таи не выражало ровным счетом ничего, потому что Петров не сводил с нее взгляда и спокойно бубнил свое. Что надо было сделать? Окликнуть? Бросить перед ним окровавленные доказательства, письмена? Свидетельство о расторжении их жизни? Закричать — держите его! Зарезать ни о чем не подозревающую невинную его дочь, приготовить из нее блюдо и подать ему на ужин? Что, что? — время, пронзенное стрелой, все равно ни за что не цеплялось, летело, очередь шла, облака летели, сны проходили, осень наступала, никто же не умер, и все в жизни бывает, не надо ни голосить, ни заламывать рук. Отец купил для своей девочки клубнику, и она дисциплинированно не полезла рукою в сверток. И Тая купила себе клубнику, глядя в безвозвратно, навеки уходящую фигуру, так и не закричав, не убив, не повиснув на шее. Все было кончено. И дождь смывает все следы. Через месяц все зажило, вспоминалось с юмором. Когда приехала домой, рассказала Геле, та разволновалась, даже всплакнула, и тогда уже Тая не посмела ей признаться, что все это она выдумала, никакого отца в очереди не было, а Святослав Владимирович хвалил за этюд, она здорово сыграла. «Ни слова маме»,— твердила побледневшая сестра. А на следующий день Геля убежала к захворавшему ребенку подруги, а мама поехала провожать Таю. Они поставили вещи и вышли из вагона. У табачного киоска на перроне Тая сказала: «Ну ладно, пока». Они обнялись, мама потрепала Таю по голове и стала уходить. Тая тоже пошла прочь, но оглянулась. И вдруг увидела, как мама, точно ослепшая, страшными и изумленными глазами смотрит вправо, на лестницу, по которой должна была уйти дочь. Тая стояла в стороне, мама ее не видела, а искала глазами среди тех, кто шел вверх по лестнице, но все не видела и не видела, не видела ничего, кроме железной лестницы, по которой должна была уйти Тая. Так вот какое у нее бывает лицо, когда никого из нас нет рядом, вот что таит, скрывает она от нас, предлагая нам верить в свое относительное благополучие и душевный покой. Но Тая все уходила и уходила, все время уходила — куда! — а в комнате все оставалось так, как она бросила, и халат, и ноты на крышке рояля, и Мерседес на кровати, и Геля, все время убегавшая кому-то на помощь; и мама, ожидающая счастья дочерей, скромно стояла в стороне, все время смотрела вслед — то одной дочери, то другой, то просто в спину стремительно уходящей жизни.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





