ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
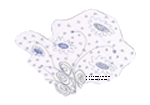


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Коваленко Римма
Анну я знаю всю жизнь, то есть очень давно, с молодости. В последние годы она возникает передо мной как черный знак. Если слышишь в телефонной трубке: «Господи, Оля, что же мы с тобой такие дикие? Что же мы так бездарно хороним нашу дружбу?» — значит, Анна вот-вот втянет меня в одну из своих бесчисленных историй. Она то строила дачу, то собиралась ехать на какой-то таинственный остров Курильской гряды, название которого произносить не имела права, то изучала новейшим скоростным методом турецкий язык. И все это не как у людей — покупала, уезжала, изучала, — а с сотней осложнений, «слушай, ты должна это знать», «слушай, ты должна меня выручить». Несколько раз мы с ней крупно ссорились, годами не здоровались, а потом мирились, сближались, отдалялись. Почему-то во время наших ссор происходили все самые значительные события в ее и моей жизни — выходили замуж, рожали детей, достигали чего-то по службе. Я так и не знаю, кто был ее мужем, какой институт она окончила и где работает. Муж у нее, кажется, был один, зато институтов поменяла несколько, везде блестяще проходила конкурсы и вылетала иногда после первой же сессии. Так же и с работой, где только не работала, даже комендантом соседнего кооперативного дома. Сейчас я точно знаю, что всегда любила Анну, поэтому и тосковала по ней во время наших ссор и с радостью мирилась, хотя понимала, чем это вскорости обернется: опять она возьмет деньги в долг и не отдаст или скажет кому-то по телефону, а я услышу из кухни: «Я сейчас тут у одной моралистки...» — или вообще в разгар нашей дружбы заведет себе новую подругу, начнет пропадать у нее по вечерам, а дочь ее Кира будет «не узнавать» мой голос по телефону и отвечать: «Мама в командировке, позвоните в конце недели». В самом конце недели, то есть в субботу, у Анны должны были быть очень плохи дела, чтобы она оказалась дома. А когда я свыкалась с обидой и говорила себе: «Это же Анна. Радуйся, что она дала тебе передышку», — как тут же слышался в трубке знакомый голосок: «Господи, Оля, что же мы с тобой такие дикие?..»
Вчера после долгого перерыва был как раз такой звонок. Ей понадобился совет. «Слушай, ты должна мне посоветовать». Я ответила: «Приходи». Она попыталась вытащить из меня совет более быстрым способом: «Давай сначала прикинем по телефону».— «Никаких прикидок,— сказала я,— и купи по дороге пачку кофе». Это я ее, конечно, огрела, тут уж ей пришлось поразмышлять, стоит ли мой совет такой цены. Анна скуповата. Дочь моя Тамара выражается более определенно: «Жмотка. Она в троллейбусе пятак в кулаке держит, пока контролер не покажется». Анна платит ей тоже нелюбовью: «Я думала, что Томка твоя, когда вырастет, выровняется. Но чего не случилось, того не случилось». Это, разумеется, не турецкий язык, но перевода требует: бедняжка, как родилась некрасивой, так ничего ей уже помочь не может. И это при том, что Томка и красива, и хорошо одевается. Но у Анны свои мерки красоты, и я давно уже с ней по этому поводу не спорю.
Анна явилась с пустыми руками. «Чайку попьем. В наши годики по вечерам кофе уже не пьют». Сняла в прихожей туфли и в чулках проследовала на кухню. Я спросила:
— Что это ты как в юрте? Забыла нас совсем или с кем перепутала?
— А где твои? — осведомилась Анна, скользнув глазами по плите, холодильнику и посудным полкам. — А туфли я теперь везде снимаю, потому что ценю чужой труд. Твои уехали?
— Уехали.
— Совсем или в отпуск?
Она все ждет, когда дочь и зять бросят меня или друг друга. Нельзя сказать, что она их не любит — Томку, Бориса и внука моего Женьку,— но они ей чем-то мешают. Мешают утвердиться в мысли, что никому нет счастья в этой жизни. Они словно издеваются над ней: есть мужья, которые не изменяют своим женам, а жены отхватывают первые премии на выставках. Суммы этих первых премий рождают у Анны нехорошие вопросы: зачем им, таким благополучникам, столько денег? Вслух она об этом не говорит, но в голове ее этот вопрос непрерывно ворочается. Тамара и Борис — художники. Жизнь у них нелегкая. И денег немного: когда пусто, а когда и густо. Чаще пусто. Но они дружны между собой, трудолюбивы, и я считаю, что моей дочери в жизни повезло. И конечно же хвастаюсь, сообщаю об их успехах налево и направо. Когда же Томка с Борисом начинают ссориться, я с ужасом думаю: сглазила.
— Ты же знаешь, какой у них отпуск,— отвечаю,— поехали на Север. Борис повез студентов на практику, а Томка к ним примазалась. В общем, северная деревня, уникальные фрески в церквах монастыря, и вся художественная братия обожает их перерисовывать.
Анна слушала меня и щурилась. Такая сдобная булочка, глазки как изюминки, густая соломенная челка, на узких плечах прямые пряди, как из пшеничного снопа. Она с молодости не меняется. Я уже не помню, какой у нее настоящий цвет волос. Всю жизнь золотая солома на голове, глазки, затаившиеся в сытой ласковости, тоненькая талия. Правда, в молодости были крутые бедра и пышная грудь, но потом оказалось, что вся эта «мопассановщина» — прошлый век. В нынешнем все эти излишества ни к чему, и Анна преобразилась. Похудела, и ноги, словно она их поменяла, стали длинными с острыми коленками. Она никогда не говорила о модах, о ценах, о том, где и как то-се достать, но всякий раз на ней было что-нибудь экстрамодное. Могла сказать: «У Диора мы одеваться не можем, но Зайцеву честь окажем». Зайцев, разумеется, понятия не имел о существовании Анны, но ее приятельница, дипломированный модельер-технолог, создавала образцы не хуже признанных богов одежды.
— Ольга, — говорит Анна,— я знаю, как ты ко мне относишься. Не спорь. Ты права. Я не обижаюсь. Ты только должна мне поверить, что никогда я тебе не завидовала. Веришь?
Я не понимаю, зачем она все это говорит, и отвечаю:
— Давай ближе к делу и попроще.
Анна уставилась в угол кухни и застыла: то ли просто задумалась, то ли уже раскаивалась, что пришла ко мне.
— Слушай, ты должна меня выручить,— очнувшись сказала она,— у меня погибает Кира. И единственный человек, который ей может помочь, это ты.— Анна оглядела меня, словно проверила, что я тот человек, который способен спасти ее дочь, и продолжала: — Любовь это у нее, психоз или обыкновенная дурь, я не знаю. Знаю только, что человек, доведший ее до края, обязан отвечать.
— Она ждет ребенка?— шепотом спросила я.
Анна переполнилась негодованием.
— Не смеши меня, не такая уж ты блаженная! Какой ребенок? Купи календарь, в окно выгляни, если в твой подвал не проникает белый свет...
Подвал — это архив, в котором я работаю. Высокое научное учреждение Анна представляет подвалом с пылью на пронумерованных папках и крысами. Она уже не раз говорила: мол, хорошо тебе, сидишь в подвале, листаешь архивные документики и нет тебе дела, если даже мы тут все наверху передохнем. Только теперь до меня дошло, почему она обижена на мой «подвал». Он отгородил меня от жизни, от ее бурь и обманов, а ей выдал всех этих бед за двоих. Я это вдруг осознала и расстроилась: это, голубушка, ты уж чересчур. А вслух сказала:
— Ладно, Анна, говори, что с Кирой, не будем отвлекаться.
Анна полезла в карман юбки, он был у нее незаметный, сбоку, как у брюк, вытащила письмо и протянула мне.
— Читай. Читай медленно и вдумчиво.
Я взяла листки и вдруг зацепилась взглядом за Анино лицо. Вот это да: такого лица у нее никогда не было. Серьезное лицо, и глаза большие, перепуганные.
«Привет из Калахари! Не ищи на карте. Вспомни детство. Помнишь: «Из Сахары, Калахари...» Или, может быть, по-другому, не в этом смысл жизни. Я посылаю тебе привет из Калахари, чтобы сказать, что ты не Кира. Ты — Веточка. Зябкая, с дрожащими листиками Веточка. Иветта. Ты должна это знать, тогда не будет тебе казаться, что ты дерево. Зачем тебе это? Где тебе взять ствол? Прямой и твердый, обросший морщинистой корой? Нет уж, будь Веточкой. И терпи. Потому что, когда любовь одна на двоих, надо терпеть. Ты ведь малышка в этом мире, а норовишь великанам диктовать условия. И невдомек тебе, что эти твои условия — маленькие жесткие цветные шарики из детской игры «Мозаика». Из них ничего не построишь, им предназначено лежать в своих маленьких луночках, и только таким образом можно изобразить ими какой-нибудь узор. Я уже говорил тебе, что у меня никого нет, поэтому твои припадки ревности не вызывают моего сочувствия. Но тебя «никого нет» не успокаивает, а ввергает в ярость: если место пусто, то это уже не пустое место, а черная дыра, в которой я исчезну, погибну, и ты призвана меня от нее оттащить. Но ты не спасай, а просто люби меня, верней, плачь, отчаивайся, мучайся бессонницей, придумывай мне страшную казнь, а лучше самой себе, чтобы меня проняло, чтобы я висел на крюке твоих мучений и терзался, как тяжко ты платишь за то, что твоя любовь не стала нашей. Не сердись. Когда мои дела отпускают меня, вместе с усталостью душит меня своими лапами и жалость. К тебе. Тогда мне хочется сказать: уйди от меня навсегда, не вспоминай и не проклинай. Потому что ты никогда не поймешь, что у меня может не быть ни одной женщины, как сейчас, или все, какие только есть на земле, — мои. Так что, если можешь, жди того времени, когда вместе со всеми ворвешься в меня и будешь выкрикивать жалкие слова о любви, требовать моей верности и ревновать, обличать, подглядывать. И все это с одной целью — присвоить меня. Так мил тебе и всем вам человек искусства. Буду точным: удачливый человек искусства. Вот и надо терпеть... Я устал от этого своего письма. Адью. Дориан».
Господи, мало всего, так он еще — Дориан.
Анна молчала, и я не знала, что ей сказать. Тогда она решила мне помочь:
— Это бред сумасшедшего, да?
Если бы. Но это был не бред. Анна опять бросилась мне помогать:
— Напустил тумана, вместо того чтобы честно сказать: я на тебе не женюсь, да?
— При чем здесь туман, — сказала я,— он вполне членораздельно написал, что присвоить его никому не удастся. Еще они говорят, что их никто не понимает. Была одна необыкновенная женщина, которая понимала, но она умерла.
— Почему ты о нем говоришь «они»? — спросила Анна. — Намекаешь, что это уже не первый мерзавец на Кириной дороге?
— Почему на Кириной? Они любят просто выходить на дорогу. Но они не мерзавцы. Это что-то другое.
Анну мои слова успокоили, глаза стали опять как изюминки, соломенные пряди волос заискрились золотом. Она глянула на дверь и перешла на шепот:
— Когда я в пятый или шестой раз перечитала это письмо, знаешь, что мне показалось? — Анна прыснула и прикрыла ладонью нос и губы.— Я была уверена, что этот Дориан импотент. Сама подумай, зачем нормальному мужчине надо, чтобы его любили, мучились бессонницей, ревновали, если сам он ни на что не способен?
— Кто он такой? Где работает?
— Там же написано — человек искусства.
— Артист, музыкант?
— Драматург,— сказала Анна,— я его видела несколько раз у нас во дворе, но мельком, сверху, с шестого этажа. Похож на режиссера.
— У них есть отличительная черта?
— Есть,— подтвердила Анна,— рубашечки. Такие чистенькие, невзрачные, но очень дорогие.
«Рубашечки» доконали меня.
— Анна, давай закругляться. Что я должна сделать?
— Поговори сначала с ним, потом — с Кирой.
— Ни больше ни меньше? И что я должна им сказать?
— Найдешь что. Киру надо спасти. А этого «великана» припугнуть. Я не обольщаюсь, что его можно затащить в загс.
— Спасибо за доверие. Но не кажется ли тебе, что ты зарываешься? Даже золотая рыбка не согласилась быть на посылках. А там все-таки было за что: вернули жизнь, бросили в воду.
Анна спокойно выслушала мой отказ, и опять ее лицо переменилось, на этот раз оно выражало растерянность.
— Что же мне делать?— спросила она.— Я так на тебя надеялась.
С молодости Анна вьет из меня веревки в свои так называемые трудные жизненные минуты. И сейчас я не могла вот так просто взять и расстаться с ней. Конечно, заманчиво сказать: с этим не ко мне, пока. Но она уйдет, а я останусь, и тут же начнет меня точить раскаяние: денег бы ты ей одолжила, это не требует ни риска, ни душевных трат, а пришел к тебе человек с нестандартной бедой, и ты уже: ах, вы ошиблись дверью, я вам не золотая рыбка на посылках.
— Ладно, я попробую,— говорю,— если это вообще возможно. Великана-драматурга пока трогать не будем, пусть вечерком забежит ко мне Кира.
Анна не была бы Анной, если бы после этих моих слов испытала благодарность. Она тут же возмутилась:
— Как это, интересно, она забежит к тебе сегодня вечерком, если она в Ялте?— В голосе прозвучал этакий высокомерный укор: мол, если нужна тебе Кира, подождешь. Мне уже ко всему подобному не привыкать, и я спросила:
— Что она там делает?
— Такой маленький антракт в ее однообразной жизни,— объяснила Анна.— Полетела к морю на четыре дня. А помнишь, как я летала в Кишинев?
Я не забыла и к кому она летала, этого жителя Кишинева с головой как бочка. Она познакомилась с ним на Кавказе, а потом летала к нему в Кишинев. Под носом у него росли черные усы, причем они не росли, как у нормальных людей, а висели. Такая густая черная травка. Когда он говорил, эта травка колыхалась. Конечно, я стояла рядом с Анной на перроне, когда эти усы показались в дверях вагона. Анна без особых трудов втащила меня тогда в эту свою историю: «Умоляю, ты должна мне помочь, это мой последний шанс». Так и остался он в наших с Анной воспоминаниях под именем «усы» и «последний шанс». Но тогда он произвел на меня впечатление надежного жениха. Когда вес человека превышает полтора центнера, как-то не верится, что он устремлен к обману. Если уж такая глыба сдвинулась с места, села в вагон и пересекла две тысячи километров, то сотворить с ней такое могла только любовь. Но он любил не Анну, а свою жену, я могла бы об этом догадаться сама, если бы Анна тогда не заморочила мне голову. Мы втроем ездили по магазинам, и он все хотел купить Анне розы. Но так и не купил. Покупал платья, кофточки, обувь. Даже меня поставили в очередь, и я выстояла фиолетовый кружевной пеньюар на розовой атласной подкладке. Потом он сказал Анне, что ошибся в ней, что квартира ее оказалась маленькой, а девочка большой, что это не подходит для его новой семейной жизни. Мало того, так он еще добавил, что любит, как оказалось, свою жену. И уехал, забрав все обновки, которые так и не вручил Анне. Через год или больше Анна, которая совсем не страдала по своему «последнему шансу», вдруг прибежала ко мне в слезах и ужасе: «Какой это был негодяй! Ведь он и не собирался на мне жениться! Он просто приискал себе женщину с фигурой своей жены, живущую в Москве, и использовал ее как манекен, как последнюю идиотку и дуру!»
«Откуда это тебе стало известно?»
«Ниоткуда. Просто вспомнила кое-какие детали, и все выстроилось вот в такой сюжет».
Жизнь много раз наказывала Анну за подобную доверчивость, и я понимала ее страх, ее материнское желание оградить от всего такого Киру.
Двадцать лет назад Анна говорила: «Посмотри, какие у нее губы, как два красных червячка. И бровки — как две сгоревшие спички». Шестилетняя Кира стояла рядом и слушала. Она была вообще молчаливым ребенком. Я видела с балкона: сверстницы ее, сбившись в кружок, верещали, смеялись, размахивали руками, а Кира стояла и слушала. Потом они начинали играть, надо было выбрать водящего, они оглядывали друг друга и выбирали молчавшую Киру. С Томкой моей дружбы у Киры так и не получилось. Тамара была слишком деятельная, бурная, и спокойная самолюбивая Кира не старалась поспевать за ней. В девятом классе Кира выбрала в подруги меня. К возмущению Анны, к величайшему горю Томки. Анна звонила и говорила:
«Она же тебе не нужна. Ты специально для меня устроила эту дружбу. За что ты меня ненавидишь?»
Томка, которая была тогда в восьмом, разбудила меня однажды ночью плачем.
«Выбирай: или я, или Кирка!»
«Я выбрала тебя, и давно уже, сразу, как только ты родилась».
«Все равно пусть она не приходит,— требовала Томка,— выбери себе другую девочку и дружи с ней. Такую девочку, которая меня не уничтожает».
Томка в восьмом классе читала Достоевского, участвовала в районных олимпиадах по химии, и все это каким-то образом уживалось с «выбери себе другую девочку».
«Томка, друзей не выбирают, как и родителей, как и детей».
«Но я ведь твоя дочь. И я страдаю. Из-за нее. Если б ты меня любила, я бы не страдала».
Они обе разрывали мне сердце. Кира была тогда влюблена в студента театрального училища, кудрявое тонконогое существо, которое она кормила из стеклянной банки по вечерам в сквере. Матери она говорила, что идет ко мне на весь вечер. Приходила, варила кашу, жарила колбасу маленькими кусочками, складывала это все в банку и отправлялась на свидание. Во время всей этой кулинарной процедуры мы разговаривали:
«Он ест, как молодой лев. Он все время голодный. Я решила так: даже если у нас с ним ничего не получится серьезного, все равно эту банку он уже никогда в жизни не забудет».
«Серьезное», она рассчитывала, должно было получиться через три года, когда ей исполнится восемнадцать и в загсе примут от них заявление.
«Кира, а его не смущает в принципе такое подношение? Все-таки во все времена мужчины добывали еду. Он хоть раз предложил хотя бы деньги на крупу там, колбасу?»
Кира в ответ смеялась.
«Какие деньги? Где он их возьмет? Если бы у него были деньги, я бы ему эту банку не носила».
Однажды она пришла ко мне и сказала:
«У него есть девица. Он в нее влюблен. Что мне делать, Ольга Сергеевна?»
«Тебе надо перетерпеть, перестрадать, — сказала я,— тут уж ничего другого не поделаешь».
Она мне не поверила. Перестала приходить. Моя плита ей уже была не нужна, и я вместе с ней. Но она меня не бросила. Пришла через месяц и с порога заявила: «Об этой бездари больше ни слова! Много ему чести — терпеть и страдать. Я ему отомщу невиданным способом. Он меня не забудет».
Я испугалась. Любовная месть в шестнадцать лет казалась мне самой безрассудной.
«Учти, — сказала я ей,— в колонии для несовершеннолетних ничуть не лучше, чем для взрослых преступников. Не натвори глупостей. Ты еще не знаешь, что это такое — непоправимая беда».
Зря я боялась, слова мои вызвали у Киры улыбку.
«Я уже сказала: о нем — ни слова, его нет. И не нагораживайте».
И она больше не вспоминала о нем. Только через год рассказала, как ему отомстила: подружилась с той девицей, на которую он ее променял, и отвратила ее от него, причем не последнюю роль в этом отвращении сыграла банка. «Я ей показала скамейку, на которой он уплетал мою кашу с колбасой, и его возлюбленная воскликнула: «Какой мрак!»
Вернулась Кира из Ялты в понедельник. Анна позвонила мне на работу.
— Ты ничего не знаешь. Я тебе не читала письма. Сделай как-нибудь так, чтобы она тебе все сама рассказала.
У меня в кабинете в ту минуту был главный бухгалтер нашего архива, выяснялся старый запутанный вопрос по оплате трех старинных рукописей. Деньги, слава богу, небольшие, были выплачены неправильно, по обыкновенной ведомости, получатели умерли, и все три выплаты в свете новых финансовых требований выглядели чуть ли не махинацией. Бухгалтер, наш милейший старик Иван Иванович, то и дело шепотом повторял: «Я вам об этом не раз говорил и об этом неоднократно предупреждал». Я еле сдерживалась, так занудил он меня своей трусостью, и тут этот звонок.
— Анна, ты не считаешь, что служебный кабинет не место для наших с тобой интимных делишек?
— Что значит «наших с тобой»? — послышался в ответ негодующий Анин голос. — Это не «наши с тобой». И совсем не «делишки»!
Это рычала разъяренная мать-львица. А Иван Иванович в это время глядел на меня младенческими голубыми глазами: я предупреждал, я сигнализировал.
— Ты дома? — спросила я Анну. — Я перезвоню.
Иван Иванович приготовился продолжать свое оправдательное шипение, но я его направила в другую сторону:
— Иван Иванович, как вы относитесь к людям искусства?
Он посмотрел на меня внимательно, вопрос ему не показался праздным. Ответил обстоятельно:
— Когда я вижу их произведения или слушаю, если это музыка, то у меня к людям искусства очень хорошее отношение. Но когда они появляются в нашем архиве, тогда я их боюсь.
— Почему?
— Видите ли, Ольга Сергеевна, люди искусства не могут понять, что на все существуют твердые ставки. Им кажется, что для особенных талантов существуют отдельные, особенные ставки.
— А вы сами согласны с этими твердыми ставками?
— Согласен,— ответил Иван Иванович,— а то ведь такая начнется неразбериха — весь учет рухнет. Талант — это соловей на ветке, это — цветущий куст, а не надбавка в рублях.
Я не выдержала и сказала ему:
— Что же вы, Иван Иванович, вводите меня в заблуждение? «Я говорил, я предупреждал». Вы же орел, вы же все понимаете. Неужели нельзя как-нибудь задним числом «причесать» эти три поступления? Мы же с вами эти деньги не брали, и никто их не брал. Получили те, кому положено, и мы их не убивали, они сами умерли.
— Я старый,— сказал мне в ответ Иван Иванович,— и не научен «причесывать». Лучше, Ольга Сергеевна, напишите объяснение, я приколю к делу и пусть ревизия скажет, что ей положено.
И тут опять раздался звонок от Анны.
— Я сижу у телефона. Ты не звонишь. Ты что, так и будешь надо мной издеваться?
Сейчас немножко отведу душу.
— Да, так и буду. Это мое хобби. В рабочее время. А ты уже на пенсии? Что это ты дома сидишь?
Анна свалилась от моих слов без чувств или очень прикрыла ладонью мембрану, тишина там была провальная. Наконец пробился ее голос:
— Стыдись. Я на два года моложе тебя.
— Тогда силенки еще есть, возьми себя в руки.
Иван Иванович поднялся и шаркая, старческим шагом вышел из моего кабинета. Сгорбленная спина под серым пиджаком. Пиджак выношенный, с оттянутыми карманами. Еще два года назад был элегантным седовласым вдовцом, искал себе невесту, хотел жениться, но оттого, что всю жизнь верой и правдой служил цифрам, считался педантом, человеком черствым и недалеким. И все подшучивали над его желанием жениться по любви в преклонные годы. Амурными его делами занималась наша вахтерша Алевтина, и все были в курсе этих дел. Алевтина говорила: «На амурном фронте он и засох окончательно. Не видел себя со стороны. Не понимал, что ему медсестра нужна, а не любовь. Хотел жениться на одинокой, в годах, но чтобы была особенная: по воскресеньям ездила на электричке в лес, стихи на память знала. Где я ему такую могла найти?»
Мы договорились с Анной, что Кира придет ко мне вечером, часов в восемь, но она заявилась, как только я переступила свой порог. Пришла томная, источающая слабый запах хороших духов, в белом балахоне, который делал ее похожей на девочку, собравшуюся на карнавал.
— Ну что вы тут выдумываете? — спросила недовольным голосом. — Мама умеет сочинить сюжет с героем-злодеем, но вы-то, Оленька, зачем во все это втягиваетесь?
Она всегда звала меня по имени, и мне с годами это все больше нравилось. Я смотрела на нее и понимала, что Анна не зря била тревогу. Кира была, что называется, на излете. Что-то в ней было такое, что говорило: не верь мне, я еле держусь, как вы все меня обманули.
— Ну, воспитывайте меня, — сказала Кира, — что же вы молчите?
— Рассказывай. Чтобы воспитывать, надо что-то знать. — Я очень боялась проговориться, что читала письмо. — Так что там за героя-злодея изобрела Анна? Что у вас там за игра?
— Это не игра. Игра была и прошла. Сейчас все очень и очень серьезно,— ответила Кира.
— Почему же тогда об этом так печально?
— Потому что всякое свершение печально, — сказала Кира. — Вы должны это знать: счастье — когда достигаешь цели, а когда достиг, — опустошение.
— Ты выходишь замуж? — Мне хотелось большей конкретности в нашем разговоре, но я не могла произнести даже имени — Дориан.
— Да,— ответила Кира, — но я не хочу раньше времени волновать маму. Вы же знаете, какую скорость она может задать своей суете.
Я это знала и все же не имела права поддакивать Кире.
— Она твоя мать, и ты уж, пожалуйста... И потом, что-то мне не нравится ее отстраненность от твоего замужества. Ты хорошо знаешь этого человека, уверена в нем?
— Пусть он меня сначала узнает хорошо,— ответила она, и в ее голосе послышалась заносчивость. — Объясните мне хоть вы, почему это женщины должны до последней минуты сомневаться, женятся на них или не женятся?
О всех женщинах я судить не могла, но у Киры должны были быть веские причины для сомнения. Это же она получила письмо, в котором ей объяснялось, что она веточка, а не дерево. И ее любовь безответна, она одна на двоих. Если я правильно ту галиматью запомнила, ничего не перепутала, то там было сказано: тебе, малышка, рядом с великаном делать нечего. И еще там было что-то о припадках ревности, о цветных шариках из детской игры «Мозаика» и призыв «Люби меня». А в конце письма почти впрямую говорилось о женитьбе, что этому не бывать. Поскольку все хотят присвоить себе человека искусства, то не достанется он никому.
Так что же? Все перевернулось, и теперь этот царь природы решил жениться? Но этого же не может быть! Откуда у меня эта дубовая уверенность: не будет, потому что быть не может.
— Послушай, Кира, мы уже с тобой не тетя и дитя, мы взрослые, и давай рассуждать серьезно. Ты уверена в нем? У тебя нет сомнений?
— Хорошо. — Кира тряхнула головой, личико ее вытянулось, глаза загорелись. — Я объясню. Человек приходит и говорит: ты моя пристань, ты новый день моей жизни, вот тебе двести рублей, слетай к морю на пару дней, отдохни, развейся, я тебя здорово помучил, но это было испытание, перечеркнем прошлое, начнем все с чистой страницы. Я люблю этого человека. Почему я должна ему не верить?
— А что случилось? Что за нужда перечеркивать прошлое? И разве это возможно?
— Это так говорится, — Кира была раздосадована моей въедливостью. — Вы не умеете отделять настоящее от светской болтовни, все берете на веру. Тут вы полная противоположность маме, она ничего не берет на веру.
Я не знала, что ей сказать на это, вообще уже плохо понимала, о чем мы говорим. Надо было тряхнуть Киру, она же не дура и понимает, что двести рублей, на которые она слетала в Ялту,— подачка и новый день никогда у нее с этим типом не наступит. И я вдруг сказала то единственное, что было правдой:
— Кира, о чем мы говорим? Ты же его не любишь.
В ответ она улыбнулась и глубоко, с облегчением вздохнула, словно я своими словами сняла с нее какой-то груз.
— Наконец-то вы, Оленька, что-то начинаете понимать. Конечно, я его не люблю, как Татьяна своего Онегина. Я его люблю по-другому — как всякая современная женщина всякого удачливого мужчину из мира искусств.
Это была чуть ли не программа жизни.
— Что вы молчите? — спросила Кира.
И я быстро, чего-то стесняясь, ответила:
— Это цинизм.
А что я еще могла сказать?
Кира поднялась, собралась уходить. Зеркало у нас висит в прихожей, и она, причесываясь там, крикнула мне:
— Мне будут все завидовать! Когда тебя никто не любит, но все завидуют,— это уже кое-что, с этим жить можно!
Что-то надо было делать. Я по-прежнему не знала что и крикнула в ответ:
— Да ты что? Выходить замуж, жить с нелюбимым ради чьей-то зависти?
Она ушла, оставив меня не просто в растерянности, а в большой тревоге. Сделала меня соучастницей и полетела на огонь своей гибели. Хорошо, если только обожжет крылышки, а если вся сгорит? Анна ей помочь не в силах, а я могла бы. Если бы знала, как можно схватить за шиворот этого «удачливого представителя мира искусств». «Что же ты, милок, творишь? Что же ты свой мир превратил в сачок и ловишь обездоленных тщеславных бабочек?» — «Я ловлю?— слышала я в ответ его разнеженный баритон.— Да мне впору в накомарнике ходить по улицам, так жужжат, так вьются, так нарываются». — «Не надо выставляться, интересничать: я великан, никого не люблю, только иногда жалость душит меня своими лапами. Но я все равно не дамся, никто меня не присвоит, фигу вам!» — «А так оно и есть,— отвечал он,— не хотят понимать, что я и рад бы полюбить, да не могу...» — «Тем более тогда не надо обнадеживать». И тут он взорвался: «Да пошли вы все к черту. При чем тут я! Они сами себя обнадеживают».
Анна была плохой сообщницей, а то бы я пошла на преступление. Разыскала бы этого Дориана и вытрясла из него душу вместе с его подлинными намерениями. Но Анна спутала карты, позвонила мне ночью и спросила:
— Она не догадалась, что я давала тебе письмо?
— Какое письмо?— Я не сразу вспомнила, что за письмо.
— То, которое ты читала. От Дориана.
— От Дориана Грея, — сказала я. — Кстати, как его фамилия? Что-то я не помню ни одну знаменитость из мира искусств с таким именем.
Анна в ответ замычала, как от зубной боли.
— Она «не помнит»! Да кто ты такая, чтобы помнить? Кстати, он совсем не Дориан, а Якуб, фамилию тебе знать не обязательно.
— А кто же тогда Дориан?
— Персонаж. Тебе известно слово «персонаж»? Дориан всего лишь персонаж нового сценария Якуба. Это было придуманное письмо. Кира должна была на него ответить, чтобы помочь Якубу. У него, понимаешь, заклинило. Работал над сценарием, и вдруг — кризис...
С завтрашнего утра я начинаю новую жизнь. Верней, продолжаю старую. Никаких Дорианов, тем более Якубов, пусть женятся, пусть пишут свои сценарии, а у меня три поступления, три литературных документа оформлены кое-как, и ревизия не только припишет мне вернуть деньги, но и сочинит что-нибудь насчет безответственности, халатности. Есть мне о чем думать, о чем переживать. Но тогда, ночью, поскольку моя новая жизнь еще не начиналась, я спросила у Анны:
— Как ты узнала, что он Якуб?
— Он был у нас и сделал Кире официальное предложение.
— Вон оно что. То-то ты звонишь среди ночи. Я поздравляю вас всех. Когда свадьба?
— Слушай, почему ты такая змея? — спросила Анна.
Я обиделась.
— Потом выясним почему, а сейчас дай трубку Кире.
— Ее нет. Они поехали в аэропорт. Ему надо на съемки, а Кира его провожает.
До утра я так и не уснула. Они хотят красивой жизни, какой-то обморочной любви, а я змея? Это мои дочь и зять — люди искусства, а ваш Дориан, Якуб, неизвестно как его зовут на самом деле,— маленький старательный ремесленник. Пишет письмо из Калахари не потому, что его туда занесли поэтические крылья, а чтобы создать, как говорят юристы, жизненный прецедент. Кира не знала, что письмо подсадное, и ответила ему как живой человек. А это попадет в его пьесу или сценарий, и что тогда с ней будет? Сойдет с ума? Или она закалена? Тот, которого она кормила из банки, был, возможно, прививкой от всей этой чумы. Белый зыбкий рассвет окрасил окно, а я все не спала, искала какой-то ответ, как будто он существовал и надо было только потрудиться, помучиться, и Кира будет спасена, и не только Кира. Потом я подумала: что же они обе такие несчастливые — и Анна и дочь ее Кира? Вспомнила Аннин «последний шанс», надо же, какой негодяй живет в Кишиневе. А Томке моей повезло. И многим другим тоже повезло, а они этого не знают: ах, как у других красиво, экстравагантно, а у нас тускло, однообразно. «Ну как я ее спасу? Анна ее растила: посмотри, какие у нее губы, как красные червячки, а потом не видела ничего страшного в том, что какой-то призрачный «человек искусства» отправил ее за свой счет в Ялту. Потом я произнесла монолог, обращенный к Дориану-Якубу, и, странно, он не обиделся, сказал мне голосом моего зятя Бориса: «Знаете что, Ольга Сергеевна, не преувеличивайте их слабость и беззащитность. Лучше бросьте свои страхи и спите. Они как-то так устроились, что могут и не пойти на работу, а вам надо идти».
Назавтра в полдень мне принесли телеграмму: «Умоляем забрать Евгения уходим маршрутом Карелию подробности письмом Тамара Борис». Родных детей мы всегда идеализируем, а уж на расстоянии особенно. Но я живо освободилась от этих идеальных чувств: какое свинство, какая толстокожесть! Своего четырехлетнего сына они могут величать хоть по отчеству, но как можно присылать такую телеграмму? Что за маршрут? Какая в нем надобность? И главное, когда они туда уходят? В конце дня я уже летела в Вологду, потом ночью звонила из райцентра в село, где находился знаменитый монастырь. Узнала, что Томка и Борис уже отбыли, а «мальчик, кажется, у бабушки Федосеевой». Разъяренная беспечностью родителей «мальчика», не дожидаясь утра, я двинулась под светлым северным небом в сторону села. Ни страха, ни даже малого опасения, что заблужусь или могу встретить в пути зверя или недоброго человека, не было. Была тихая, спокойная добрая дорога, ведущая в такой же добрый спокойный край.
Отпуск у меня был оформлен на четыре дня, и через два дня мы с Женькой ходили из дома в дом и прощались со стариками, живущими там. Почти в каждом доме жили еще студенты художественных факультетов. Дачным бытом не пахло. Царствовала старина: монастырские строения, разрушенная ветряная мельница на окраине села, старушки, вязавшие на порожках из белых катушечных ниток воротники и салфеточки. Женька был тут, по всей видимости, беспризорным, его все знали, зазывали в гости: «А иди сюда, Женечка, глянь, чего тебе покажут».
Томка и Борис с легким сердцем бросили его, потому что еще не знали, какая он надежная защита. А я это почувствовала. Мы летели с ним в самолете, он спал у меня на коленях, а я думала: «Ну что бы я сейчас делала, если бы не ты? Прилетим домой, позвонит Анна, а я ей скажу: давай быстрей выкладывай, что там у тебя, а то мне Женьку купать надо, утром ведь ему рано в детский сад».
Но Анна не позвонила в день нашего приезда. Назавтра я позвонила ей сама.
— А, это ты? — сказала Анна. — Рада тебя слышать.
Я опешила: неужели она не заметила, что меня не было дома?
— Ты не звонила? А то ведь меня не было. Летала за Женькой. Представляешь: бросили ребенка и умотали в Карелию.
Анна не удивилась и вообще не выказала никакого интереса к моим новостям.
— У меня выварка на плите,— сказала она,— течет уже, наверное, со всех концов. Я тебе перезвоню.
Но не перезвонила, и еще два дня не было от нее ни слуху ни духу. Я не выдержала, позвонила сама:
— Что происходит, Анна?
— А, это ты? Извини, у меня в прихожей почтальон, я тебе перезвоню.
Через полчаса я позвонила ей снова.
— Ушел почтальон? Что случилось?
— А чего ты ждешь? Что, по твоим расчетам, должно случиться?
— Перестань болтать. Что с Кирой?
— Она не вернулась в ту ночь домой. Они вдвоем улетели на съемки.
Я не знала, что на это сказать, и спросила:
— Значит, он написал сценарий, а не пьесу?
— Кто? — в свою очередь спросила Анна.
— Ну, этот Дориан, Якуб.
— Забудь о нем. И о нас забудь. Обо мне, о Кире. Отстань от нас! — Анна выкрикнула все это злым хриплым голосом.
— Я-то отстану. Но и ты уж, пожалуйста, в свои истории меня больше не втравляй!
Мы опять поссорились. На этот раз, я была уверена, навсегда. Но не вышло. Через две недели вернулись Борька с Тамарой, и вечером того же дня Томка сказала:
— Жалко Киру. Ты не знаешь подробностей?
Сердце мое екнуло в предчувствии беды:
— А что с ней?
— Она в больнице, — сказала Тамара, — глотнула что-то, отравилась.
— Ерунда, — запротестовала я, — быть такого не может. Ты была у нее?
— Завтра пойду,— сказала Тамара. — Странно, что Анна тебе об этом ничего не сказала.
Мне не показалось это странным: когда приходит настоящая беда, не до рассказов. Жаль только, что настоящая беда иногда рождается из выдумки — из любви без любви, из желания воспарить над прозой жизни, из дурацкого письма из Калахари.
— Не могу во все это поверить,— сказала я, — она же умный человек, и если уж говорить правду, то ведь ее никто не обманывал.
— Не надо так,— попросила Тамара.— Ее спасли, она чуть не умерла. И потом, какая разница: тебя обманули или ты сам обманулся...
Разница была, но я уже боялась спорить. И с Томкой, и с Анной, со всеми.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
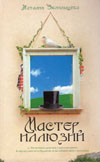
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





