ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Башкирова Галина
1
Разбудил
Олю голос матери:
—Оля,
детка, ты не заболела?
—Который час? — спросила Оля,
потягиваясь.
—Вставай
быстренько, скоро десять, то есть, я хочу
сказать, четверть десятого. Что ты так
задумчиво на меня глядишь? Разглядываешь
мою прическу? Да, я из парикмахерской.
Ну как? Нравится? А цвет, цвет тебе
нравится?
—Ты
перекрасилась?
—Знаешь,
как он называется? Забыла. В общем,
каштановый, переходящий в красное
дерево, этого сочетания очень трудно
добиться, Эдик два часа занимался только
мной! Ничего, пусть старается, я тоже
занимаюсь его матерью, лежит у меня в
седьмой палате.
Оля
села в постели, сонно огляделась. Яркий
солнечный свет заливал комнату,
переливался в хрусталиках старой,
запыленной люстры, играл в рыжих волосах
матери. Как же она умудрилась так
проспать?
—Сережа уже
ушел?
—Как? Ты не провожала
сына в школу? Ничего себе!
—Тут ночью птица пела,— пробормотала
Оля,— меня разбудила.
—Проснись наконец, какая птица ночью?
Поднимайся быстренько, я пойду сварю
кофе. У тебя есть кофе? Я еще хочу в ваши
«Консервы» подскочить, купить шампиньоны,
девочки велели подойти к двенадцати. А
вечером у нас гости. Почему ты не
спрашиваешь, кто к нам придет?
—Мам, а мам, птица была абсолютно синяя.
Представляешь, прилетает ночью синяя
птица, нет, ты представляешь?
—Да, Оленька, да, конечно, представляю,
я тебя в детстве водила на эту «Синюю
птицу» во МХАТ,— рассеянно отозвалась
Лидия Николаевна.— Нет, ты мне лучше
скажи, почему ты не интересуешься, что
у меня на работе. —Недавно был разговор
с профессором, я ему прямо намекнула,
что в любой момент готова уйти на пенсию.—
Лидия Николаевна потопталась у изножья
постели, взглянула на дочь, подоткнула
край упавшего пледа и неуверенно
продолжила: — Тебе не кажется, что я
мешаю молодым?
—Ты? —
засмеялась Оля и снова откинулась на
подушку.
—Нет, Оля,
ну правда, ну посоветуй мне... Тебе не
кажется, что я ставлю Михаила Степановича
в неловкое положение? Знаешь, что он мне
недавно сказал? Что я один из последних
земских врачей в Москве, гордость
клиники, ее лицо. Вот, детка, как ценят
твою мать.
— Слушай,
земский врач,— тут Оля сладко зевнула:
кажется, она выспалась наконец впервые
за много дней, — ты почему не
раздеваешься?
— Заметила?
Как тебе мое новое пальтишко? Элегантная
женщина непременно должна иметь летнее
пальто. Без пальто мы раздеты. Оля, да
что с тобой? Что ты глядишь на меня, как
сомнамбула? Поздно легла? В твоем
возрасте это просто глупо. Бог с тобой,
Оля, все равно ты не интересуешься
моей жизнью, пойду варить кофе! — И
Лидия Николаевна убежала.
— Молодец! — закричала она из кухни.—
У тебя даже молоко есть. Так... сыр;
овсяные хлебцы, овсяный хлеб — это
хорошо. Но позволь, дружок, что у тебя
ел Сереженька на завтрак? Не вижу каши.
— Слышно было, как Лидия Николаевна
инспектировала холодильник. — Так,
пора размораживать, советую не
запускать, потом работы будет больше.
Господи, откуда такой безумный напор с
утра? Откуда берутся душевные силы на
шампиньоны, парикмахерские, холодильники?
Оля накинула халат, попыталась незаметно,
на цыпочках, прошмыгнуть в ванную
комнату, но номер не прошел; дверь
скрипнула. Мать тут же ее приоткрыла:
— Детка, не сердись, не забывай: с утра
не следует умываться. Ухожу, ухожу,
мойся, только без мыла, мыло вредно.
Когда Оля, уже почти проснувшись после
холодного душа, вошла на кухню, пахло
кофе и мать делала бутерброды.
— Умничка, Оленька, ты у меня быстрая.
Эта черемуха, ты извини, я ее выбросила,
безобразие с медицинской точки зрения:
вызывает мигрень и грязи сколько. Садись,
садись.— Лидия Николаевна протянула
Оле бутерброд — кусок хлеба, сыр, редиска,
разрезанная пополам, сверху веточка
петрушки.
— Это
прямо небоскреб какой-то! — весело
засмеялась Оля и уронила петрушку на
пол.
— Главный
витамин, специально на рынок заезжала,—
Лидия Николаевна гибко наклонилась и
быстрее Оли успела поднять упавшую
петрушку. — Ну, как кофе? — Она придвинулась
поближе и с удовольствием отхлебнула
глоток кофе. Тут Лидия Николаевна
расслабилась, опустила плечи, и тотчас
же исчезла гордая посадка головы и
лебединость длинной, некогда прославленной
шеи. Голова
просела, и шея заплескалась,
заходили, запрыгали по ней волны
дряблой кожи.
—Ну,
детка,—сказала она мягко,—настроение
у тебя, я вижу, хорошее, потому могу
признаться — я к тебе нагрянула для
серьезного разговора.
—Что стряслось? — поперхнулась Оля на
непривычную интонацию матери.
—Ох,— растерялась Лидия Николаевна,—
нет, нет, извини,— она бодро подхватилась
и застучала Олю по спине.— Откашлялась?
Так, умничка, да ничего особенного не
случилось, просто вчера у меня была твоя
свекровь. Ну что ты снова поперхнулась?
От удивления? Да, надо было тебя получше
подготовить. Хотя чего удивляться-то,
Оля? — Лидия Николаевна снова уселась
на свое место.— Скоро восемьдесят. Меня
другое смущает: она сама мне позвонила.
Представляешь? Ты же знаешь, едва
здороваемся, а тут... Признаюсь тебе, я
даже перетрусила. Входит — губы синие,
в глазах тоска, в руках зонтик допотопный,
даже неловко, что моя родственница. Наш
профессор по моей просьбе Любовь Ивановну
успокоил, но меня предупредил, что для
спокойствия оснований нет. Вот, Олечка,
с тем к тебе и пришла,— виновато закончила
Лидия Николаевна.
Оля молчала, утреннее оживление
исчезло.
—Вообрази, мы
проговорили с ней больше часа,— непонятно
почему робко продолжала Лидия Николаевна,—
да-да, спустились в наш скверик, и,
вообрази, говорила только она. Что ты
на меня так странно глядишь? Да, детка,
да, она пересказывала мне свое
завещание.
—В больнице?
Тебе?
—Да не в больнице,
а на лавочке. Ну, под той липой, ты ее
любишь. Я сама потрясена. Все свое
имущество она завещает Сереже.
—Как Сереже?
—Так! Все
вам! — победоносно, не в силах больше
сдерживаться, воскликнула Лидия
Николаевна.— А Олегу ничего. Какая
молодец оказалась старушка. И правильно,
ведь этот балбесина вас с Сережей
форменным образом ограбил. А как он тебе
деньги дает? — перескочила она на новый
предмет.— От случая к случаю. Ты хоть
подала на него наконец на алименты?
—Ну, мама,— начала Оля,— мы сейчас не
об этом...
—Да, я забыла,
— вспыхнула Лидия Николаевна, — я всегда
не об этом. Впрочем, живи как знаешь...
—Надо сообщить Олегу.
— Олегу? Оля, девочка, да при чем
здесь Олег? Ты знаешь, ведь с него все и
началось! У него умерла тетка в Ленинграде.
Так? Так. От нее остались облигации. Так?
И Любовь Ивановна отдала их Олегу.
— Не мое это дело, — пожала плечами
Оля.
—Детка, но почему
не твое? Даже по закону, о совести я не
говорю, Олег обязан был часть денег
отдать Сереже. Любовь Ивановна очень
быстро спохватилась и прямо спросила
Олега, собирается ли он с тобой делиться.
Олег ответил, что хочет поменять,
как ее, ну, музыку, как это у вас
называется?
—Не знаю,—
покачала головой Оля.
—Вспомнила, систему. Вот видишь, у него
вообще такая система: только для себя
и ничего вам с Сереженькой.
—Мама, погоди, а жить одна она теперь
сможет?
—Сможет, сможет,—
рассеянно ответила Лидия Николаевна.—
Постой, я давно хотела тебя спросить:
почему ты не поехала на похороны? Любовь
Ивановна тебя так просила!
—В Ленинград? Олег ездил.
—Так, так,— забарабанила пальцами по
столу Лидия Николаевна. Маникюр был
свежий, и цвет лака слишком ярок для
женщины, поговаривающей о пенсии.
— Именно поэтому я и не поехала,—
ответила Оля на барабанную дробь.
Пальцы выбили на кухонном столе нечто
вроде боевого марша.
Раздался телефонный звонок.
—Сиди! — Лидия Николаевна поднялась и
с обиженным видом направилась в
прихожую.
—Да, она дома!
Откуда звонят? Из Музея Революции?
Спросить, будет ли их музей сочинять
капустник или присоединится к вам? Оля,
ты слышишь? — громко прокричала Лидия
Николаевна и решила за дочь: — Она сама
вам позвонит.
На
кухню Лидия Николаевна
вернулась мрачней мрачного:
—Вот во что ты превратила свою жизнь.
Еще и капустник. И по какому поводу?
—Одному человеку исполняется шестьдесят
лет.
—Интересно, Оля.
Мне тоже исполнялось шестьдесят лет,
тоже, как ты помнишь, праздновали, и
никаких капустников. А почему? Потому
что у нас в клинике серьезные люди. А у
вас все те же студенческие замашки. И
такое серьезное учреждение подключается,—
покачала головой Лидия Николаевна, —
Музей Революции. Хотя да, твои декабристы
тоже были революционерами.— Лидия
Николаевна совсем огорчилась: — Нет,
может, я и устарела, но я не в силах
понять, с какой стати взрослая женщина,
мать, тратит время на сочинение стишков
и дрыганье ногами. Шестидесятилетнему
козлу эти дурочки будут еще сочинять
эпитафии для капустника.
—Какие эпитафии? — встрепенулась
Оля.
—Ну не эпитафии, а
как их? Эпиталамы. Не все ли равно?
—У нас мало времени,— улыбнулась Оля,—
мне скоро на работу.
—Хорошо, но я должна тебя снова огорчить:
мебель, которая осталась в Ленинграде,
Любовь Ивановна тоже отдает тебе.
—Нет, мама, я ничего не понимаю: почему
она мне сама об этом не сказала?
—Боится она тебя, можешь ты это понять?
— повысила голос Лидия Николаевна.—
Ты почему вскочила как угорелая? Хочешь
звонить, выяснять? Ни в коем случае!
Сначала мы должны все сами обсудить!
—Да нет, я пойду переоденусь.
—Да-да, правильно, давно пора. Слушай,
я, пожалуй, сварю еще кофе? Выпьем еще
по чашке? Хотя много кофе вредно...
возбуждает! А, черт с ним!
Лидия Николаевна встала и повернулась
к плите. Лицо и шея ее были покрыты
красными пятнами. Она волновалась, и
это раздражало ее: даже самые приятные
новости, новости чрезвычайные, ее дочь
превращает в нечто тяжелое, в пытку,
истязание. И ведь вроде с чувством юмора,
капустники сочиняет, огорченно думала
Лидия Николаевна, но до чего безрадостные
принципы, до чего тяжелые вериги на себя
надела. И, проворно готовя кофе по своему
способу — положить свеженамолотый кофе
в кофейник с холодной водой и поставить
на медленный огонь, она с детским
недоумением пыталась понять, есть ли в
этом ее, материнская, вина...
Рассеянным взглядом обвела Лидия
Николаевна кухню. Разбитый довоенный
кафель, закопченный потолок, вспухнувший
линолеум... Ерунда! Деньги теперь есть!
Быстренько сделаем ремонт: покрасим
стены в веселую краску, достану кухонный
уголок — сейчас все по ним с ума сходят.
И сразу станет ясно: здесь живет молодая
современная женщина. Молодая — подмигнула
себе Лидия Николаевна, современная —
слегка подпрыгнула она у плиты. Лидия
Николаевна звонко, по-молодому рассмеялась
и тотчас же испугалась: а вдруг услышит
дочь? Тайная детская радость распирала
ее. Какая же милая старушка эта Любовь
Ивановна, как вовремя позаботилась об
Оле! Как все удачно складывается. Есть,
есть на свете порядочные люди!
Со счастливой улыбкой оглянулась Лидия
Николаевна на звук Олиных шагов, но
улыбка ее тут же угасла. Боже мой, за что
ей, первой моднице института, такое
наказание? Оделась, называется! И это
ее дочь! Серая юбка и невразумительная,
болотного цвета блузка. Ничего, и туалеты
поменяем, наскоро утешила себя Лидия
Николаевна, купим готовые кофты, юбки,
сапожки, фигура у Оли вполне ничего, в
том смысле, что стандартная. Косметику
тоже сменим, уже веселей прикидывала
Лидия Николаевна. Когда Оля подкрашивает
глаза, получается неплохо, забавная
мордашка, деревенская, правда, немного,
скуластая, глаза зеленовато-карие, с
волосами не повезло, не очень густые,
зато по цвету к глазам идут. Мордва,
вздохнула Лидия Николаевна, угро-финны.
Бродячие племена, как выразился недавно
один пациент. Впрочем, теперь это,
кажется, тоже модно. Тип красоты
катастрофически, варварски поменялся:
чем вульгарнее физиономия, тем моднее.
И выступают при этом с гордым видом
красавиц. Даже не посторонятся, когда
проходят мимо. Принцессы в джинсах! И
джинсы, особенно внизу, ближе к земле,
или грязные, или рваные. До чего они все
неотмытые, неотстиранные, разболтанные
какие-то! Смотришь на них, и не верится,
что кругом теперь душ и горячая вода.
Мы воду в кастрюлях подогревали, в
тазиках плескались!. А эти... Женственности,
ухоженности, вот чего им не хватает! И
еще умения держаться. Полная недоступность
при внешней простоте обхождения. Максимум
аристократизма при минимуме необходимого
демократизма. Так просто! Нет, этого они
не понимают. Каждая умная женщина должна
продумать себя в деталях. Лидия Николаевна,
например, не давала себе потачек даже
во время войны. Муштра, женщине необходима
муштра! А Ольга? Боже мой! Чуть что,
клонится к земле, плечи опущены... стоит,
как сломанная березка на полянке. Кому
сломанныегто нужны? Что с ней творилось,
когда выгнала Олега? Как будто вокруг
вымерли все мужчины! Тоже мне, последний
мамонт! Орясина! Сколько раз Лидия
Николаевна пыталась внушить дочери
простую истину: какую женщина себе цену
назначит, во столько мужчина и оценит.
Ольга фыркала в ответ на ее уроки,
вот и живет одна, и вьется вокруг нее
весьма подозрительный человек. Скользкий
он, затосковала Лидия Николаевна, и к
тому же плохой пример для Сережи.
— Олечка, — нежно проговорила Лидия
Николаевна и виновато оглядела дочь,
избегая смотреть на серую юбку, которую
смастерил ей кто-то из музейных идиоток
— за версту видно, что самодеятельность,
но ведь слушать не хочет,
носит, не понимает...
— Садись, детка!
—Мама,
давай все решим по-деловому. Что надо
сделать в первую очередь?
—Что ты ко мне с ножом к горлу? В первую
очередь надо получить мебель, — внезапно
раздражилась Лидия Николаевна.— Да,
да, и не смотри на меня, как на преступницу.
Я что, кого-то убила, ограбила? Прихожу
с радостной новостью — и вот, треплю
себе нервы, уговариваю, объясняю... Нет,
хватит с меня!
Лидия
Николаевна стремительно поднялась,
оттолкнула ногой попавшуюся на пути
табуретку, убежала в прихожую и вернулась
с сумкой. — Все! Разбирайтесь сами!
Надоело! — Она щелкнула замком сумки.—
Бери! — И протянула Оле сберкнижку.—
На твое имя!
— На
мое имя? — Оля повертела сберкнижку в
руках и непонимающе поглядела на мать.—
У меня нет сберкнижки... я так обхожусь...
—Оля, не будь младенцем!
—Ах вот оно что! Отдай ей обратно! —
монотонно проговорила Оля и подала
матери сберкнижку.
—Оля,
постой, погоди,— запричитала Лидия
Николаевна, отталкивая от себя руку
дочери,— подумай, подумай сначала...
Оля молча, с сосредоточенным лицом
продолжала совать матери сберкнижку.
— Нет, нет, не возьму! — вскрикивала
Лидия Никола
евна и взмахивала
руками.
— Бери, бери!
— наступала на мать Оля и, неловко
повернувшись, смахнула со стола пустую
чашку.
— Ах так, ты и
посуду бьешь? Вот тебе еще тарелка!
Бей, колоти, — кричала Лидия
Николаевна,— ну что же ты?
А Оля все слепо тыкала матери смятую
сберкнижку, и все попадала ей куда-то
под ребра, в живот, а Лидия Николаевна
пятилась, отступая к плите, и убирала
за спину руки. Наконец сберкнижка упала
на пол неприметным комком бумаги.
— Нет-нет, я всегда подозревала, —
кричала, все больше краснея лицом, Лидия
Николаевна,— ты безумная, тебя лечить
надо! Адаптированное безумие — типичный
случай! Бедный Сережа, бедный мальчик!
Глаза у Оли стали совсем зеленые.
—У кого ты взяла? У больной старухи?
—Нашла короля Лира! Она себе тоже
оставила! Что ты прижала меня к плите?
Я испачкаюсь! Выпусти, выпусти меня, я
хочу сесть!
—Сегодня,
сейчас же отдай обратно! — наступала
на мать Оля. .
—Все! Хватит! — Лидия Николаевна
отодвинула дочь в сторону, тяжело
наклонилась, с трудом села и вытерла
ладонью пот со лба.— Стоишь истуканом?
Твоя воля. Стой, преступница, стой,
злодейка. Ты понимаешь, что ты творишь?
Ты же отказываешь старухе в последней
радости — в счастье обеспечить близких
и любимых. В старости деньги не нужны.
—Пусть сама тратит!
—Добивай ее, добивай! У нее и так сердце
больное, бери сберкнижку и отвози! —
Носком туфли Лидия Николаевна осторожно,
словно бомбу, подвинула сберкнижку
поближе к Оле.— Бери! Боишься? То-то же,—
торжествуя заметила Лидия Николаевна,—
все на меня, одна я смелая!
Оля села напротив матери, помолчала,
погладила Лидию Николаевну по плечу:
—Мама, ты меня извини, ладно? Это длинный
разговор...
—И не будем,
и не будем, детка, возьми сберкнижку и
успокойся,— обрадовалась Лидия
Николаевна.
—Да нет, я
не о том.
—Понимаю, все
понимаю, нервы, ты добрая девочка, что
ж тут не понять.
—Да нет,
знаешь, я давно могла бы распрекрасно
жить... если бы хотела, понимаешь?
—Нет! — ошарашенно ответила
Лидия Николаевна и даже
слегка откинулась, чтобы
получше разглядеть Олино лицо.
—Я же ездила в экспедиции!
—Ну и что? У тебя такая работа.
—Я могла скупать за гроши! Да что скупать!
Даром брать! Ты вспомни, что творилось
в шестидесятые годы!
—А
что? Прекрасное было время,— слегка
оправилась от изумления Лидия
Николаевна.
—Ведь все
валялось! В Вологде на колокольне гибли
тысячи книг, я отбирала только для
музеев...
—Ну как же, как
же, помню, ты тогда очень мерзла в этой
Вологде, чуть не схватила воспаление
легких.
—Мы не понимали,
как это — брать для себя, а после нас
приезжали неизвестные люди и увозили
грузовиками — иконы, резьбу, книги...
Спасали... Теперь понимаешь?
—Нет,— честно призналась Лидия
Николаевна,— почему же не взять, если
ценность...
—А в Костроме,
а в Туле? Знаешь, какие иконы гибли в
Рыбинске?
—Оля, при чем
тут Рыбинск? Рыбинск далеко, туда надо
плыть на пароходе... Конкретней...
—А бриллианты, мама? — продолжала тихо
Оля.— Сколько старушек предлагали
купить по дешевке... некоторые наши
девочки покупали...
—Хорошо, себе не брала,— недовольно
перебила Лидия Николаевна,— а почему
не говорила родной матери?
—И ты хочешь, чтобы после всего этого
я взяла последнее у Любови Ивановны?
—Так, Оля, значит, матери купить бриллианты
ты не предлагала. Эгоистка, я всегда
знала, что ты эгоистка!
—Мама, ну подумай сама,— мягко говорила
Оля,— и теперь взять у больной, одинокой
старухи? Да как же так? Я не могу себе
это позволить, неужели ты не понимаешь?
—«Взять — не взять» — заладила, как
попугай! Хватит, Ольга, что ты в жмурки
с жизнью играешь? Молодая была, глупая,
пора и поумнеть. Ты на себя-то оглянись,
это же у тебя все от эгоизма, от слепой
черствости! Думаешь, это от убеждений!
Это же глупость, эгоизм и глупость,
больше ничего. Ни о матери не думаешь,
ни о себе, ни о сыне. Сережа-то почему
должен нищим жить? Постои, постой,—
перепугалась Лидия Николаевна,— ты
что, плакать собралась? Обиделась на
меня?
—Почему ты мне не
веришь? — заплакала Оля и закрыла лицо
руками.— Почему? Почему вы мне все не
верите?
—Что ты, что ты,—
Лидия Николаевна обняла Олю и поцеловала
в щеку. Оля заплакала еще пуще.— Бог с
тобой, детка, перестань,— причитала
Лидия Николаевна,— все, все, забудем
наш разговор, иди умойся, я тебя прощаю.
2
Лидия
Николаевна подмела кухню, выбросила
осколки чашки в помойное ведро, уселась
на табуретку. Ноги дрожали. Ничего себе
разговорчик! Можно ли было предвидеть,
когда она мчалась к дочери? Обрадовать
хотела, поддержать! Обрадовала, называется!
Она поглядела в окно, из которого был
хорошо виден сквер со склоненной понуро
головой памятника Гоголю. На макушке
Гоголя сидели голубь и голубка и судачили
между собой. Стоит понурить голову, как
тут же начинают о тебе судачить, машинально
подумала Лидия Николаевна. Втайне от
себя она не любила этот андреевский
памятник, которым принято восхищаться.
Она вообще не любила всякую понурость,
как знак душевного нездоровья. Она и
Гоголя не любила и, кажется, не перечитывала
со времен школы, хотя, как ей сообщила
одна пациентка, Гоголь сейчас в большой
моде. Пусть, у Лидии Николаевны свои
представления о моде. Но главное все-таки
не отступать от своих принципов, и тут
она согласна с этим понурым бронзовым
человеком: взял и сжег свою рукопись
вот здесь, рядом, четыре минуты ходу,
взял и бросил в камин.
Лидия Николаевна прислушалась. Все еще
плачет? Ужас, кошмар! Нет, вроде бы
успокоилась. Тоже свои принципы: скомкала
сберкнижку, как ненужную бумажку.
Рассказал бы кто, не поверила. Что ж, это
как-никак признак порядочности, подбодрила
себя Лидия Николаевна, иметь стойкие
принципы.
Усталым
взглядом обвела она кухню и увидела все
то же: закопченный потолок, пожелтевший
кафель, вспухнувший линолеум. Так это
же бедность, догадалась Лидия Николаевна,
откровенная бедность. Так все оно и
останется, так Оля и будет доживать, ее
не сдвинешь, тяжелая она, свинцовая.
Свинцовая дочь! Нет, нет, всполошилась
Лидия Николаевна, так не будет, не
позволю! Заставлю Олю сделать ремонт...
шубу сшить. Да, это мера, оживала Лидия
Николаевна, шуба — сильная воспитательная
мера! Договорюсь с одним своим пациентом,
пусть пришлет шкурки, лихорадочно
соображала она. Да... шкурки, как зверька-то
его зовут? Все сейчас разводят... забыла...
глаза у них косые... Бобер? Нет, бобер в
воде плавает, у него усы... Вот... нутрия,
приятный зверек, пушистый. Да, перво-наперво
шубой соблазнить. Это мысль — обложить,
соблазнами обложить! — намечала Лидия
Николаевна план действий. Ведь погибнет
со своими голыми принципами, ведь жизнь
себе погубит. И себе, и Сереже, явилась
новая беспокойная мысль, втянет сына в
эту серую беспросветность. Приучит,
приучит мальчишку, отобьет у него мужской
рефлекс. Как же это она позволила дочери
таскать Сережу в музей, там он и вырос,
в домишке этом кособоком. Скособочила
жизнь! В мертвый музей ее превратила!
Весь дом, всю душу в эту мертвечину
переселила, а здесь что? Ночлежка,
пустота. Шесть чашек, четыре блюдца.
Спасать, спасать, пока не поздно! Пусть
говорит что хочет, все равно не
позволю!
— Умылась?
— пропела Лидия Николаевна вошедшей
дочери.— Умничка! Я подумала... ты нрава,
детка, ты мне все правильно объяснила:
тебе неловко брать деньги, потому что
отсчет идет у тебя, как говорится, от
нуля. Когда деньги к деньгам, всегда
легче, ты не замечала?
Оля затравленно улыбнулась, глаза у нее
покраснели и вспухли от слез.
—Конечно, особенно когда вокруг
эпидемия.
—Оля, погоди,
в Москве сейчас нет даже эпидемии гриппа,
опомнись, детка, лето!
—Это так все заманчиво, мама! Ты думаешь,
я совсем дурочка, да? — говорила Оля
быстро.— Думаешь, мне так приятно считать
копейки? Думаешь, я не устала стрелять
десятки до зарплаты? Мне тоже много чего
хочется, но, мама, как ты не понимаешь,
у меня даже выбора нет, ведь переступишь
— и пропала...
—Что переступишь,
куда пропала? — почти закричала Лидия
Николаевна.
—Нет, нет, мама,
ты не тонула, тебе не страшно, ты не
знаешь, как сладко тонуть.
—Почему тонуть, зачем тонуть? Ничего
не понимаю!
—Помнишь, я
девочкой тонула в Оке? Меня Ваня-пастух
спас?
—Олечка, ты о чем,
милая?
—Ваня, такой
симпатичный, странно, спас и где-то
живет. Теперь многие научились так уютно
тонуть, и жизнь получается по ноге...
совсем, как разношенные тапочки.
—Нет, нет, Оля, тапочки тебе необходимо
сменить, тебе нужны хорошие домашние
туфли,— твердо возразила Лидия
Николаевна.
—Поеду в отпуск
в деревню, найду Ваню...
—Олечка, вот насчет Вани... это ты о
деньгах? — сообразила Лидия Николаевна.—
Бог с ними, Олечка, все умрем.— Лидия
Николаевна немного отдышалась от страха
и обиженно заговорила: — Ты считаешь
меня корыстной, да? Из-за того, что я тебя
уговариваю? Нет, Оля, у меня тоже есть
свои принципы. Поездка к больному на
дом — это четвертной. Но ведь я же не
езжу! Так что не смей меня осуждать, не
смей, это жестоко. Видишь, я тоже не хочу,
как это ты выразилась? Тонуть! Вот и
Любовь Ивановна со мной примирилась.
Тут Лидия Николаевна на мгновение
задумалась, почему это вдруг ее Оле
решила помогать чужая старуха. Почему?
— вдруг пронзило ее догадкой. Да потому!
Ей, матери, не доверяют Ольгу, уходя из
жизни. Стараются помочь, чем могут. А
что они могут в нынешней обстановке?
Книжные полки и те много лет достать не
могли, пока не вмешалась Лидия Николаевна.
А так годами книги на Фурманном валялись
прямо на полу, пылью покрывались, полное
отсутствие гигиены. Могут чем? Подумаешь,
деньги! Связей-то никаких! Покойный Олин
свекор был крупным спецом, но никогда
ничего не мог и не умел. Лидия Николаевна,
хоть и бессребреница, в своем городе
может все! Все может, а что толку? В какое
положение попала перед дочерью? Вон
лежит мышиного цвета сберкнижка. (Кто,
кстати, такой унылый цвет для обложки
придумал? Деньги вещь веселая, а у них
похоронный какой-то цвет.) Надо бы
книжечку незаметно прибрать, чтобы
снова скандала не вышло. Прибрать-то
прибрать, а все равно деньги чужие,
чужими людьми заработанные. Чужие
старухи экономили.
Вот тебе и ничего не могут! — внезапно
оскорбилась Лидия Николаевна. Обвели
вокруг пальца. Это ж надо придумать
— такое дело мне, родной матери,
перепоручить. А сначала слушала хитрую
старуху, радовалась за дочку... Чему
радоваться? Это же вызов лично мне!
Ткнула мне в нос свои деньги: вот, мол,
какая ты негодная мать! Может, я впрямь
негодная? — тосковала Лидия Николаевна.
Упустила, упустила дочь, но совсем не в
том дурацком смысле, как понимает Любовь
Ивановна. Что Ольге их наследство? Такую,
как Ольга, лишней сотней не проймешь.
Такая любые деньги развеет по ветру на
книжки! Упустила, упустила! Все Оле не
нравится, все ей не по вкусу — и стенки,
и паласы, и хрусталь, и цветной телевизор.
Люди стали лучше жить, а она как будто
винит их за это. Нет, даже не то чтобы
винит, а не замечает, будто всего этого
у людей нету. Надо было ее расталкивать,
соблазнять, глаз с нее, такой, не спускать
с раннего детства. Не вмешалась, не
вылепила родное дитя. Прозевала! Олину
судьбу прозевала!
И
себя прозевала, все, все прозевала! Давно
могла стать профессором! Руководитель
знаменитой клиники — это по нынешним
временам человек, через которого не
переступишь.
Ах, при
чем тут старухины деньги, что вообще
теперь значат деньги? Губы синие и голова
трясется, а сама... хитрая, до чего же
старуха хитрая!
А как
хорошо жизнь начиналась! — тосковала
Лидия Николаевна. Какие были учителя!
Как повезло! И куда ушло мое везенье?
Покойный профессор Кареев во время
войны, я как раз ждала Ольгу, вызвал к
себе в кабинет, сказал, что у меня редкая
интуиция и прекрасный логический
аппарат, что мне мешает только одно —
красота, эгоизм красоты, да, так он тогда
сказал. Может, Любовь Ивановна потому
меня и не любит? Всю жизнь проходила в
дурнушках, нескладная, рыхлая, завидует,
до сих пор завидует...
Профессор... профессор Кареев в том
давнем разговоре... как он меня уговаривал,
кто сейчас так уговаривать-то станет?
Когда же это было? Осенью, осенью сорок
третьего года, клиника находилась тогда
в деревянном корпусе, отопление было
центральное, но во всех палатах еще
оставались кафельные печи, и профессорский
кабинет был маленький, темный, мрачный.
А в то давнее утро он был золотой от
старого клена, росшего прямо под окном.
Кленовые листья залетали в кабинет,
мягко приземлялись на пол, Лидия
Николаевна невольно загляделась в окно,
а профессор, живой, еще не переселившийся
портретом на стену (он умрет вскоре
после войны, «как Кутузов», говорили у
них в клинике), был строг и утверждал
все наоборот: не красота спасает мир, а
ежедневный, ежечасный труд человека
над собой. Труд души, как говорил старик.
Лидия Николаевна в ответ на его слова
расплакалась, так они показались ей
обидны: она сутками не выходила из
клиники, спала в ординаторской, когда
бывало нужно, и это в ее положении! А
Кареев ответил ей, что имеет в виду не
просто труд, а служение, и призвал ее
готовить себя к служению. Тяжелая
нагрузка — то, что профессор назвал
служением. Иван Феоктистович говорил,
что ей много дано и пора выбирать. И
напрасно она думает, что дар происходит
от слова — даром. Даром, да не совсем.
Дар — это не ваша ноша, говорил ей
профессор, а Лидия Николаевна, глотая
подступавшие слезы обиды, внимательно
следила за очередным кленовым листом,
свободным в своем полете, красоте и
гибели,— дар — это свыше, это распорядились
небеса... И странно было слышать такие
слова московской комсомолке в разгар
тяжелой войны. Дар вам дан, вы понимаете
меня? Не могла же Лидия Николаевна
признаться, что не понимает. Дар — это
не украшение, а горб, строго вещал
профессор.
Горб,
конечно же горб, запоздало прозревая,
вдруг подумала Лидия Николаевна, как
же это я раньше-то не понимала? Дар —
это же для женщины наказание, кошмар,
он же не пускает жить, как все. А вдруг
и вправду у нашей Ольги дар? И дар-то
этот у нее наверняка меньше, чем у меня
был, и красотой обделена, и характер
прямолинейно-тупой, негибкий, и все
же... Может, отсюда и идут все ее недостатки?
Может, она в себе свой дар— пусть весом
с пылинку — как это... развивает?
Свой дар надо услышать, вспоминала Лидия
Николаевна глуховатый голос Кареева,—
старик безжалостно крутил в толстых
пальцах беззащитный кленовый лист и
повторял, что от человека требуется
лишь одно — суметь услышать смолоду
свой дар, а дальше станет легче, дальше
этот самый дар, который он сравнивал с
инстинктом, поведет по жизни, как ведет
по жизни всякий инстинкт, дар сам за
себя отбросит ненужное... Вот Оля и
отбрасывает, соображала Лидия Николаевна,
все ей не нужно, все мешает. Характер
упрямый, глаза, если что, сразу зеленые,
и из них искры, искры, искры — вот-вот
спалит, жить рядом с ней — как под током
высокого напряжения. И откуда в ней этот
ток? Нет, мужчины на таких не женятся...
И что там Оля делает в своей комнате? Ах
да, телефон же звонил! Так-так, разговаривает
с Олимпиадой, тоже хорошая штучка эта
кассирша!.. Иными словами, в то давнее
военное утро Кареев предсказал ей
возможность высокой академической
карьеры. И чего в конце концов она
добилась в жизни? Девочки из «Консервов»
оставляют ей шампиньоны за то, что она
достает им лекарства. Все, выдохнула
Лидия Николаевна, это и есть потолок.
Может, Кареев меня переоценивал, с
надеждой усомнилась она, какой там был
у меня дар? Вздор один... А может, вообще
он возложил на мои хрупкие — я ж тогда
была вылитая Мерлин Монро, как у нее
были плечи, в точности,— непосильную
задачу? Готовился к уходу в мир иной,
торопился, хотел успеть передать в
надежные руки свое медицинское наследство.
Я была молода и не готова, он стар и
нетерпелив. Вот и вышло несовпадение.
Проживи он еще лет пять, может, я бы и
дозрела. Нет, вряд ли, кто тогда задумывался
о карьере, о благах, которые она с собой
несет? Моя ли в том вина? Все мы были
наивны и простодушны, далеко не
заглядывали: время было такое, бескорыстное!
А сейчас? Предложи молоденькой женщине
помощь такой человек, как Кареев, она
бы вцепилась, как клещ, намертво! А
почему? Потому что видела бы выгоды
далеко вперед. Выгоды, они сейчас, в их
замечательное время, так ясно видны и
так ценимы. Бедный Кареев — шишковатая
лысая голова, бритый подбородок —
портрет его вот уже почти сорок лет
висит в профессорском кабинете среди
прочих основоположников — толковал о
метафизических выгодах, и это звучало
как напоминание о чем-то святом, чему
нельзя дать погибнуть, как заклятие,
что впереди жертвенный труд, а не конверты
с весело просвечивающей крупной купюрой.
Бесплатная медицина... Иван Феоктистович
воспринял этот лозунг революции буквально
и неудобств от ее бесплатности не ощущал.
А нынешние? Сама грешна, что тут таиться?
Но как я использую свой авторитет? По
мелочишке! И почему я не могу приспособиться?
— сокрушалась Лидия Николаевна. Другие
давно занялись частной практикой и
нисколько этого не скрывают. И медсестры
при них, и частные массажистки. И меня
ведь звали! Нет, не могу! Поздно, поздно
перестраиваться! Слишком много перебегала
я бесплатно с мокрыми ногами, слишком
много сердец прошло под моим фонендоскопом.
Поздно! А ведь могла бы, могла бы создать
своим близким другую жизнь. Сама, без
помощи этой хитрой старухи. Она-то умней
оказалась, деньги копила!
Но тогда почему профессор Михаил
Степанович, он же такой современный,
испытывает ко мне странную слабость?
Нужна, прозревала Лидия Николаевна, как
специалист нужна и для фасада. Всей
Москве известно, что частной практикой
я не занимаюсь, что лечу даром. Даром —
это и есть фасад. Дар — не даром! Даром,
голубчик Иван Феоктистович, совсем
расстроилась Лидия Николаевна от своих
странных выводов, даром! Надежд-то ваших
я, может, не оправдала, но вас не подвела,
чистоту вашего имени сохранила. А вот
Михаил Степанович, такой обаятельный
и блестящий, он-то, размышляла она, он
же клиникой нашей вовсю пользуется, и
клиникой, и лично мною, моим авторитетом.
И все так вкрадчиво, изящно, пританцовывая
на модных каблуках... А его новая квартира
на улице Горького? Из институтских
фондов? Нет, конечно. А бесконечные
поездки за рубеж от всевозможных,
немыслимо далеких от медицины организаций?
А кого профессор направляет к ней на
консультации? Только влиятельных людей.
Ездит с ними на рыбалку, загородные бани
посещает, сам себе на даче баньку
соорудил, приглашает туда гостей.
Представить себе, как Иван Феоктистович
парится в бане в компании «нужников»,
а потом пиво баночное с ними пьет... нет,
Лидия Николаевна не могла себе
это вообразить. А Михаилу
Степановичу зачем бани? Сердце же
больное! Вредно! Нет, ему нужно. Ему много
чего нужно и нужно будет без конца. Были
«Жигули», меняет на «Волгу»: из чистого
престижа. Система беспрерывно
расширяющихся «Жигулей» — вот
чем дышу, вот что рядом со мной творится.
И эти его мальчики, бодро марширующие
в науку ребята... А что, разве я прежде
не замечала? Марширующие мальчики меня
не трогают, вот я и довольна. Мальчикам
нужны посты, командировки, должности,
я им не мешаю. А у Ивана Феоктистовича
личной гвардии не было, и не высаживал
он в случае тревоги десанта морских
пехотинцев на заседания ученого совета.
Зато, бывало, бормотал себе под нос гимны
Пиндара и, прислушиваясь к звучанию
слов, которых в клинике
никто, кроме него, не
понимал, заметно наслаждался. Тогда
молодежь только и делала, что потешалась
над ним втихомолку. Лидия Николаевна
хихикала громче всех. А
теперь, вот ведь парадокс,
подумалось ей, для Михаила Степановича,
для новоиспеченного старшего научного
Славки Шундикова, ее ученика, кто она
сама, как не тень старого профессора
Кареева? Она, малообразованный,
в сущности, человек, как почти
все люди ее военного поколения,
уж в этом-то она себе может признаться,
человек малокультурный, по сравнению,
скажем, с дочерью, именно она представляет
отныне в клинике старые традиции.
Печально, но это так, именно за
ней предполагается знание если
не древнегреческого, то по крайней мере
того неуловимого, что кануло навеки, но
что так хочется присвоить себе всем
этим сноровистым молодым людям.
Реставрировать внешний лоск для
фасада. Я же для них фасадный человек,
соображала Лидия Николаевна.
Сгорбившись на неудобной кухонной
табуретке, размышляя о прошедшей жизни
и рассеянно глядя в окно, она
обнаружила вдруг, по привычке
следить за своим телом, что
горбится так же, как этот, раздавленный
неисполнимыми мечтами о всеобщем
исправлении и счастье, угрюмый бронзовый
человек. На голове его занимались
своими делами воробьи, а вокруг памятника,
на скамейках, восседали
значительные, непреклонные
пенсионеры — контингент больных, не
очень-то любимый Лидией Николаевной.
Что-то Оля слишком
долго говорит по телефону.
И как ей времени не жаль. Хотя, судя по
голосу дочери, разговор серьезный.
Неужто кого-то ругает? Научилась! Давно
пора! Неужели Олимпиаду? Лидия Николаевна
вздохнула, с трудом заставила себя
встать. Закружилась голова. Она снова
села. Да, сильная сосудистая реакция.
Этого она от себя не ожидала. И вчера
после разговора со старухой весь день
была не в своей тарелке. И сегодня —
на тебе, кто бы подумал!
Она несколько минут посидела с закрытыми
глазами. Оля толково и строго выговаривала
какому-то человеку, как следует циклевать
пол в зале, сулила пол-литра спирта.
Откуда у нее, спирт? Ах, да! Витрины
протирать! И тон разговора, и уверенность
дочери Лидии Николаевне понравились.
Молодец! И решение отлакировать полы —
тоже. Этот «Миша с ногой», этот пожилой
озорник полотер, сам о себе говоривший:
«Я — вымирающая профессия», слишком он
начал зарываться: из-за того, что
вымирающий. Всего три года назад брал
с Лидии Николаевны за всю квартиру
пятерку, а теперь не дозовешься, дерет,
куражась, десятку и еще издевается. Лицо
морщинами исполосовано, как бритвой,
вроде бы босой уголовник ворвался в
квартиру, сипит уголовные ласковости,
вот-вот прирежет! Зато какой после него
уют и как дивно пахнет воском. Но зачем
Оле уют в музее? Уют — это если не пускать
посетителей. Уют «Миши с ногой» посетители
вытаптывают за день, а потом поди дозовись
дорогого Мишу, если платить ему приходится
по безналичному расчету. Вот Миша и
сипит, и издевается! Меня-то он еще
опасается, пригодиться могу, а Олю... Что
ему Оля?
Как мысли-то
у меня бегут, как путаются, испугалась
Лидия Николаевна. Что это? Миша вдруг
привязался...
Она
снова прислушалась. Оля обсуждала с
мастером сорта лака. И это усвоила ее
девочка! Умница! Вот Лидия Николаевна,
например, в лаках ничего не понимает. А
ведь лак-то, лак, беспокойно решила она,
он быстро стирается!
— Оля, Оленька! — закричала Лидия
Николаевна и, откуда силы взялись,
побежала в Олину комнату. — Оленька,
погоди, может, не стоит лакировать, а?
Они, эти экскурсии, протопчут у тебя
дорожки, через квартал снова на ремонт
становиться?
Оля
закрыла трубку рукой, посмотрела на
мать и в лице ее увидела, должно быть,
что-то такое, что заставило ее ответить
Лидии Николаевне очень мягко:
— Циклевальная машина уже приехала,
поздно.
— Как знаешь,
дружочек,— нежно откликнулась на
мягкость дочери Лидия Николаевна,— как
знаешь, извини, я не вовремя вмешиваюсь.
— И уже медленно, на ватных ногах побрела
на кухню. «Ведь «можно же при взаимном
добром желании разговаривать нормально».
Она увидела смятую сберкнижку, подобрала,
расправила и спрятала в сумку, потом
помыла чашки, села: сердце колотилось
неистово. Да это же кофе, сообразила
Лидия Николаевна, три чашки кофе. И,
сообразив, сразу успокоилась. И уже
почти с нежностью поглядела на Гоголя,
свободного в эту минуту от цтичьих
забот, не обсаженного пенсионерами, не
обкрикиваемого детьми — для старых
и малых приближался важный час обеда.
Жалко Гоголя, заключила Лидия Николаевна,
жалко и тех, для кого обед стал смыслом
жизни. И Михаила Степановича жалко,
миролюбиво решила она. Консультирует
в трех местах. Будет у него все, все
будет, а он возьмет и умрет, надорвавшись.
Дочь жалко!..— продолжала тянуться в
ней сладкая, всепрощающая нота.
Но тут Лидия Николаевна прислушалась
к себе и поняла, что нота фальшивая. Нет,
Ольгу ей было не жалко. Оля, как ни
странно, сегодня ее успокоила. Оля не
рвется никуда, прежде Лидию Николаевну
это всегда озадачивало. А может, оно и
к лучшему, может, так и нужно... Деньжата
кое-какие завелись, пусть потихоньку
занимается своими декабристами, из
памяти о которых шубы, как говорится,
не сошьешь. Вот, кстати, пословица есть
такая: «Кто мало берет, тому бог подает».
Нет, не так, забыла. «Кто рано встает...»
Впрочем, неважно. Важно, что дочери
неожиданно повезло.
И тут Оля вошла на кухню.
—Мне пора, — сказала она.
—Оленька, а ты вечерком к нам не забежишь?
— спросила Лидия Николаевна.
Олиному ответу помешал телефонный
звонок.
—Опять! —
досадливо отмахнулась Лидия Николаевна
и побрела за Олей в прихожую. Так и есть.
Она и без того удивлялась, почему Он до
сих пор не звонит. Сговариваются! — с
неприязнью прислушалась Лидия Николаевна.
Сговариваются, как лучше обмануть его
жену. Значит, вечером к нам не придет,
он-то с ней к нам не ходит, ему, видите
ли, скучно. Боится с ней на людях
показываться, Оля, дурочка, не понимает.
Ну ладно, всему свой срок, успокаивала
она себя, между тем огорчаясь все
больше.
—Оля, деточка,
не женится он на тебе! —неожиданно
плаксиво сказала Лидия Николаевна.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
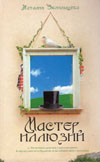
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





