ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
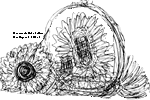

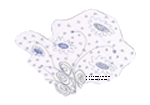
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Хаимова Инна
2
ЛЮБОВЬ
- Годы и годы ее жизнь складывалась из маршрута от дома до работы по утрам. Днем — лабораторные дела, вечером — общение с соседями по коммуналке либо свидания с Серафимом. Иногда распорядок ее бытия нарушался встречами со знакомыми. Семья Рождественской, друзья Симы, Лаврушечка с Эмилией — они тоже были привычной необходимостью ее жизни. Все это являлось для Юны какой-то оболочкой, защищавшей от того, что происходило в мире. С течением времени оболочка так уплотнилась, что Юна порой ощущала себя «завернутой в кокон». Любви Юна не искала и не ждала. Давно замечено, что многие события человеку только кажутся неожиданными, произошедшими будто бы от столкновения непредсказуемых случайностей. Но, если вникнуть поглубже в то, что случилось, начинаешь понимать: для события уже была подготовлена благодатная почва.
- В тот зимний воскресный вечер Юну одолевала злая тоска. Все поднялось в ней против сослуживцев, «прорабатывавших» ее несколько дней назад за прогул.
- «Видеть никого не хочу,— думала она.— А что делать? Жить на что-то надо...»
- Юна слонялась из угла в угол, не зная, куда себя деть. К Рождественской ехать не хотелось. Лаврушечка с Эмилией, она знала, ушли в театр. Юна открыла книгу и тут же захлопнула, не прочитав ни страницы. Начала было гладить, но, не закончив и этого дела, выключила утюг. Потом поняла, что раздражение вызвано еще и шумом, доносившимся из кухни. Директорша в очередной раз начальственным тоном распекала «мамашку», а та, как всегда, заискивала перед ней. Юна подумала, что ведь и она теряется перед хамством соседки, хотя пытается той что-то доказать.
- «Куда бы пойти?» — И вдруг Юна вспомнила, что Симка, уезжая несколько дней назад в командировку, поручил ей передать какую-то статью Ахрименко. Срочности в этом не было никакой, но она все-таки решила позвонить сослуживцу Симы.
- Телефон висел на стенке в конце коридора, около комнаты слесаря-сапожника. Дверь в комнату была распахнута настежь, и Юна увидела празднично накрытый стол, а слесаря-сапожника при галстуке, в белой нейлоновой рубашке, поверх которой был надет длинный черный фартук. Он восседал на высоком табурете и, заглушая Шарля Азнавура, колотил молотком по заготовке, натянутой на колодку. Слесарь явно был навеселе. Он во весь голос пел «Дубинушку», словно соревновался с французским шансонье.
- Виктор Васильевич ожидал гостей и в то же время не терял, что называется, времени даром. В его семье гостей любили и принимали, по возможности, «на широкую ногу». С давних пор это стало для них обычаем, праздником. За день до прихода гостей жена Виктора Васильевича допоздна готовила студни и заливные, ставила тесто, чтобы поутру начать печь пироги.
- Как только Юна сняла трубку, слесарь нараспев спросил:
- — Мае-ешь-ся? Иди-ка сюда, налью беленькой.
- — Мне надо позвонить и ехать... Спасибо, поблагодарила Юна и начала накручивать диск аппарата.
- — Требуешь? Иди выпей,— будто чувствуя настроение Юны, он пригласил ее еще раз.
- В это время в коридоре появилась директорша. Обожала Тамара Владимировна, подбоченясь, остановиться возле телефона, когда кто-нибудь пользовался им: занимают, дескать, аппарат, о пустяках треплются, а тут по делу никак не позвонишь. Вот и сейчас директорша нависла над Юной, когда та договаривалась с Ахрименко о встрече.
- — Новый кавалер, что ля, появился? А тово ж куда? — поинтересовался слесарь, когда Юна опустила трубку на рычаг.
- — А тово я недавно с кралей встретила...— вмешалась директорша.
- — Чего встряла? — перебил ее слесарь.— Ну, встренула и встренула...
- — Получше-то нашей будет,— ехидно хихикнула директорша, не обратив внимания на слова Виктора Васильевича.— С виду — побогаче. Только в ушах рублей на пятьсот висит.
- — Хотя бы раз в месяц вы своему языку выходной давали,— разозлилась Юна,— а то...
- — Нет, вы посмотрите на эту нахалку! — возмутилась директорша.— Правда ей не нравится! А я всегда только одну правду говорю! Вот тебе истинный крест — видела его с кралей, и в ушах пятьсот. С места мне не сойти!
- Да, в шестьдесят седьмом году серьги за пятьсот рублей, конечно, были целым состоянием.
-
- Слово «любовь» так много в себе заключает. Особенно спаянное с человеческой верой и надеждой. И нежность, и милосердие, и тепло, и терпение — всe в этом слове. В своей жизни без Фроси Юна с годами может быть, все острее ощущала отсутствие ласки, нежности, тепла, которыми так щедро та одаривала свою дочку. Ни друзья, ни Серафим эту потерю восполнить не смогли. Душа ее уже созрела для любви, а значит, неизбежно должен был появиться ОН, долгожданный, единственный...
- Когда Юна приехала к Ахрименко, тот провел ее в комнату и представил ей неряшливо одетого человека, примерно одного возраста с Серафимом.
- — Познакомься,— сказал Ахрименко Юне.— Саша Корнеев. Мой приятель. И наш автор.— И, обратясь к нему, добавил, немного запнувшись: — Боевой адъютант нашего Симы, его верный друг и товарищ. («Боевой адъютант» — это уже была цитата из Серафима.)
- Саша не произвел на Юну особого впечатления. Ростом он был чуть ниже Симы, но шире того в плечах. Сима всегда элегантно и модно одевался, отличался педантичной аккуратностью. А на Саше брюки не только лоснились, но и давно, по-видимому, были не глажены. Манжеты рубашки обтрепаны. На ногах — войлочные ботинки «прощай молодость». Особенно Юне не понравился апломб — при таком-то внешнем виде! — высокомерие по отношению к ней и Ахрименко.
- Но голос Саши, с бархатными модуляциями, был хорошо поставлен. Благородные черты лица и вальяжность в поведении сочетались в нем с босяцким облачением.
- Заговорили о литературе.
- — Ну что ты говоришь? У него рабская психология,— сказал Саша о творчестве поэта, имя которого Юне было неизвестно. Раскинувшись в кресле, своим бархатным баритоном он как бы заполнил всю комнату. Юна не очень-то понимала, о чем он говорил. Но голос его ее обволакивал, умиротворял.— Сейчас все построено на сублимации,— продолжал Саша.
- — А что такое сублимация? — спросила Юна. Она словно вернулась из забытья.
- — Ну, детка,— Саша снисходительно взглянул на нее,— где вы воспитывались? Обратитесь к любому школьнику или, в конце концов, к толковому словарю. Это — во-первых. Во-вторых, нужна элементарная культура слушания. Не следить за речью собеседника — неинтеллигентно.
- — Во дворе я воспитывалась! На улице! — огрызнулась Юна.— А делать замечание женщине в обществе тоже не признак великой интеллигентности.
- — Ну какая вы женщина?! — воскликнул Корнеев, явно заводясь.— Девчонка!
- — Ладно, ладно,— примиряюще остановил их Ахрименко,— нашли, из-за чего шуметь. Лучше выпьем кофе...— И хозяин перевел разговор на другую тему:— Как Надя?
- — Ничего. Благодарствую. Сейчас ей лучше. Но, вероятно, выйдет на работу не скоро,— ответил Корнеев и стал набирать номер телефона.
- Юна опять услышала слово «детка» и бесконечно долго произносимое «ца-ллу-ую».
- — Валентину помнишь? — кладя трубку на рычаг, спросил Корнеев Ахрименко.— Маленькая, с приплюснутым носом. Ты еще сказал, что ее лицо можно спутать с начищенным дном сковородки — так гладко все на нем. Говорит, что млеет от любви. Говорит, что скучает за мной...
- Он закинул ногу на ногу и начал отхлебывать, смакуя, кофе.
- «А еще аристократа корчит! Знатока литературы и искусства,— Юна подумала о нем с неприязнью.— Да он просто дешевка».
- Она вдруг вспомнила словцо дворового жаргона того времени, когда мальчишки ее дома, подрастая начали «строить из себя» подворотнюю шпану и отпускать различные хлесткие словечки. Понятием «дешевка» они определяли показушников и хвастунов.
- Подумать только, как он произносит «благодарствую» и «ца-ллу-ую»! На старинный манер. Как все в нем нарочито и неестественно! Как он претенциозен в своей откровенности и наигранной раскрепощенности! Он будто все время позирует и сам за собой наблюдает со стороны.
- Позже она узнала, что за этими «манерами» Саша скрывает неуверенность в себе, закомплексованность, несамостоятельность.
- А тем временем в беседе за кофе наступила пауза. Неожиданно Корнеев, посмотрев на Юну, произнес:
- — У вас очень чистые глаза...
- Юна с удивлением взглянула на него.
- — Что, не так? — он с напускным равнодушием стал изучать ее лицо.
- Когда Юна пошла домой, Корнеев проводил ее до метро.
- — Дай-ка твой телефончик,— сказал он, прощаясь.
- — Мы, кажется, на брудершафт не пили,— рассердилась Юна.
- — Ничего, еще успеем,— спокойно отреагировал Саша.— Ну так говори же телефончик!..
- Юна почувствовала, что интересует его, и не без ехидства спросила:
- — Я вам понравилась?
- — Не сказать, чтобы очень,— ответил Корнеев.— Имя Юна мне уж точно не нравится. Юна, Юнга, Дюна. Черт знает что. Я тебя буду звать Тапиром.
- — Это что, будет конспиративная кличка?
- — Нет. Имя только для меня. Я люблю тапиров, вообще зверюшек люблю. А ты видела тапиров? Покажем. У них хоботочек на мордочке. У тебя такой же,— и он нежно провел пальцем по ее носу.
- Телефончик Юна ему дала.
- — Ну, оревуар. Я тебе как-нибудь позвоню. А про верного «друга-товарища» забудь. Женщина другом быть не может. Она — или жена, или любовница.
- А через неделю Корнеев позвонил ей в НИИ. Она сама сняла трубку и сразу узнала его бархатистый голос:
- — Тапирюшка! Это я.
- В «тапирюшке» было столько нежности, что у нее вдруг захватило дух.
- — Я вас узнала.
- — Тапирчик, ты обедал? Еще не успел?! — его обычное «ничего» опередило ее ответ.— Ничего, я тут прихватил пару бутербродов и яблоко для различных зверюшек. Поделимся. А копытцам тепло? В тот раз ты была в легких ботиночках.
- — А что?
- — Как смотришь насчет путешествия в зоопарк? Погуляем. С родственниками там тебя познакомлю. На большее я пока не взойду.
- — Не знаю. Я же на работе...
- — А ты уйди.
- — Попробую.
- — Я жду у входа. Ца-ллу-ую, детка.
- Уже звучали гудки отбоя, а Юна все еще стояла с трубкой в руках, и «ца-ллу-ую, детка» напомнило о первой их встрече, когда он вот так же говорил другой женщине, а потом сказал: «Млеет от любви. Скучает за мной...»
- В зоопарк Юна с ним не поехала. Но через полтора часа Юна опять услышала в трубке его бархатистый голос:
- — Ты что, еще не выехала?
- — Я раздумала. И вообще вы мне больше не звоните! — Юна бросила трубку, в душе все ж надеясь, что он перезвонит и спросит ее: «В чем дело? Почему ты так себя ведешь?»
- Но Корнеев больше не позвонил. А на другой день в ушах у нее то и дело звучал его голос: «А копытцам тепло?» Может быть, потому, что Серафим никогда не спрашивал, сыта ли она, тепло ли одета. Такие проблемы его никогда не волновали. Правда, он мог позвать ее к себе, сказав, чтобы она взяла такси и что он встретит у парадного и расплатится. Но дальше подобных забот его внимание к ней не шло. И Юна к этому привыкла. На старой квартире за ней приглядывали Паня и Рождественская. Паня иной раз говорила Рождественской:
- — Девка-то того. Изработалась. Вона тухли каки. Носки с дырой.
- Рождественская, будто и в самом деле была виновата в том, что Юна плохо одета, начинала оправдываться: деньги, мол, на туфли Юне собрала, но без примерки не купишь. Паня до тех пор донимала Юну пока они с Рождественской что-нибудь ей не покупали. J
- Но Пани давно нет в живых. И Юна давно перестала давать Рождественской десятки с зарплат. С того дня, как она сама купила себе платье. На работе. Надо было сразу выложить всю сумму, иначе платье не отдавали, а Юне платье очень шло, и она забрала все, что скопила Рождественская. Увидев платье, та всплеснула руками:
- — Не думала, что ты столь глупа! Платье-то ношеное!
- Евгения Петровна никак не могла взять в толк, что их Юночка платила деньги, заведомо зная, что платье не новое, ей казалось, что их «девочку» обманули, а «девочке» в то время уже стукнуло двадцать четыре года, и ей очень хотелось иметь такое платье. Это было ее первым неперешитым нарядом.
- — В магазине можно купить намного дешевле, и притом новое. Такие деньги! — продолжала сокрушаться Рождественская.— Собираешь деньги ведь месяцами! Вот что: завтра же отнесешь его обратно и заберешь деньги. А мы купим в магазине новое,— решительно заявила Евгения Петровна.
- Юна наотрез отказалась. Про то, что она еще влезла в долг, вообще промолчала.
- — Ну, если ты, голубушка, такая самостоятельная, то я снимаю с себя миссию казначея. Я перед Фросей и Паней чиста. Видит бог, я не виновата,— посмотрев на икону, висевшую в углу, Рождественская перекрестилась.
- Все это вспомнилось Юне после звонка Саши, а после его вопросов: «Тапирчик, ты обедал? А копытцам тепло?» Саша не выходил у нее из головы. Но вспомнит подробности того вечера у Ахрименко, и опять поднимается в ней раздражение...
- А может, у него что-то случилось? Но почему не перезвонил? Обиделся? Рыцари не обижаются. А настоящий мужчина должен быть рыцарем...
-
- Вообще стремление анализировать мелочи, копаться в деталях, всему придавать значение, пытаться все понять до конца стало ее сущностью. Это приносило ей то радость, то огорчение. «Входя в образ», думая за другого человека, Юна порой сочувствовала тем, кто в этом сочувствии и не нуждался. Главная же ее беда заключалась в том, что она требовала ответного сочувствия к себе. Но ведь не все на это способны! Юна иногда озлоблялась на людей, забывая о наказе Фроси «не держать корысти в сердце и не ждать платы за добро».
- Несколько дней Юна только и думала о Корнееве, мысли были противоречивы, раздражение сменялось нежностью, но образ Корнеева стал преследовать ее как наваждение.
- Вероятно именно это и заставило ее снова пойти к Ахрименко. Надеялась увидеть Корнеева? Интуиция ее толкала? Трудно сказать. С волнением подошла она к уже знакомому дому.
- Как объяснила она Ахрименко свой неожиданный визит? Это она напрочь забыла. Все ее внимание сосредоточилось на шапке, которую она хорошо запомнила,— шапке Корнеева.
- — Здравствуйте,— Юна тихо поздоровалась с ним, окидывая его взглядом и стараясь проявить безразличие. Будто он ее вовсе не интересует. Корнеев на приветствие не ответил. Он продолжал рассматривать книгу репродукций и Юны в упор не замечал. Это показное равнодушие разозлило ее.
- «Я тебя тоже замечать не буду».
- — Вы ведь знакомы? — сказал Ахрименко, посмотрев на Юну.
- — Да. У тебя познакомились, между прочим, — поспешила с ответом Юна.— Твой знакомый что-то говорил о сублимации. Кстати, я заглянула в толковый словарь,— закончила она с издевочкой.
- — А я вас что-то не припомню,— Корнеев окинул Юну невидящим взглядом.
- — Вы поговорите. Я сейчас приду,— произнес Ахрименко.
- Он вышел из комнаты. Наступило молчание. Однако Юна не выдержала — первая его нарушила:
- — Вы на что-то сердитесь?
- Корнеев снова посмотрел на нее, и на лице его отразилось недоумение.
- — Я хотела... Ну, в общем, понимаете...— Юна начала спотыкаться на каждом слове.— Я хотела бы... пойти в зоопарк. С вами!
- В этот момент зазвонил телефон, и Ахрименко подозвал приятеля. Юна почувствовала, что Саша разговаривает с женщиной.
- «К чему мне все это? — новая волна досады захлестнула ее.— Никаких зоопарков мне не надо! Есть у меня Симка!» — и тут поймала себя на мысли, что за эти дни ни разу не вспомнила о Серафиме. Он будто напрочь выпал из ее жизни.
- Повесив трубку, Корнеев взял шапку и сказал, что ему надо срочно уйти.
- На следующий день, вечером, Корнеев позвонил Юне домой. И стал говорить так, будто они только что расстались и никаких недоразумений между ними не было.
- — Тапирчик! Это ты? — сказал Корнеев.— Я соскучился за тобой,— и голос, мягкий, бархатный, переливчатый, опять захватил Юну, обволок...
-
- Бывает, начинаешь любить в человеке какую-то одну, только тебе заметную в нем мелочь. Например, родинку на загривке, видишь в ней что-то детское и трогательное. И эта родинка волнует тебя, ты готов любить ее всю жизнь. А потом вдруг открываешь, что человека любишь всего. И тело его, и душу...
- Может быть, Юна сначала полюбила голос Корнеева? Может быть. Во всяком случае, когда Корнеев звал ее в зоопарк, она уже испытывала головокружение, потому что его голос ее гипнотизировал.
-
- — Хочешь, приду в гости? — продолжал между тем Корнеев.— Ты где живешь? Как лучше к тебе проехать?
- Юне очень хотелось видеть Корнеева, но она молчала. Вокруг нее кружила директорша.
- — Ты что, немая? — слышала она на другом конце провода.
- — Да, — еле слышно пролепетала она и буквально прошептала адрес в трубку.
- Корнеев, видимо, понял, что ей мешают говорить.
- — Тебя слушают? — спросил он.
- — Угу.
- Через некоторое время Корнеев с сумкой стоял перед открытой дверью квартиры. Почти все жильцы собрались у двери и смотрели на него. Дело в том, что он нажал сразу на все звонки...
- — Вот и хорошо,— проговорил он.— Сразу всех вас увидел! Будем знакомиться. Моя фамилия Корнеев, зовут Александр.
- — Еще что выдумал — знакомиться! — проворчала директорша.— Больно кому нужно. Будут тут к ней шляться всякие, а ты...
- — А тебя, маленькая, я из списка исключаю! — добродушно улыбаясь, перебил ее Корнеев.— Знай: когда говорит мужчина, баба должна молчать. Ее ипостась — быть глухонемой сироткой...
- Директорша обалдело водила выпученными глазами. Слесарь прыснул со смеху. Действительно слово «маленькая» выглядело явной насмешкой по отношению к огромной Тамаре Владимировне. Но еще незнакомое слово «ипостась»... Директорша закипела от гнева и выпалила в ответ:
- — Ты чего мне «тычешь»?! Видали мы таких! И не с такими справлялись! Быстренько выкинем! — почему-то себя она часто называла во множественном числе «мы».— «Маленькая»... Мы покажем «маленькая»!
- Корнеев уже гладил ангорскую кошку, которая крутилась вокруг его ног.
- — Какая киса, какая красавица! — говорил он, взяв ее на руки. Саша начал слегка почесывать Туську за ухом, она жмурилась и блаженно мурлыкала.
- А «мамашка», довольная тем, что нашелся человек, который осадил директоршу и признал ее кошку, заискивающе ему улыбнулась и проговорила:
- — Очень-сь приятно! Познакомимся! Как вас по батюшке? Александр Андреевич? Очень-сь приятно, Александр Андреевич. А меня — Анна Сергеевна. Туська очень-сь людей чувствует. Видите, сидит, не соскакивает.
- Слесарь-сапожник подмигнул Юне и показал ей большой палец: мол, хорош мужик!
- — Ейный сосед, будем знакомы,— значительно произнес Виктор Васильевич.
- — А ты богатая невеста! Это ж надо столько соседей отрастить,— сказал Юне Корнеев, когда они прошли в ее комнату. Он нежно прижал к себе Юну поцеловал в макушку.
- Она смутилась и высвободилась из его объятий:
- — Зачем вы так? Директорша наша теперь меня загрызет. Гадости начнет про меня говорить на каждом шагу.
- — Не тушуйся, Тапирчик. Она хамка, А с такими надо обращаться по-хамски. Им это понятнее. И вообще не волнуйся. Нечего тебе бояться. Я у тебя есть. Сама мне все расскажешь о себе. Ну, Тапирюш-ка, не мучайся...
- Намерение Корнеева опекать ее, защищать вызвало в душе Юны ощущение солнечного потока. Ей еще никто не говорил подобных слов. Ей так захотелось поверить Саше! И вдруг вспомнился Геннадий. Юна отшатнулась, сжалась. А если и это так закончится? Вероятно, Корнеев почувствовал ее состояние, ее внезапную скованность. Он опять обнял ее и, наклонившись, прошептал на ухо:
- — Ну, малыш, разожмись! Ты мне нравишься. Я ведь правда с тобой.
- Юна попыталась выскользнуть из его объятий снова, но обруч его рук все сильнее и сильнее сжимал ее.
- — Не пущу. Всю жизнь будут вот так держать, — сказал он ласково.
- И Юне показалось, что она вновь стала маленькой, что это мама прижала ее к себе. Она ясно почувствовала, что ей нравится быть окольцованной.
- А кухня гудела. Подобного квартира еще не переживала.
- — Гляди ж ты, какой умник нашелся! — бесновалась директорша.— Брюки на заднице блестят... А ботинки его видели? Даже мой Славик такие не наденет. (Муж директорши носил бурки — послевоенный предмет роскоши.) Надо же, умник! — не унималась она.
- — Мужик ничего. Не привязывайся,— басил слесарь.— Не встревай.
- — Он очень-сь даже симпатичный,— сказала «мамашка» и поджала губки бантиком.
- В это время Юна подошла к телефону — ей позвонил Лаврушечка. Дверь в ее комнату осталась открытой.
- — Интересно, а во сколько он уйдет? — ни к кому не обращаясь, ехидным тоном проговорила директорша.
- — А я здесь останусь! Навсегда! — Корнеев вышел в кухню и глазами, отливающими металлическим блеском, уставился на директоршу.
- «Ну, зачем он с нею связывается? — подумала Юна, плотнее прижимая трубку телефона, потому-то не могла понять, что ей говорил Лаврушечка. — Мне здесь жить... А может быть, наоборот, хорошо, что Саша ставит эту мерзкую бабу на место».
- — Не позволим! — кричала вошедшая в раж соседка.
- Корнеев равнодушно отвернулся и направился в Юнину комнату.
- — Кто звонил? — спросил он, когда Юна вошла, закончив разговор.
- — Мой товарищ с работы. А что?
- — Ничего. Скажешь этому товарищу, чтобы больше не звонил. Мне не нравится, когда моим женщинам звонят товарищи мужского пола.
- — А я еще не ваша женщина...
- Ей нравилось, что Корнеев заявляет на нее свои права, но хотелось и независимость свою показать:
- — У меня всегда были товарищи мужского пола. И во дворе, и на работе.
- Корнеев шагнул к ней и очень спокойно, отчего слова его казались значительными, сказал:
- — Двора давно нет. И тех товарищей нет. Есть ты и я. И мы нужны друг другу. Я это чувствую. Мы должны быть вместе.
- Он опять привлек ее к себе и начал ласково гладить по голове. Юна почувствовала, что его ласка и нежность размягчают ее, уходит скованность, и она сама незаметно для себя прижала голову к груди Корнеева.
- — Ну что, Тапирюшка, мы сегодня поужинаем?! — его глаза заискрились, и Юне сделалось тепло и радостно.
- Корнеев ловко вытащил из сумки четыре бутылки пива, бутерброды, пакетики жареной картошки. Все это он разложил на столе. Саша сел на кровать. «Что случилось?» — пропели пружины.
- — Ого! — воскликнул он и, приподнявшись, уже нарочно плюхнулся на матрац.— Поет! — и тут он впервые внимательно осмотрел комнату. Да, бедновато...
- Вместо подвального однотумбового письменного стола и хромоногих табуреток Юна купила квадратный обеденный и жесткие венские стулья. Не было и радиотарелки: ее заменил маленький прямоугольный репродуктор, который, как и в детстве, она постоянно слушала. Футляр от патефона с ценными бумагами, как и репродуктор, стоял на шкафу. Вслед за Корнеевым Юна словно со стороны увидела свою комнату. Вот глаза его остановились на шторах. Репсовые шторы эти, подаренные Рождественской, от бесконечных стирок посеклись, проносились до дыр. Заканчивались шторы оборкой из другого материала, так как потолки комнаты Юны были много выше, чем у комнаты Рождественской. Оборка раздражала Юну. Она ей словно напоминала нелепое комбинированное платье-сарафан ее детства и юности. Когда Юна купила первое дорогое платье, она дала себе зарок никогда ничего не перешивать и тем более не комбинировать — в этом ей виделись сиротство и нищета, чего она боялась всей душой.
- — Я скоро их заменю. Они мне жуть как надоели,— смущаясь, сказала Юна.
- — Не бери в голову, малыш. Садись,— он придвинул ее стул поближе к себе и обнял Юну.— Давай-ка выпьем! За встречу.— Корнеев, глотнув пива, закурил сигарету «Дымок».— Расскажи о себе. Только, пожалуйста, все,— попросил он.
- И Юна принялась рассказывать. Почему-то сначала о работе в НИИ и Лаврушечке. О собрании, на котором ее прорабатывали за прогул. О том, что сейчас ей в НИИ противно ходить.
- — Ничего,— прервал тут ее Корнеев.— Подыщем что-нибудь получше. Теперь есть я.
- Затем Юна стала рассказывать о Пане, о детдоме. Неожиданно вскочила со стула и бросилась к шкафу — сняла футляр, бережно вынула фотографии Фроси.
- — Это моя мама,— и Юна протянула Саше фотографии, где Фрося была снята в тот год, когда приехала за Юной в детдом. В военной форме, с распущенными локонами по плечам.— Правда красивая?!
- — Очень! — ответил Корнеев.— Но и ты тоже красивая!
- Юна растерялась. Ни Симка, ни тем более Геннадий никогда не говорили ей, что она красива.
- — Сколько же маме здесь лет?
- — Кажется, двадцать один,— и Юна стала рассказывать о Фросе, о встрече с ней в детдоме. О книгах и сказках, прочитанных и сочиненных ими вместе. О сказках, которые порой придумывала и сама Фрося. И что она, Юна, полюбила сказки на всю жизнь.
- — А ты помнишь хотя бы одну? — перебил ее Корнеев.— Я тоже очень люблю сказки. Как-нибудь тебе сочиню.
- — Конечно, помню,— обрадовалась Юна,— хотите, расскажу? Про козлика.
- — Валяй. А финал знаю: остались от козлика рожки да ножки.
- За панибратством Юна увидела интерес к ней. Она также видела, что удивляет его своей простотой, вернее, отсутствием какого-либо женского жеманства. И интерес этот скрывает за бравадой.
-
- Почему вспомнилась ей эта сказка? Может быть, потому, что она была самой последней, которую Юна услышала от Фроси? Вполне возможно. Перед глазами Юны, словно на фотобумаге, проявился тот день, когда мама рассказала историю про козлика. Тогда Юна заканчивала, кажется, девятый класс и вдруг тяжело заболела. Высокая температура держалась несколько дней, а врачи никак не могли определить, что с ней. Подозревали воспаление легких и лечили от него. А Фрося поила ее настоями из трав. В конце концов болезнь удалось побороть. В тот день прошел кризис. Юна открыла глаза и увидела маму, ее усталые и счастливые глаза.
- — Ма, — позвала она.
- — Я тут, доча,— отозвалась Фрося.— Чево, ясонька?
- — Ма, расскажи сказку,— попросила Юна,— только совсем новую.
- И Фрося ей рассказала историю козлика.
-
- — Так вот, слушайте сказку про козлика,— немного даже торжественно проговорила Юна.— Жил-был козлик. И было у него три брата и три сестры. Братья — серенькие, а сестры — беленькие. Все они, кроме козлика, были похожи друг на друга и на своих родителей: папу — козла и маму — козу. Как полагается, были у них быстрые ножки, рога, длинные уши и маленькие бородки. А наш козлик ну ни на кого не был похож. Ноги длинные. Во все стороны разъезжаются, уши короткие, а бороды и вовсе нет. Но самое ужасное — у него был всего один рог, да и тот рос посредине лба. И еще... Этот рог светился в темноте!
- «Наш братец-то урод»,— говорили сестры.
- «Мда-а-а? — мекали утвердительно братья,— бороды нет. Рог — один, да и тот светится».
- Братья и сестры играли в разные игры, а козлика не принимали. Он бегал один по лесу и разговаривал только с ветром. Ветер стал его верным другом. Он то догонял козлика, то отставал от него. Но как-то выдался жаркий день. Ветер потерял силы. Листья на деревьях не шелестели. Травинки не замечали друг друга. Они поникли.
- «Я заболел. Может, даже простыл,— сказал козлику ветер.— У меня жар. Играй один».
- И надо же такому случиться: в это время пролетала бабочка. Козлик повернул голову. Такой красивой бабочки он еще не видел. Другие были обыкновенными, белокрылыми. Их звали капустницами. Эта же коричневая, с красными разводами. Белые крапинки горошком были рассыпаны на ее крыльях. Козлик не мог удержаться и побежал за ней. Ноги его разъезжались, и бабочке было смешно: он такой большой, а догнать ее не может...
- «Подожди меня! — крикнул козлик.— Ты самая красивая бабочка, какую я видел!»
- «Я знаю,— ответила бабочка.— Недаром майский жук сватается ко мне,— и она села на ветку дуба.— Смотри. Этот дуб он подарит мне, и я буду жить среди его листвы. Ни у одной бабочки не было такого дворца!»
- «Нет, лучше выходи замуж за меня,— сказал козлик.— У меня рог светится в темноте!»
- «Ты сошел с ума! — бабочка засмеялась.— Чтобы я пошла за такого уродливого однорогого козла?! Нет, вы только на него посмотрите! Я по ночам сплю! Свет мне не нужен. И летать ты не можешь. Даже по земле-то бегать как следует не умеешь».
- Козлик пошел прочь от бабочки.
- «Какая она злая! Никогда я больше к ней не подойду!» — подумал он.
- Не видя дороги, козлик шел, низко опустив голову, и не заметил, как солнце ушло спать и в воздухе стало прохладнее.
- «Почему ты такой грустный?» — услышал козлик знакомый голос ветра.
- «Ты наверное, знаешь. Я никому не нужен. Не умею летать, и у меня всего один рог».
- «Как — не нужен? — просвистел удивленно ветер. — Я выздоровел. Стал опять крепким и сильным. И ты всегда будешь нужен всем со своим одним светящимся рогом».
- В свои огромные легкие ветер набрал столько воздуха, сколько могло уместиться в половине мира, а может быть и больше. А потом как выдохнет все разом, и козлик даже не успел почувствовать, как взлетел. Он летел по небу, и рог его прочерчивал светом путь. С тех пор этот след освещает дорогу всем заблудившимся.
- Вот и все,— закончила Юна сказку,— название для нее я придумала уже взрослой: «Тропа единорога». Порой мне кажется, что потерявшиеся путешественники обязательно ищут на небе эту тропу. Она их потом выводит к людям...
- Юна пригорюнилась. Она была еще в том времени. Она была еще с Фросей...
- — Глупая детская выдумка, но как же мне плохо без мамы!..— вздохнула Юна. Впервые за десять лет она пожаловалась незнакомому человеку.
- — Она что, мама твоя, несчастной была? У нее что, никого не было? — спросил Корнеев.
- — Почему — не было? Жених был. Его убили в конце войны. И еще — я была.
- — И все? — удивился он.
- — И все,— ответила Юна.
- — Как глупо! — Всю жизнь только с тобой — и больше никого?! — продолжал удивляться Корнеев.— Где же она для жизни силы брала?
- — В его — любимого человека — любви! Хотя его и не было рядом. Мама даже стихотворение такое нашла,— Юна начала рыться в футляре патефона, стараясь найти листок из ученической тетради. — Вот, нашла,— и она прочитала все стихотворение. Последнюю строку: «С твоей любовью, с памятью о ней всех королей на свете я сильней», она перечитала дважды.
- — Ого! Это сонет Шекспира! Значит, она жила ретроспекцией. В эпоху раннего ренессанса такие романтические натуры пользовались большим успехом у художников. Сколько же ей было лет, когда она умерла?
- — Не исполнилось и тридцати одного. Надо же! Мне сейчас на четыре года больше, чем ей.
- Он опять ласково притянул Юну к себе.
- — Бедняжечка ты моя,— сказал Саша,— давай выпьем на брудершафт. Мне хочется тебя поцеловать! И я ищу повод, чтобы ты не выскальзывалаи не смущалась. И я хочу, чтобы ты мне тоже говорила «ты». Сейчас у меня такое чувство, что роднее тебя нет у меня никого на свете... Ну, детка...
- — Не зовите меня «детка». Я не детка, «детки» — другие... Я уже вполне взрослая женщина. Мне не нравится это слово.— И вдруг в приливе ревности спросила: — Кто это — Надя?
- — Надя? — переспросил Корнеев.— Это проста женщина! С которой я живу. Когда развелся с женой, она, можно сказать, вытащила меня из ямы, собрала из пепла. Это очень милый человек, и я ей очень обязан. Но я ее не люблю.
- Голос Корнеева звучал искренне, вполне правдиво, и Юна почувствовала облегчение. Ведь у нее самой был «просто мужчина», с которым она жила без любви... И все же не удержалась от нового вопроса:
- — А Валентина? С лицом как сковородка?
- — Ты что, теперь про всех будешь спрашивать? — усмехнулся Корнеев, но все-таки ответил: — Я ее видел всего один раз. Пойми! Если я женюсь, то только на тебе!
-
- Когда тебе повторяют одни и те же слова, когда еще и поступки соответствуют словам, то невольно начинаешь верить им. Юна за этот вечер не раз слышала от Корнеева, что нравится ему, да и сама чувствовала, что он увлечен ею и что говорит он искренне. Но осторожность, недоверчивость все же жили в ней, мешали раскрепоститься.
- «Что это я к нему придираюсь? — одергивала она себя.— Он же зрелый мужчина. Почему у него не могло быть женщины?»
- И Юна постепенно начала успокаиваться. Когда она заговорила о Симке, то поймала себя на мысли, что о Геннадии и думать забыла, даже имени никогда не вспоминала. Лишь тяжесть расплаты за содеянный грех — связь с Симкой назло Геннадию — давила ее годы и годы. А сейчас душа мало-помалу освобождалась от гнета — в душе рассветало. Юне так хотелось видеть в Саше рыцаря.
-
- Следующим же утром он себя рыцарем и проявил — защитил ее репутацию, как некогда дядя Володя честь Рождественской.
- Директорша, Тамара Владимировна, когда они выходили из комнаты, стояла в коридоре, картинно подбоченясь.
- — Здесь общая квартира, а не псарня! — сказала она громко.— Нам кобелей не требуется!
- — Объясняю тебе в последний раз,— обернулся к ней Корнеев.— Пока я здесь — будешь глухонемой сироткой. Услышу, что говоришь о моей жене без должного уважения,— отдеру за уши!
- «Тамару Владимировну отодрать за уши?! Вот это да!»
- И Юна увидела, что директорша почувствовала силу Корнеева, его уверенность в себе. Саша давал такой отпор, с которым в квартире директорше сталкиваться еще не приходилось. Люди, по ее представлению более сильные, вызывали в Тамаре Владимировне не чувство уважения, нет, они вызывали в ней страх. Она перед ними блекла, даже как-то уменьшалась в размерах. Вот и сейчас она вроде как бы обмякла и стушевалась, заторопившись в свою комнату... Юну она с тех пор не трогала.
- Дней через десять, придя с работы, Юна не узнала своей комнаты. Вместо металлической кровати стоял диван-кровать — не новый, правда,— а в углу — маленький телевизор «КВН» с линзой. Юна так и обмерла.
- «Откуда он взял деньги?» — пронеслось у нее в голове. Ведь Саша работал всего-то дежурным в ведомственной гостинице некоего учреждения, очень солидного, если судить по намекам Саши, не любившего много говорить о своей работе. Платили ему мало, зато у него оставалось много времени, чтобы заниматься чтением и сочинительством. В редакции газеты, где работал Серафим, Саша нет-нет да печатал очерки, небольшие эссе. Однако денег это давало немного... Еще утром он попросил у Юны мелочь на дорогу и сигареты...
- — Тапирчик, тебе нравится? — спросил вечером Корнеев.— Эти вещи я привез с дачи одного... — здесь он немного замялся,— моего приятеля. Они ему были не нужны. Все хотел кому-нибудь отдать. А я подумал: дай-ка Тапирчику обновим комнатушку. Пусть порадуется. Кроме того, я без телевизора не могу. Привык. Ну как — нравится?
- — Очень! — ответила Юна и села на диван.
- Пружины молчали. Она встала. На диване осталась небольшая вмятина от тяжести тела.
- — А где моя кровать?
- — Я ее разобрал и отнес в кладовку. Еще шторы заменим. Немного погодя. Мне скоро заплатят за статью. И жилье у тебя будет как жилье. Что еще нужно для счастья? Моя малышуся, телевизор и я. Больше ничего!..
- Юна бросилась ему на шею и стала целовать. Она все еще до конца не могла поверить, что он и впрямь любит ее! И боялась сглазить это чувство, спугнуть свое счастье. Видимо, поэтому никому, даже Лаврушечке, не рассказывала о Саше. Теперь ей хотелось во всем подчиняться Корнееву, слушаться его. Впервые после смерти Фроси она почувствовала себя защищенной.
- Впрочем, Юна вообще была из числа тех женщин, которым нравится подчиняться мужской воле, идти на поводу у нее. И еще она относилась к тем женщинам, которые могут полюбить в ответ, лишь когда убеждаются, что их любят. Юна так благодарна была Корнееву!..
- Теперь с работы домой она бежала, считала минуты до встречи с Сашей!
- «Осталось полчаса, двадцать девять минут, двадцать восемь...— то и дело смотрела Юна на стрелки часов.— Нет, уже двадцать пять минут!»
- И Юна забывала об обиде на сотрудников, о недавнем собрании. Все в ней ликовало, трепетала каждая клеточка. Она мчалась домой, все повторяя и повторяя одну строку сонета: «С твоей любовью, с памятью о ней всех королей на свете я сильней».
- В квартиру влетала словно угорелая и открывала дверь в свою комнату со словами: «Как же я скучала! Как я скучала все эти часы! Мне казалось, что жизнь остановилась. Я люблю тебя!..» Юна прижималась к Саше и замирала, чтобы услышать такое прекрасное слово «Тапирчик».
- И вдруг — внутренний озноб, страх потери, и Юна еще сильнее прижималась к Саше и, уткнувшись ему в грудь, шептала:
- — Неужели завтра снова разлучаться, идти на службу? Видеть никого не хочу! Меня все раздражают. Галкин как надзиратель. Не дай бог на минутку задуматься, он уже тут как тут: «Юна, где ты витаешь? Не видишь, стрелка зашкаливает. Дай меньше напряжение».
- И Корнеев каждый раз твердил одно:
- — У тебя есть я. И я не хочу, чтобы ты работала! Ты мне нужна ежеминутно, ежесекундно!.. Тапирчик! Давай не разлучаться!
- Через месяц после их знакомства, когда Юна в очередной раз стала ныть, собираясь идти на работу, он категорически заявил:
- — Все! Хватит! Бросай работу. Хватит с нас Галкина, Лаврушечки! Есть ты и я. Больше никого в мире. Как-нибудь прокормимся.
- И Юна схватилась за предложение Корнеева. Именно тогда она навсегда ушла от Симки, надолго поссорилась с Лаврушечкой, так ничего ему и не рассказав о Корнееве. С «товарищами» все решилось само собой.
- Юна не представляла теперь себя без Саши. Не могла жить без его крепких рук. Ее переполняла нежность. Она спала и, казалось, во сне слушала его дыхание.
- Не могла уже представить себя без милой клички «Тапирчик»! Весь свой жизненный уклад подчинила его желаниям, интересам. В своей любви она увидела Сашу значительным, сильным, почти всемогущим и с легкостью всю ответственность за их общее жизнеустройство взвалила на его плечи.
- Как-то незаметно и соседи по квартире все чаще ее стали называть Тапиром, Тапирюшкой, Тапирчиком. Имя Юна, а тем более Юнона вспоминалось все реже. Оно уходило в прошлое, с которым, кроме Евгении Петровны, ее уже больше ничто не связывало. Но когда Рождественская услышала, как Корнеев назвал Юну, она возмутилась. Правда, у Евгении Петровны хватило выдержки дождаться, когда Корнеев уйдет по делам.
- — Что за кличка? Забыла, как мама не захотела тебе имя менять? — Впервые в разговоре с Юной Рождественская назвала Фросю «мамой».— Ну-ка вспомни, как ты умоляла ее дать тебе другое имя, а тут... Тапирчик!
- — А мне оно очень нравится! — ответила Юна.— Черт знает что за имя: Юна, Юнга, Дюна! Нет уж, пусть будет Тапирчик. Так лучше. В документах все равно Юнона остается.
- Евгения Петровна волновалась. Как в прежние времена, она вскидывала свои полные, но еще красивые руки к вискам.
- — Нет, вы послушайте, что она говорит! И что за муж у тебя? — продолжала она.— Толком нигде не работает. Тебя с работы снял...
- — Я не маленькая. Никто меня не снимал,— ответила резко Юна.— Сама ушла. Мне там неинтересно...
- Рождественская совсем рассердилась:
- — Неинтересно? Десять лет было интересно, а теперь неинтересно? На что жить будете? Ты об этом подумала? На его писанину или зарплату сторожа? Молодая женщина должна работать! Без работы можно опуститься. Как Настя — «На дне» у Горького. Помнишь? Или того хуже — как Тэсс из рода Д'Эрбервиллей.
- — Или Катюша Маслова,— ехидно добавила Юна.— Вы только книжными страстями и живете! Жизнь теперь другая...
- — Во-первых, не огрызайся, слушай, что тебе старшие говорят. А во-вторых, вот тебе пример — наши Паня и Фрося. Прасковья Яковлевна начала работать еще в двенадцатом году и ни одного дня до пенсии не прогуляла. Фрося — фронт и работа, сама знаешь. Я тоже всю жизнь работаю. Осенью мне можно будет уже и пенсию оформлять, а я себя без работы — бездельницей! — не представляю. А тебе через месяц только двадцать семь исполнится! И — уже иждивенка. Куда это годится?
- — Я буду Саше помогать...
- — В чем? И если у вас такая любовь, то почему он на тебе не женится? Официально?
- ... Юна до сих пор не может понять, как ее вообще занесло такое сказать:
- — А вы что, забыли, почему они не женятся? На ханжество потянуло?
- — Сволочь! — вдруг выпалила, как отрубила, Рождественская.
- Юна съежилась будто от удара. Неожиданно почувствовала, что это слово Евгения Петровна сказала не от себя, она его произнесла от всех жильцов подвала. Юне показалось, что перед ней сейчас стоит Паня, и поняла, что совершила непоправимое.
-
- Однако Юна не извинилась перед Рождественской. Изобразила обиду, хлопнула дверью, ушла от Евгении Петровны.
- Лишь много позже Юна поняла, что, охваченная любовью к Саше, считая себя сильной, она забыла обо всем на свете. Предала и свое настоящее имя и все свое прошлое. Предала Рождественскую, Паню и Фросю.
- ...Казалось, жизнь Юны с Корнеевым потекла без особых волнений. Юна чуть ли не боготворила Корнеева за ласковость, нежность, внимание, уважение.
- Почему-то так уже повелось, что свое уважение, любовь к женщине современный мужчина перед посторонними людьми проявляет своеобразно. Своим друзьям любимую представляет не иначе как: «Моя любимая женщина», видя в этом некую свободу нравов. Такое представление у друзей недоумения не вызывает. Принимается как само собой разумеющееся сосуществование одной любимой и других — нелюбимых, но также ему необходимых. И порой скорее удивляет ситуация, когда одна и та же женщина выступает в двух ипостасях: и любимой, и жены, то есть становится единственной.
- Отчего же это происходит? Не оттого ли, что война унесла огромное количество мужчин и появился их дефицит? На одного сразу несколько любимых и нелюбимых. Или именно потому, что их очень много погибло, они и не успели передать сыновьям того трепетного отношения, которое сами испытывали к своим женам? Объяснить трудно. Но в одном можно быть твердо уверенным, что каждая женщина хочет быть любимой и женой одновременно.
- Поэтому Юну и трогало, что Корнеев везде и всюду, где бы ни появлялся с ней вместе, всегда, представляя ее, говорил:
- — Это моя любимая жена.
- Лишь в одном доме она заметила, что его слова вызвали замешательство и смущение хозяев, но значения этому не придала.
- И только месяца через два со времени начала их совместной жизни, когда Юна уже безраздельно ему поверила, она узнала, что это значит — «моя любимая жена».
- Несколько раз она просила Сашу, чтобы тот пригласил к ним в гости Ахрименко. Но Саша находил различные отговорки и приятеля не приглашал. Вообще начала замечать, что Корнеева что-то тяготит. Он все чаще делался сумрачным, замкнутым. Потом как будто с явным усилием встряхивался и обрушивал на нее поток ласк. И в эти минуты он повторял ей обычно одни и те же слова:
- — Я никогда тебя не оставлю, никому не отдам, козлик ты мой, летящий по небу. Тапирчик, мой любимый.
- Иной раз Юне по наивности казалось, что его сумрачность, его тяжелое настроение вызвано... дырявыми шторами. Они же явно его раздражали, да он этого и не скрывал. И вот Юна продала единственное нарядное платье и купила красивые шторы.
- Ахрименко она пригласила сама. Тот был удивлен: раньше Юна его к себе домой никогда не приглашала. Юна сказала Ахрименко, что у нее его ждет сюрприз!
- Тяготение Юны к «сюрпризам» приводило порой ее жизнь к неожиданным поворотам. О том, что она пригласила Ахрименко, Корнееву сказано не было.
- Каково же было их удивление, когда Корнеев и Ахрименко увидели друг друга.
- — Знакомься,— сказала Юна, хитро подмигнув Ахрименко, когда тот вошел в комнату. — Мой муж, Саша Корнеев.
- — Твой муж?! — Ахрименко переводил непонимающий взгляд с приятеля на нее. Потом, сообразив, что его удивление чересчур затягивается, постарался взять себя в руки: — Ну что ж, познакомимся теперь с ним как с твоим мужем. Значит, вот он, твой сюрприз! — И, будто оправдываясь за свой визит, он обратился к Корнееву: — Понимаешь, она говорит, приходи в гости, тебя сюрприз ждет. Ну я и пошел за сюрпризом.
- Когда Ахрименко вошел, Корнеев оторопел. Юна заметила и его изумление, и то, как нервно задвигались желваки на его скулах.
- «Может быть, им надо побыть наедине»,— подумала Юна, а вслух произнесла:
- — Мальчики, вы поговорите, а я займусь по хозяйству. Саша,— Юна посмотрела на Корнеева, — накрой на стол.
- Готовя закуски, Юна, с пылающими щеками, веселая, вертелась между кухонным столом и плитой, резала, раскладывала угощения по тарелкам, и все в ней ликовало. Она даже потихоньку напевала: «Я танцевать хочу...»
- «Господи, какая я счастливая! — думала Юна.— И за что мне такое счастье? Я люблю! Даже Тамарка меня теперь не бесит,— неизвестно почему вспомнила директоршу.— Вот так всю жизнь вместе»,— а в памяти звучали бархатистые переливы голоса Саши и всякие ласковые словечки, которыми он ее награждал. И снова и снова звучал на кухне незатейливый мотивчик: «Я танцевать хочу...»
- Юна была уже около комнаты, дверь которой оставалась слегка приоткрытой, когда услышала голос Ахрименко:
- — Значит, если бы не Юнка, ты так и не объявился бы? Я уже во всесоюзный розыск хотел обратиться. Звоню на Покровку — молчание. Звоню на Кузнецкий — едва разговаривают. А ты, оказывается, теперь здесь обосновался. Это что, действительно серьезно?
- Юна застыла у двери. Тарелки в ее руках задрожали, внутри все похолодело.
- — А она про Надю знает? — спросил в этот момент Ахрименко.
- — Я Тапирюшке все сказал,— ответил Саша.— Как есть. От Нади я ушел. Разве незаметно, что у нас здесь семья?
- — Ушел, пока Надя в больнице! — сказал Ахрименко.— Кстати, она мне недавно звонила. Спрашивала, когда ты должен вернуться из командировки? Я не знал, что ей ответить. Ты исчез внезапно... И Юнка вдруг ушла от Симки... Кто бы мог подумать...
- — Почему ты решил, что она ушла? Серафим сам ее бросил. Я слышал от ребят,— зло произнес Корнеев. Но затем его голос проникся нежностью: — Вообще Тапирчика не трогай. Я ее люблю. Понимаешь: люблю! И она меня любит!..
- Юна была на грани обморока. Корнеев нервными шагами мерил небольшую комнату.
- — Наде я сейчас ничего не скажу. Когда выйдет из больницы — объясню. Слушай,— он обратился к приятелю,— давай к ней завтра съездим вместе. И Наде будет приятно, да и мне легче. Надо все спустить на тормозах. Надо, чтобы она постепенно привыкла к мысли, что все кончено. Ты же знаешь — Надя очень милый человечек и ничего плохого мне не сделала. Просто я ее не люблю...
- — А этот диван с дачи забрал? — вдруг спросил Ахрименко.
- — Надя хотела его кому-нибудь отдать. Да и телевизор тоже. И будет даже довольна, что их на даче уже нет. А здесь они нужны...
- «Господи, что же делать? — пронеслось в голове у Юны. Руки ее продолжали дрожать, щеки пылали.— Войти и сказать, что слышала? «Просто женщина, с которой я живу»,— вспомнила она однажды услышанную от Корнеева фразу.— Просто женщина — это просто его жена или, может, одна из жен? Я ведь тоже жена. Может, и Валя — жена? Господи! Ну что же делать? Выгнать, а диван с телевизором выброить? Но я же не могу без него!» Юна повернулась и, шатаясь, пошла на кухню...
- С этого вечера что-то сломалось в ее душе. Сашу она все равно любила. Но любовь ее превращалась в изнеможение, в котором она теряла силы и здоровье.
- На следующий день Саша ей сказал, что ему надо поехать по делам. Но Юна-то знала, что он поедет к Наде в больницу с Ахрименко. Она промолчала. Решила ждать. Вечером он вернулся раздраженный, чем-то недовольный.
- — Завтра,— проговорил он,— мне нужно встретить одного друга. Выписывается из больницы. Вероятно, придется побыть с ним несколько дней. Необходимо поддержать его, помочь ему. Уладить кое-какие дела... Так что, Тапирюшка,— его голос стал вкрадчивым,— поживешь немного одна. И смотри! Из дому чтоб ни на шаг! Буду проверять.
- Корнеев вернулся через три дня.
- — Я был у Нади,— прямо с порога, не успев раздеться, объявил он, вытаскивая из кармана бутылку с пивом и маленького бронзового амурчика, которым в далеком прошлом украшались спинки кроватей. Руки амурчика были разведены для натяжения тетивы лука. Но тетива отсутствовала, поэтому создавалось впечатление, что он просто раскинул руки.
- — Я знаю.
- На сердце у Юны отлегло. Она боялась стать соучастницей обмана, если бы Корнеев солгал, а она не подала бы виду. В душе она понимала, что Корнееву необходимо было объяснение с его прежней женщиной. Не мог же он в самом деле просто так уйти от нее, бросить больного человека...
- — А это мое приданое,— продолжал Саша, показывая ей амурчика.— Он — единственное мое, что я забрал от жены. До сего времени амурчик был у Нади. Теперь там все кончено. Мой дом здесь, и амурчик будет здесь создавать уют! — Саша поставил бронзового мальчика на телевизор.— Я Наде все сказал. Что люблю тебя, что не могу без тебя. Надя очень милый человек. Знаешь, что она мне ответила? «Конечно, мне больно, очень больно, но я буду любить тебя всегда. Я подожду. Какой бы ты ни был, когда бы ты ни пришел — всегда буду ждать! И ты все равно вернешься ко мне». Вот так! А теперь, старушенция, давай будем праздновать.
- «Зачем он все это мне говорит? — промелькнуло в голове Юны.— Зачем мне все это знать?»
- А Корнеев, рассказав Юне о своем разрыве с Надей, вдруг стал веселым и ласковым. Перешел к подробностям — как объяснялся с Надей, как достойно она себя вела. Ему даже стало жаль ее. И он, конечно, дурак, что расстался с Надей, но Тапирчик для него важнее всего в жизни.
- Юна чувствовала, что с каждым его словом настроение ее становится все хуже и хуже, что почва уходит из-под ног. И она не сдержалась:
- — Для чего ты мне все это говоришь? Мне это неинтересно! Можно подумать, что ты собираешься когда-нибудь к ней вернуться и заранее меня подготавливаешь! Так можешь идти сейчас! Я не держу!..
- И Корнеев встал, молча оделся и ушел. Когда хлопнула дверь, Юна никак не хотела поверить в то, что он вот так, без оправданий, без лишних слов, взял и ушел!
- Когда квартира уснула, Юна потихоньку вышла и коридор и позвонила Ахрименко. Она решила, что Корнеев сейчас у приятеля. Конечно, в такое время звонить неудобно, но Ахрименко ее простит.
- — Слушаю,— раздался в трубке сонный голос Ахрименко.
- — Салют. Это я, Юна. Прости, что так поздно. Саша еще не приехал? Нет? Да он скоро должен быть у тебя. Сказал, что едет по делу. Нет, ничего не случилось. Просто я хотела ему кое о чем напомнить. Нет, перезванивать не надо. У нас все спят. Ты слышишь, я шепчу, чтоб не перебудить всех... Спокойной ночи...
- Юна повесила трубку и посмотрела на часы. Стрелки показывали без пятнадцати два ночи.
- Она не сомкнула глаз до утра. Ждала возвращения Саши, ей хотелось ему сказать, что она была не права, сказать, что у нее нечаянно сорвалось с языка...
- Потом целые сутки Юна просидела в комнате, заперев дверь на ключ, чтобы в квартире думали, будто их обоих нет дома. Она не откликалась ни на телефонные звонки, ни на стук в дверь. Юна чувствовала, что бездеятельное ожидание опустошает ее, вот-вот сердце остановится.
- И вдруг вспомнила, как отнесся Саша к ее ссоре с Рождественской... Когда она ему сказала, что поводом ссоры послужили их отношения, Корнеев снисходительно посмотрел на нее и с издевкой спросил:
- — Тебе что, Тапирчик, нужна расписка? Можем расписаться... Раз и два...
- Теперь-то она поняла, что Саша, уже зная ее натуру, сыграл на духе противоречия: он заранее угадал, что такое предложение выглядит подачкой, а она, гордая, подачку не примет...
- — Нет, расписка мне не нужна! — независимо вскинув голову, сказала Юна. Но перед самой собой она могла не кривить душой: ей очень хотелось выйти за Сашу замуж. По-настоящему! Со свадьбой, поздравлениями.— Это тетя Женя считает,— добавила она тогда,— что мы должны расписаться.— Юна как бы всю ответственность за сказанное перекладывала на Рождественскую.
- Но Корнеева такое объяснение не успокоило. Ему вероятно, было важно, чтобы Юна сама уверилась в том, что отношения, сложившиеся между ними, нормальны, и не требовала большего.
- — А у тебя своего ума нет? Что за примитивизм мышления? Все козликом по небу прыгаешь? Твоя Рождественская, видно, еще дворовыми законами послевоенного времени живет! А война, слава богу, двадцать с лишним лет как закончилась. Да и ты хороша! Все продолжаешь дворовой девчонкой быть. Печать в паспорт и — навеки мой.
- «Неужели я в самом деле такая отсталая, ограниченная, примитивная дура?.. Разве счастье в расписке?» — подумала Юна.
- — Впрочем, откуда тебе было набраться знаний, стать интеллигентным человеком? — между тем продолжал Корнеев.— Вероятно, в твоем дворе одно быдло жило, если, как ты говорила, Симку за короля держали! Да и в этой квартире не лучше. Взять, к примеру, Тамару. Чего стоит эта директорша! — И, встав около Юны, подперев бока, как это делала соседка, Саша скопировал ее интонацию и фразу: — «Во всяком случае не позволим!» А что «не позволим», и сама не знает! Главное — «не позволим»! Ты, вероятно, привыкла оглядываться сначала на двор, теперь на квартиру...
- — Так я же здесь живу,— перебила его Юна.— Должна с ними считаться.
- — Никому ты ничего не должна! Сколько можно тебе внушать это! До чего же въелась в тебя рабская психология...
- После этого разговора в доказательство того, что у нее психология не рабская, Юна перестала здороваться с Тамарой Владимировной.
- ...Утром Юна услышала, что Саша возится с ключом У двери.
- — Тапирчик давно ушел? — спросил он у «мамашки», выплывшей из своей комнаты.
- — Мы ее что-то очень-сь давно не видели! Со вчерашнего вечера.
- — Тапирюшка, ты дома? — игриво произнес Корнеев, открывая дверь.— Ну что, очухалась,— лицо его было помято, словно ни минуты не спал.
- «Он был у нее»,— пронзило Юну.
- — Где ты был? — голос ее дрожал.— Я всю ночь не спала!
- — Я тоже всю ночь не спал! — ответил Саша с хмельной игривостью в голосе.
- — Где ты был?
- — А разве тебе интересно знать, где я бываю? Где я был, там теперь меня нет.— Он налил в стакан вина — початая бутылка у него была в кармане — и выпил его залпом.
- — А все-таки? — настаивала Юна.
- — Все-таки — у Ахрименко. Всю ночь говорили, обсуждали с ним совместную работу. Утром поехали в редакцию. Потом я зашел в гостиницу, пришлось поменяться сменой. Сама понимаешь, какой из меня сейчас работник!
- — А позвонить мне нельзя было?
- — Я был зол на тебя.
- «Поэтому поехал к ней, чтобы пожалела и приласкала»,— подумала Юна. От этой мысли у нее яростно заколотилось сердце. Она хотела что-то сказать, но ее позвали к телефону...
- — Юнчик,— раздался в трубке голос Ахрименко — Саша час назад выехал к тебе. Мы с ним поздно легли и проспали весь день... У меня сегодня свободный...
- — Спасибо, спасибо. Все знаю,— перебила его Юна.— Извини, мне сейчас некогда.
- «Наверное, Ахрименко позвонил туда, и там сказали, что Саша уехал час назад... ко мне... Он же теперь от нее, конечно, ничего не скрывает! И она его ждет, и принимает, когда ему заблагорассудится приехать. Все терпит эта «святая женщина», «милый человечек»! А с Ахрименко он, видно, раньше не созвонился, и они не договорились, как мне врать».
- Тревога все глубже проникала в существо Юны, и одновременно в ней поднималась волна злости против незнакомки. От недоверия и своего бессилия ей становилось страшно.
- — Кто Тапирчику звонил? — услышала Юна, как только вернулась в комнату. Корнеев ласково притянул ее за талию к себе.
- Юна резко высвободилась из его объятий.
- — Мы обижаемся?! — усмехнулся Саша.— Все-таки хорошо, что заменили шторы. Совсем другой вид,— он явно пытался переключить внимание Юны на что-то иное, перевести разговор на другую тему.
- Она, однако, насупившись, молчала.
- — Тапирчик, хватит сердиться! Обещаю: в следующий раз, если задержусь, обязательно позвоню. Я голоден как зверь. У нас есть что перекусить?
- «Если я сейчас ему не скажу о своих подозрениях,— тем временем думала Юна,— то потом уже не скажу ни за что! И ложь будет стоять между нами. Мы будем жить и притворяться, что все в порядке».
- — Я знаю, где ты был,— наконец решилась она сказать.— Только что говорила с Ахрименко. Он сказал, что вы всю ночь беседовали и весь день проспали. Но ведь я ему звонила в два часа ночи! Больше мне не лги. Даже если разлюбишь — не лги. Правду трудно, но возможно пережить.
- — Сама виновата. Указала мне на дверь, а я не детдомовский. Мне есть где жить.
- Юне казалось, что пол заколебался у нее под ногами. Саша подошел к ней, прижал к себе. Она стояла, безвольно опустив руки, с ужасом переживая сказанное им. А он шептал:
- — Тапирюшка, прости меня. Я виноват. Я был зол на тебя. Ноги как-то сами собой понесли меня туда. Засиделся. Решил остаться. Меня с Надей ничего не связывает. Мы давно спим в разных постелях. И не могу я с Надей вот так, сразу порвать. Она для меня столько сделала. И никого у нее, кроме меня, нет. Но люблю-то я тебя! Ну, Тапирчик, потерпи, родненький. Немного потерпи.
- Это признание Корнеева опять вернуло душе Юны доверие. Теперь она готова была терпеть его выходки, на все готова ради него... Даже сама бы отправила Сашу к Наде, пусть навестит, поможет в чем надо — лишь бы домой вернулся. Она опять ему верила. А Саша, замаливая вину перед Юной, доказывая, что она действительно единственная для него на всем белом свете, обрушил на нее ласки, нежность. У Юны закружилась голова...
- Потом он сказал:
- — Вот что, Тапирюшка, собирайся, идем в ресторан! Отпразднуем наше примирение и помолвку. Я в гостинице стрельнул немного. А скоро получим еще копеечку. Не волнуйся.
- И Юна успокоилась совсем. Ей показалось, что наступила прежняя безмятежность и гармония в их жизни, что ничто не может омрачить ее. Ведь красивые у них отношения, ведь счастлива она!
-
- Спустя некоторое время как бы между прочим Юна сказала Корнееву, что этим летом исполнится десять лет со дня смерти Фроси.
- — У меня отец пропал без вести,— вздохнул Саша.— А я к нему на фронт бежал, да поймали и отправили домой. Так что я тебя хорошо понимаю. Маме твоей обязательно что-то сделаем. Поставим ограду и недорогое надгробие. Я в одном месте должен получить кое-что. На эти деньги и сделаем.
- И Юну безгранично тронули эти слова — ведь Фросю он никогда не видел, а заботится о памятнике.
- До поры до времени ничего Юна не стала говорить об этом Рождественской. Виделся Юне день в солнечных лучах и зелени деревьев, когда они с Евгенией Петровной придут к могиле Фроси и Рождественская в изумлении остановится перед оградой и доской, на которой будут выбиты самые простые слова. Евгения Петровна спросит: «Откуда это? Кто сделал?» И тогда Юна с гордостью ответит: «Саша постарался. Весь гонорар за статью отдал».
-
- Наступила весна. В один из апрельских дней Корнеев пришел от Ахрименко и сообщил Юне, что будет дежурить в гостинице два дня подряд, так как у сменщика кто-то заболел из домашних. Пользуясь отсутствием Корнеева, Юна занялась уборкой. Но вскоре он вдруг пришел и стал что-то искать в бумагах.
- — Что, дежурство отменилось? — спросила Юна.
- Корнеев молча продолжал перебирать бумаги.
- — Что ты ищешь?
- — Страничка одна потерялась. Не помню, то ли здесь оставил, то ли у Ахрименко. Хотел сегодня в перерыве занести в редакцию, оставить там на вахте. Не помнишь, когда я ночью от Миши звонил, про страничку не спрашивал?
- — Нет, ты сказал, что прямо от Ахрименко поеедешь на работу.
- — А приехал к тебе,— напомнил Саша,— но — ненадолго, все равно дежурить два дня подряд! Ох, как мне все это надоело! Отчего мы так скудно живем? Была бы, например, машина... Взял бы Тапирчика, и поехали куда глаза глядят. А здесь — иди добывай хлеб насущный. Нет, пора заняться творчеством вплотную, иначе вся жизнь пойдет прахом,— и он, поцеловав ее, ушел.
- Юна стала разбирать черновики Корнеева и нечаянно натолкнулась на клочок бумажки, который он, вероятно, и искал. Она развернула бумажку. Начав читать, поняла, что записка написана утром. «Кисуля! Не забудь! Завтра, 28 апреля, вечером идем в «Метрополь»,— Юна в волнении закусила губу до боли.— Поздравляю тебя, мой родной, с юбилеем нашей встречи и помолвки. Очень прошу, надень замшевый пиджак. Не пренебрегай. А то получается, что его напрасно купила. Сто рублей принесу в ресторан, чтобы ты сразу отвез свой долг и мог считать себя «порядочным человеком».
- Кисонька, прошу тебя, сократись в долгах. Не то машинные деньги все разлетятся. Тебе же хочется машину, и твой «котеночек» старается все сделать для этого...»
- Дальше шло перечисление дел, которые надо переделать Корнееву в ближайшие дни. Все в записке яснее ясного говорило о продолжающейся совместной жизни — его и Нади. Юна почувствовала, что она готова убить незнакомую женщину. Но... как же так? Что — у той никакого самолюбия нет? Знает, что он ее не любит, так нет же, все еще опекает.
- И тут Юну будто что-то толкнуло. Она ощутила, что Корнеев продолжает быть с прежней — черт ее знает, кто она ему,— в близких отношениях, а Юне врет, что не может так, сразу оставить друга-товарища и тому подобное.
- И Юна решила повидать Надю.
- Адрес Юна запомнила еще тогда, зимой, когда встретила Корнеева у Ахрименко. Они шли к метро с Сашей, и Юна спросила у Корнеева, где он живет. Теперь-то она уверена, что адрес этот и есть адрес Нади! Корнеев, помнится, еще очень подробно объяснил, как лучше всего доехать до дома, где он жил, как пройти во флигель — флигель стоял в глубине за другими постройками. Саша хвалил тогда и район, и сам дом, и квартиру... Единственное, о чем он сокрушался, так это, что квартира на первом этаже.
- Вечером Юна поехала к Наде. Несколько раз подходила к квартире, на двери которой висела металлическая пластинка с выгравированными фамилиями: «Воронихина Н. В., Корнеев А. А.», и все не решалась позвонить.
- «Что я ей скажу? — думала Юна.— Потребую — оставьте Сашу в покое? Он вас не любит? Нет, надо же, как получается — ограду маме делать на деньги этой «просто женщины»! С ума сойти!»
- Наконец все-таки Юна позвонила. Дверь ей открыла невысокая женщина с коротко стриженными волосами под «горшок». Длинная челка закрывала лоб, отчего ее глаза глядели маленькими коричневыми буравчиками.
- Женщина была коренастая. Юне невольно вспомнился гоголевский Собакевич. На вид ей было около пятидесяти, и у Юны мелькнула мысль, что по годам она годится ей в матери.
- — Простите, мне нужна Надя,— сказала Юна.
- — Я — Надя. Что вам угодно?
- — Вы?! — удивилась Юна. Она почему-то считала, что Надя должна быть ее ровесницей или, может быть, чуть-чуть постарше, но уж никак не старше Корнеева. Юна никогда не спрашивала у Саши, как Надя выглядит и сколько ей лет. Не спрашивала — и все. Теперь она смотрела на Надю и не знала, как объяснить той свой приход. И тут Юну будто озарило — она вспомнила Моисееву.— Извините, а ваше отчество? — Юна решила подчеркнуть разницу в возрасте.— Мне неудобно вас называть по имени. Да я не представилась. Простите. Я знакомая Миши Ахрименко. Нина Моисеева. Его сейчас нет в Москве, а перед отъездом он дал ваш адрес и телефон. Но телефон я, к сожалению, потеряла. Поэтому пришла без предупреждения. Ахрименко просил меня взять у вас какие-то бумаги, о которых вы знаете, передать в редакцию. Он сказал, чтобы я обратилась к Корнееву или к Наде...
- — Мне Саша ничего не говорил! Но вы пройдите в комнату. Я сейчас попробую ему дозвониться на работу. Узнать, что за бумаги. Я что-то не помню. Правда, дозвониться очень трудно. Бывает, что в течение часа не прозвонишься.
- Юна эта тоже очень хорошо знала! Только мобилизуя свою настойчивость, она могла в течение часа крутить диск аппарата к неудовольствию соседей. Но как же сейчас она так промахнулась, не подумала, что Надя попытается до него дозвониться?
- — Если не дозвонитесь, ничего страшного не будет. Я тороплюсь. Я мимо проходила — зашла. Не знала — застану вас дома или нет. Так что засиживаться не могу,— проговорила Юна, подготавливая путь к отступлению.
- Квартира у Нади была небольшая, но из двух изолированных комнат. Меньшая служила столовой, а большая — спальней. Через открытую дверь в маленькой комнате Юна увидела струганый, на толстых ножках стол, такие же простые деревянные скамьи. Стены комнаты были обшиты деревом. Икона в серебряном окладе висела над телевизором. Главную роль в убранстве комнаты играли складни и всяческая церковная утварь — кадила, лампады и тому подобное. Комната была стилизована под деревенскую избу.
- — Саша любит старину, вот мы и собираем,— когда вошла в комнату, сказала Надя.— Это дуэльный пистолет пушкинских времен. Я сумела его купить всего год назад. Но нам кажется, что он у нас висит всю жизнь...
- Вторую комнату занимал старинный низкий комод и антикварная горка на витых тонких ножках. Еще там стояла очень широкая кровать красного дерева. На одной из ее спинок восседал такой же амурчик, какой Корнеев принес Юне. И в руках у этого был лук с натянутой тетивой. Телефон стоял прямо на атласном одеяле.
- — А где же второй? — спросила Юна, потрогав амурчика.
- — Он у нас есть. Просто сейчас Саша его отнес в починку. У амурчика оборвана тетива и что-то случилось с резьбой. Правда, не знаю, когда он вернется обратно. Какая-то не совсем понятная история произошла с этим амурчиком. Мастер сам починить не смог и попросил еще кого-то. В общем, его придется разыскивать, а Саше сейчас недосуг. У него уже почти четыре месяца такой завал в делах, голова идет кругом. Да вы же, наверное, знаете, что они с Ахрименко сняли специально квартиру для работы, чуть ли не за городом, без телефона. Чтобы никто не мешал. Я, бывает, его неделями не вижу, не слышу. Но какие же люди рвачи! Квартира без телефона, в отдаленном районе, правда, в две комнаты,— сто рублей берут! Где только у них совесть запрятана?!
- Слушая разоткровенничавшуюся Надежду Викторовну, Юна все сильнее сжимала кулачки — так, чтобы ногти впивались в ладони,— боль почувствовать. Надя еще названивала Корнееву, когда Юна ее спросила:
- — У вас раскладушка есть? — спрашивая, она как бы услышала слова Корнеева: «Мы спим давно в разных постелях...»
- Надя перестала крутить диск.
- — Что-то занято все время,— сказала она, а когда по нее дошло, о чем спрашивала Юна, с удивлением воскликнула:— Какая раскладушка?!
- — Ну... если гости останутся ночевать...
- — Пока никто не оставался,— усмехнулась Надя.— А кровать я купила года три назад. Я вам уже говорила, что Саше нравится старина, вот и купила. Она, сами видите, чуть ли не всю комнату заняла. Пришлось кое-что отвезти на дачу. У меня дача еще от родителей осталась. Недалеко от Москвы. Я ведь Саше предлагала, чтобы они с Ахрименко на даче жили и работали. Тем более что дача теплая. Не надо было бы платить. «Нет,— сказал он,— ты мне будешь мешать своими наездами». И знаете, даже адреса той квартиры не дает!
- Вероятно, Надя давно ни с кем не разговаривала о доме и своей жизни. Ее потянуло к откровенности. Почему-то бывает и так, что самым сокровенным начинаешь делиться с совершенно незнакомыми людьми.
- — Может быть, с адресом я вам еще и помогу! — интригующе проговорила Юна.— Мне Ахрименко тоже ничего пока не говорил о той квартире, но я у него адрес обязательно выпрошу!
- Надя снова стала крутить, не переставая, диск аппарата и одновременно делиться своими мыслями:
- — И зачем он туда пошел работать! Ума не приложу. Хочет чувствовать себя независимым? Конечно, мужское достоинство — великая вещь! Но ему творчеством заниматься надо... А не в гостинице сидеть...
- «Вот откуда ветер дует. Вот почему сегодня столько слов о творчестве было»,— подумала Юна.
- — Уж я как-нибудь на двоих заработаю,— продолжала Надя.
- — А кем вы работаете?
- — Я? Художник-реставратор. В основном по старинной живописи, по иконам. Ой, простите,— спохватилась она,— я вам и чаю не предложила. А может, чего-нибудь покрепче? Саша только портвейн пьет, все усмехается, что, мол, на большее не зарабатывает. А сейчас он работает над повестью,— Надя гордо встряхнула головой,— так что почти не пьет. Может, все же коньячку вам налить?..
- — Корнеев когда должен прийти? — вдруг оборвала ее резко Юна.
- — Завтра утром. Часов в десять.
- — Может быть, дадите ваш телефон? Сейчас я тороплюсь, а завтра вам позвоню.
- — Да, так, пожалуй, лучше, а то я нервничаю, что не могу дозвониться, и вас задерживаю. Только позвоните, пожалуйста, до шести часов. Мы вечером идем в «Метрополь». У нас юбилей.
- Надя радостно улыбнулась, и Юна увидела, что эта женщина даже симпатична. Когда же она улыбается, ее лицо становится просто красивым.
- — Спасибо, я обязательно позвоню. Вы очень симпатичный челове...— Юна чуть было не сказала корнеевское «человечек», но в последний момент удержалась и продолжала: — Не помню точно, но, кажется, Ахрименко говорил мне, что ваш Корнеев почти герой, что мальчишкой он бежал на фронт, когда его отец пропал без вести.
- — Ну, Ахрименко что-то спутал,— сказала Надя.— Саша на фронт не убегал. Он с матерью жил в эвакуации. А отец его еще до войны ушел от них...
- Когда Юна вышла от Надежды Викторовны, она решила, что поедет в гостиницу.
- «Хватит. Пора рвать,— думала она.— Несколько месяцев сижу дома. То боюсь пропустить его звонок, то боюсь пропустить его приход. Сижу и трепыхаюсь. И впрямь стала настоящая иждивенка. К тому же живем на деньги «просто женщины»! А я, дура, всему верю, даже тому, что он каждый месяц сто рублей гонорара зарабатывает. Еще жалуется, что у него «разметка» такая — больше этой суммы в редакции заработать ни за что не дадут».
- Но по дороге в гостиницу запал оставлял ее. Она решила не торопиться, не совершать опрометчивых поступков. В свое время она, Юна, уже наломала дров — так «поторопилась», что пробыла с Симкой целых десять лет. А как быть, если она сейчас порвет с Корнеевым? Денег нет, с работы уволилась. Да, затянули ее основательно инертность и леность. «Не пори горячку»,— сказала она себе.
- Конечно, Надя рассказала Корнееву о посещении незнакомки, задававшей довольно странные вопросы. И конечно, по описанию Нади он понял, что это была Юна. Прямо из ресторана Саша приехал к Юне. Таким элегантным и свежим она его еще никогда не видела. Замечательный коричневый замшевый пиджак отлично сидел на нем. Из-под обшлагов выглядывали накрахмаленные манжеты, сверкали старинные серебряные запонки с горным хрусталем. Но что подкосило ее окончательно — золотое обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки, которое он, вероятно, забыл снять!
- — Что за пассаж ты устроила? Зачем ты туда заявилась? — сдержанно и сухо бросил ей Корнеев в лицо прямо с порога.
- — Решила разыграть интермедию. Посмотреть, как моя музыкальная часть фуги выглядит между двумя проведениями темы,— Юна вспомнила термин из своего музыкального прошлого. Она вроде бы подшучивала над собой.
- — Ну, и чего ты добилась? Пришла к незнакомому человеку, прекрасному, милому человеку, скажем откровенно, как лазутчик, и начала выспрашивать, вынюхивать. Что за манера?! Никакой интеллигентности! Надя себе этого, конечно, никогда бы не позволила.
- — Ей уже поздно себе что-то позволять,— произнесла Юна, ехидно глядя на него в упор.
- — Что ты этим хочешь сказать?
- — Что хотела, то и сказала. В ее возрасте ничего другого не остается, как быть интеллигенткой и для кого-то собирать старину.
- — Что ты все усложняешь?! — вспылил Корнеев.— Надо жить проще! Ах, жаль, что тебе не хватает интеллигентности! Если бы была — всем сразу стало бы легко!.. Да, о какой еще раскладушке ты ее пытала?
- — А какую квартиру ты снимаешь вдали от родных пенат?! И вчера ты ночевал там, у нее! — вырвалось у Юны.
- Злость начала захлестывать ее, как и накануне, когда она обнаружила записку Нади. Юна представила широкую кровать с единственным амурчиком.
- — Что, старше «котеночка» никого не нашел? Повесть пишем! Коммунальных Ромео и Джульетту изображаем! Об интеллигентности беседуем! Правильно, в моем дворе, по твоим понятиям, не было интеллигентных людей. По твоим понятиям. А на самом деле... Все, с меня хватит! Завтра же пойду устраиваться на работу. Не хочу быть больше двоюродной любовницей. Да, да, именно двоюродной! И нечего улыбаться! На родную еще рангом не вышла, интеллигентностью. Вообще — ты или там все заканчиваешь и переезжаешь сюда, или же...
- — Или же?.. — Корнеев вдруг принялся хохотать.
- Его смех, его вопрос вынуждали Юну к определенности, нужно было ответить! И тут она испугалась, что сейчас дает повод Корнееву повернуться и уйти насовсем. Как страшно...
- — Или же...— и она осеклась.
- — Ну, ты все сказала? Теперь послушай меня,— Саша удобно устроился на диване.— Еще раз повторяю: ничего не надо усложнять, живи проще! Не создавай трудностей там, где их нет. Ты же видишь, что я здесь, а не там. Люблю-то я тебя! У Нади сегодня день рождения. Восемь лет назад мы в этот день познакомились. Ей хочется этот день считать юбилеем, ну и пусть считает, раз ей так хочется. Не прийти к ней я не мог. За то время, что мы с тобой, вспомни, сколько раз я с ней виделся? Всего три раза. Раз — когда привез из больницы. Второй — когда ты меня выгнала. Вчера же прибежал к ней утром, перед работой, когда ее уже дома не было, поэтому она и оставила записку. Я тебе же, дурехе, звонил ночью от Ахрименко. Во сколько? В первом часу ночи.
- — А почему же она себя держит так, будто ты там живешь все время? Постоянно? — сомнение еще не оставило ее.
- — Нет, Надя должна была сказать человеку, которого она впервые видит, что у ее мужа любовница и в данное время он живет у этой любовницы?
- — Так, значит, все-таки у мужа? А я — любовница?! — Юна опять вскипела.
- — Что ты привязываешься к словам? — завелся Саша.— Прекрасно знаешь, что я не женат, в паспорте чисто.— И, словно спохватившись, что опять сказал не то, поправился: — Официально не женат. Все знают, что моя жена ты. Кто Надя для меня, я тебе не единожды уже говорил, больше не хочу.
- Юна молчала, глядя на кольцо, блестевшее на его руке. Корнеев перехватил ее взгляд.
- — Вот дура на мою голову свалилась! И я дурак, что люблю зту дуру. Надя просила меня надеть кольцо. Она давно его купила, но я не ношу. Надел для гостей! — продолжая свои объяснения, Корнеев снимал пиджак.
- Юна, увидев, что Саша никуда не собирается уходить, начала понемногу успокаиваться.
- — Да, кстати,— произнес Корнеев, доставая из пиджака деньги,— это я приготовил для мамы...
- — Моя мама еще подождет...— спазмы сдавили горло Юны.— Подождет до тех пор, пока ее дочь все-таки сама что-то сможет сделать для нее.
- Юна чувствовала, что еще немного — и разревется, а ей очень не хотелось, чтобы Корнеев видел ее слезы, и она выскочила на кухню.
- — Как знаешь...
- Несколько дней они почти не разговаривали друг с другом. Юна молчанием и показным равнодушием создавала какую-то невидимую стену. А Саша все эти дни пытался как бы замолить перед ней грехи, разрушить эту стену. И в конце концов ему удалось это сделать.
- Наступило лето. И тут Корнеев снова пропал! И Юна снова закрылась в комнате на ключ. А Саша не появлялся и не появлялся. Прошло два дня. В эти дни, а особенно в эти ночи Юна невероятно остро ощутила его отсутствие. Диван ей казался огромным пространством — слишком огромным для ее беспокойного сна. Просыпалась в испуге от того, что рука ее не чувствовала рядом Сашу. Затем вспомнила, что его нет уже вторую ночь, и опять впадала в забытье. На третий день Юна поняла, что теперь ей уже не скрыть от соседей, что Корнеев пропал. Она представила, с какой усмешкой посмотрит на нее директорша, как Анна Сергеевна заискивающе-жалостливо начнет интересоваться ее здоровьем, а слесарь-сапожник отпустит двусмысленную шуточку. И Юна бросилась к Евгении Петровне, как несколько лет назад, когда поссорилась с Серафимом, уехала жить к Пане.
-
- У Юны будто пелена упала с глаз. Она неожиданно поняла, что оторвалась от людей, вспомнила свою «лаб», Лаврушечку, Галкина, с которым так часто ссорилась, и сердце ее сжалось до боли. Может быть, именно этих людей ей и не хватало все время? Даже Демьяна Клементьевича, с которым можно было поделиться, найти сочувствие.
- «А теперь вот на ключ запираюсь, чтобы никто ничего не узнал»,— горько усмехнулась про себя Юна. Неожиданно ее кольнула мысль, что, может быть, и любовь к Саше у нее от одиночества и хватается-то она за него только из страха остаться одной.
- Юна ясно ощутила, что попала в полную зависимость от Корнеева, как материальную, так и духовную; что мыслит, как он; что незаметно для себя во всем подражает ему. Даже многие любимые его словечки употребляет к месту и ни к месту.
- И стыдно стало ей еще и потому, что ранила близкого человека — Рождественскую:
- — У вас рабская психология! Вам надо ее в себе уничтожать! Все вкалываете, давно могли бы жить на пенсию.
- Приехала тогда взять денег в долг, а начала поучать бывшую соседку, как той надо жить. Однако Евгения Петровна достойно ей ответила:
- — Не могу сидеть сложа руки, как беспомощная старуха...
- А если в самом деле Евгения Петровна не может жить без работы? Вполне возможно, что ресторанный оркестр действительно продлевает ей жизнь. Если не хочет тетя Женя идти на пенсию, нужно ли думать, что у нее что-то не в порядке с психикой? Нет свободы духа и инициативы мышления, нет раскрепощенности? Ведь Евгения Петровна как раз видит свою «раскрепощенность» в возможности трудиться и хотя бы маленькой толикой давать людям радость.
- Евгения Петровна была интеллигентна. Она не стала, как Тамара Владимировна, которой Юна некогда сделала такое же замечание, отвечать словом «дура». Тетя Женя сказала так:
- — Твой возлюбленный,— она никак не желала Корнеева считать мужем,— развратил тебя. Он вывалял твою душу в грязи. Ему нестерпимо, чтобы ты была лучше, светлее его. Поэтому забивает тебе голову пошлостью. Да, да, он пошляк! И циник! И вся его «свобода духа» — от пошлости и лености! Нет у него ничего святого за душой! Уж лучше бы пошла замуж за Серафима...
- — Я люблю Корнеева, и никого больше,— ответила Юна.— Мне с ним интересно. Он мне как мать и отец, муж и брат — все вместе. Поймите это, тетя Женя! Вам он пошляком кажется, потому что не признает загса. Только обыватели стремятся в загс!
- Юна хорошо понимала, что Рождественская имела в виду более серьезные вещи, но решила повернуть разговор в такое русло, чтобы сбить Евгению Петровну с толку. Еще хорошо, что не произнесла слово «быдло», которое в последнее время все чаще употреблял Корнеев, когда хотел сказать, что тот или иной человек стоит ниже их по культурному уровню. Она сказала «обыватели».
- — А интеллигентные люди и так доверяют друг другу. Они... — тут Юна умолкла, поймав себя на том, что говорит не то, что думает сама, а повторяет слова Корнеева. — И зачем Симку вспомнили?
- Рождественская «клюнула» на поворот в разговоре.
- — Елизавета Николаевна, его мать, несоклько раз ко мне приезжала,— сказала Рождественская. — Просила, чтобы я с тобой поговорила. Нравилась ты Симке. И женился бы он на тебе по-настоящему, а не как «этот»,— она никогда не называла Корнеева по имени.— Я с тобой о Серафиме никогда не говорила. Все ждала, что сама скажешь. Да и Паню не хотела расстраивать. Она на тебя, как на икону, молилась. Лишь бы у «девки того, как у людей».
-
- Когда Корнеев исчез на сей раз и Юна прибежала к Евгении Петровне, скрывшись от насмешек соседей, а по сути — от себя, своих мыслей, своего стыда, первыми словами тети Жени были:
- — Ты не забыла, что скоро годовщина — десять лет со дня смерти Фроси? Как время быстро летит! Будто только вчера ее хоронили. А «этот» собирается с тобой на кладбище?
- Что могла ответить Юна тете Жене, когда вообще не знала, где он и что с ним. Конечно, день смерти мамы она не забыла, но то, что задумала — поставить надгробие,— сделать не смогла. И ограду тоже. А врать нет сил. Такая тоска на душе!..
- — Тетя Женя,— еле слышно спросила вместо ответа Юна,— можно я у вас немного поживу? — И, опустив глаза, тихо добавила: — Тошно мне. Хоть из окна бросайся!
- — Еще что надумала,— спокойно проговорила Евгения Петровна,— что, Фрося для того тебя и спасала, и воспитывала, чтобы ее доча из окна прыгала?!
- Рождественская подошла и потрепала Юну по волосам, как в детстве.
- — Богу молиться надо, что бросил «этот» — и перекрестилась.— Может, теперь ты за ум возьмешься. На работу пойдешь. А пожить у меня можешь. Живи. Видишь, две комнаты теперь у нас.
- «Нет. Надо все с ним порвать»,— решила Юна. В тот же день Юна поехала на кладбище и посадила на могиле Фроси анютины глазки, которые та очень любила. Тут же, стоя у могильного холмика она твердо решила, что, когда начнет работать, первые деньги потратит на ограду и надгробие.
-
- У Рождественской Юна прожила уже больше недели, когда там ее разыскал Корнеев. И опять убедил ее, что никто, кроме нее, ему не нужен, а исчез неожиданно потому, что не смог ее предупредить. Подвернулась хорошая командировка, в гостинице договорился с ходу.
- — Грех было отказываться от этой поездки,— говорил он. Разве Тапирчик не звонил ему на службу, разве ей ничего там не сказали?
- Нет, Юна не звонила Саше ни на работу, ни к Наде. Из гордости.
- И снова Корнеев жил у Юны. А через некоторое время опять исчез, и опять Юна решила, что «надо все рвать».
-
- Еще там, на кладбище, вспоминая маму, Юна подумала о том, что решение порвать с Корнеевым верно. Когда Корнеев снова «пропал», самолюбие ее к этому времени было уже достаточно уязвлено. Ей надоело ходить с опущенной головой, чтобы не встречаться с насмешливым взглядом директорши. Тамара Владимировна будто говорила: «Ну, кто ока-лея прав?» И опять Юна едет к Рождественской. Ей нужно было как-то оправдаться, утвердиться и защитить свое самолюбие. И она объявила соседям, что с Корнеевым «все кончено».
- — Правильно,— поддержала директорша.— Какая ты ему жена? Сожительница посменная. Как у нас в магазине. День — в утро, день — в вечер. Гони ты его в шею...
- — Серафима разве сравнишь с ним,— сказала «мамашка».— Культурный был человек. Что говорить, начальник и есть начальник. У начальника понятий больше, как с людьми вести себя.
- — Его фамилию,— подхватила директорша,— всегда в газете найдешь, а сожителя — не видать. Нет, правильно сделала, что выгнала. А то сколько бы еще такое продолжалось. Напрасно ты Серафима, такого человека, упустила! Хорошо, что работать снова пошла...
-
- Юна с осени работала корректором в технической редакции одного из научных институтов Москвы.
- Редакция находилась в центре Москвы, в старинном особняке с колоннами. Какой-то мудрый хозяйственник решил, что особняк никакой исторической ценности не представляет, и позволил приспособить его под нужды института. Кроме редакции, в особняке находились два или три отдела, слесарная мастерская и склад. Ежедневно приходя на работу, Юна с робостью поднималась на крыльцо, шла к колоннам и толкала тяжелую дубовую дверь, стараниями институтского АХО изуродованную до невозможности: ее покрасили в противный коричневый цвет, при этом покрасили неаккуратно, и потеки масляной краски застыли возле петель. От былой красоты и торжественности двери остались только витые медные ручки, блестевшие в солнечные дни.
- Техническая редакция размещалась в двух комнатах. В одной, большой, сидели пять сотрудников в меньшей — заведующий редакцией Григорий Пантелеевич Мокану.
- Было Григорию Пантелеевичу под семьдесят. Он давно мог бы выйти на пенсию и даже попробовал походить в звании пенсионера, но как выразился он сам: «Надоело два месяца то в окно смотреть, то в тарелку». (Происходило это еще до прихода Юны в редакцию.) И снова вернулся к своему столу — благо что должность его за эти два месяца не успели занять, словно знало институтское начальство, что Мокану вернется, не выдержит его деятельная натура безделия. Да и редакции он отдал без малого сорок лет.
- При первом знакомстве с Григорием Пантелеевичем Юна испытала смущение: ей показалось, что начальник во время разговора постоянно с каким-то ехидством подмигивает ей. Лишь потом она узнала, в чем дело,— оказалось, еще в гражданскую войну Григорий Пантелеевич был контужен, у него поврежден малый третичный нерв, и подмигивание является следствием этого.
- Невысокий, кряжистый, Григорий Пантелеевич был вдобавок ко всему глуховат. Когда говорил по телефону, постоянно кричал в трубку: «Говорите громче! Говорите громче!»
- Одевался он на удивление элегантно. Когда-то, говорят, он был большим модником, но теперь от былого осталось только желание выглядеть элегантно. Надо сказать, что Григорию Пантелеевичу это удавалось вполне. Юне казалось, что одеждой Мокану как бы компенсирует свою глухоту и самопрозвольное подергивание глаза. Может быть, так оно и было, но Юна, вероятно, не понимала до конца Григория Пантелеевича,— два поколения, разделявшие их, словно бы какую-то стену воздвигали между ней и Мокану. Она никак поверить не могла, что этот брюзгливый старик, так придирчиво относящийся ко всему, что делали сотрудники, был когда-то лихим кавалеристом, дружил с Котовским и ходил в синих шароварах с красными лампасами.
- На праздничные вечера Григорий Пантелеевич приносил в редакцию гармошку и во время застолья, когда оно достигало апогея, брал ее в руки, растягивал мехи и лихо пел частушки из далеких-далеких дней, подернутых туманом:
-
У меня коса большая,
Лента зелениста!
Никого любить не буду,
Кроме коммуниста!
-
- Григорий Пантелеевич подмигивал зачем-то слушателям и начинал новую частушку:
-
Полно, мать моя родная,
Полно плакать обо мне,
Ведь не всех же, дорогая,
Убивают на войне!
-
- После проигрыша новая неизвестная частушка срывалась с губ Мокану:
-
Нынче новые права —
Старых девок на дрова:
Девятнадцати — любить!
Двадцати пяти — рубить!
- Григорий Пантелеевич родился в Кишиневе в семье наборщика. Заброшенный судьбой в Москву, он прижился на ее почве и даже с годами избавился от акцента, только иногда из слов, произносимых Мокану, куда-то ускальзывал мягкий знак или, наоборот неуместно пристраивался после «л»: «впольне» вместо «вполне» говорил Григорий Пантелеевич и «машинално» вместо «машинально».
- Очень часто в обед сотрудники редакции ходили есть пирожки и пить кофе в хлебный отдел гастронома, расположенного в высотном здании, которое заслоняло собой полнеба и хорошо было видно из окон редакции. Григорий Пантелеевич обедал в своем кабинете — еду ему приносила жена, статная красавица, на целую голову выше Мокану. Они были очень странной семейной парой. Так казалось Юне, потому что было непонятно ей, чем мог Григорий Пантелеевич привлечь такую женщину, — жена Мокану по-настоящему была красива даже в старости, а в юности, наверно, тем более.
- — Гришенька,— доносился из-за двери кабинета Мокану ласковый голос его жены,— котлетки попробуй, диетические, только что пожарила.
- Григорий Пантелеевич что-то недовольно отвечал — может быть, укорял жену за этот тон, казавшийся ему неуместным в служебной обстановке.
- Кроме Мокану, еще один мужчина работал в редакции на должности, которую редко занимают мужчины,— курьера. Звали его Ленечкой, было ему за тридцать.
- Как и Григорий Пантелеевич, он был контужен — только уже в Великую Отечественную, осенью сорок первого, во время бомбежки. Мокану лет пятнадцать назад встретил его на трамвайной остановке у зоопарка. Просительно улыбаясь, Ленечка стоял с протянутой рукой. Видимо, другой человек на месте Григория Пантелеевича прошел бы мимо, да и проходили мимо сотни людей, а Мокану разговорился с Ленечкой, выведал, что и как, взял за руку, привел к начальству, и на следующий день в редакции появился новый курьер.
- Работы у Ленечки было немного — отнести гранки типографию, принести их из типографии. Время от времени он ездил к кому-нибудь из заболевших авторов на дом, отвозя корректуру им и привозя назад. Большую же часть времени Ленечка сидел неподалеку от двери в кабинете Мокану, и стоило Григорию Пантелеевичу появиться в большой комнате, как Ленечка моментально вскакивал, вопросительно заглядывал в глаза Григорию Пантелеевичу: не надо ли что-нибудь сделать?
- В своем развитии Ленечка застыл годах на одиннадцати, когда его контузило. Он очень любил сладости и мог целый день проходить с леденцом за щекой. Все сотрудницы (и Юна тоже) время от времени покупали ему их, и, принимая кулек с леденцами, Ленечка благодарил, заикаясь, и глаза его светлели, и у всех женщин от этого теплело на душе.
- Неожиданно для самой себя Юна обрела в маленьком коллективе редакции врага. Врагом этим оказалась заместитель Григория Пантелеевича — Ираида Семеновна, женщина, бывшая в молодости, судя по всему, видной, но теперь поблекшая, словно георгин, тронутый морозом.
- Вражда между Юной и Ираидой Семеновной возникла незаметно, почти никогда не проявлялась явно, но обе относились друг к другу настороженно. А причина вражды заключалась в том, что Ираида, оказывается, спала и видела себя сидящей на месте Мокану. Она явно не подходила для этой должности, она и замом стала случайно, потому что иной кандидатуры не нашлось, а человека со стороны руководство института приглашать не стало, но, оказавшись в ранге начальства, Ираида Семеновна вдруг возомнила себя способной и на дальнейшее продвижение по служебной лестнице. В Ираиде Семеновне воплотилось для Юны понятие «карьерист». И даже то, что жила Ираида Семеновна одиноко, с больной, впавшей в маразм матерью, не примиряло Юну с Ираидой Семеновной. Рассудком Юна понимала что Ираиду Семеновну можно пожалеть, но в сердце жалости не возникало. Оно оставалось холодным когда Ираида повествовала о своих мучениях, об очередных причудах матери, которые только поначалу вызывали смех, а стоило задуматься, и не было во всем этом ничего смешного, только жалость могла вызвать беспомощная мать Ираиды Семеновны.
- На должности корректора работала также в редакции Лена Егорова, она была ровесницей Юны. Мать двоих детей, рожденных ею очень рано, Лена всю себя посвятила им да мужу, шоферу, возившему директора института. Злые языки утверждали, что лишь поэтому Лена оказалась работницей редакции, а не, например, АХО или чертежницей в каком-нибудь отделе, потому что особой грамотностью Лена не отличалась, и Юна частенько помогала ей работать над правкой.
- Еще одну сотрудницу, тишайшую Раису Георгиевну, одетую и зимой и летом в одну и ту же темно-синюю кофту, Юна разглядела чуть ли не через полгода работы в редакции. Раиса Георгиевна уже сидела на своем рабочем месте, когда прочие сотрудники приходили, и еще сидела, когда они покидали редакцию. Она была пенсионеркой и, кажется, намеревалась до гроба просидеть тихо и незаметно в своем углу в неизменных очках на кончике носа, в вечной своей темно-синей кофте, с пакетиком леденцов в верхнем ящике стола. Это она первой принесла Ленечке леденцы, а потом уже стали носить и остальные сотрудники. Говорили, что Раиса Георгиевна — жена очень большого начальника, погибшего в конце тридцатых годов. Потом он был реабилитирован, но внезапное падение с высоты в эту неприметную редакцию, видно, так ошеломило Раису Георгиевну, что она никак не могла опомниться. Лишь иногда, когда самоуверенная Ираида Семеновна с апломбом начинала нести какую-нибудь ахинею, Раиса Георгиевна словно бы просыпалась и веско ставила все на свои места. Речь ее была серьезна и аргументированна, в словах сквозила ирония. В такие моменты всем становилось ясно, что и по образованию, и по воспитанию Раиса Георгиевна могла бы больше пользы принести, но уже, к сожалению, не принесет — историческая несправедливость исковеркала ее судьбу.
- Такие разные сотрудники редакции все-таки все праздники старались встречать вместе. Лена приглашала своего мужа, почти двухметрового здоровяка, получившего в редакции прозвище Поддубный. Приходила жена Мокану. Мать Ленечки, как и сын, боготворившая Григория Пантелеевича, тоже появлялась время от времени, влюбленными глазами глядя на сотрудников: они виделись ей удивительно добрыми людьми, раз сумели приютить ее убогого, казалось, ни на что не способного сына, вернули ему ощущение, что он — человек.
- Григорий Пантелеевич пел частушки, Юна, Лена и Поддубный танцевали. А заканчивалось празднество обычно дружной застольной песней, от которой их лица обретали какую-то умиротворенность, очищались от едкой суматохи буден и делались удивительно похожими друг на друга.
- Вроде бы Юна по-настоящему полюбила своих сослуживцев, хотя техническая редакция и представлялась ей порой путами, которые крепко привязывали ее к земле, в то время как с Корнеевым она в часы покоя парила в облаках...
-
- ...С Корнеевым они были опять вместе. Проработав полтора года корректором, Юна решила доказать ему, что и она на что-то способна в жизни, что она нисколько не хуже Нади.
- «Стану журналисткой»,— сказала она себе и начала заниматься на вечерних курсах рабкоров при Союзе журналистов. Еще при Серафиме ей нравилась живая работа репортера, постоянное общение с людьми, смена событий. Заметив тогда ее интерес, Симка старался понятно, доходчиво объяснить, в чем скрыты особенности профессии журналиста. Поначалу Саша смеялся над ней:
- — К славе стремишься, Тапирчик?
- Однако учеба все больше увлекала Юну. Когда Корнеев понял, что она всерьез отдается занятиям, он стал ехидничать, иронизировать:
- — Честолюбие замучило? — Потом старался убедить серьезными доводами: — Для того чтобы быть репортером и тем более хорошим журналистом, одного желания мало. Человеку для этого дела требуется особая интуиция. Реакция на момент! Как каскадеру, когда он подсекает лошадь.
- В принципе Корнеев был прав. Действительно Юне хотелось и славы. Но не столько для себя, сколько для того, чтобы он понял, кого он может потерять в ее лице!
- — Интуиции у меня достаточно,— отрезала Юна.— А реакция придет.
- — Неудавшийся музыкант, полутехнарь пишет сериал очерков на сельскохозяйственные темы. Тапир, от тебя можно обалдеть.— За насмешкой Корнеева чувствовалась его озабоченность желанием Юны стать самостоятельной. Он считал, что любая женщина должна жить только интересами мужчины и беспрекословно ему подчиняться. Корнеев придумал для таких женщин даже термин, которым он их определял: «Глухонемая сиротка»! А тут вдруг Юна выходит из повиновения! Ускользает как-то от него...
- Это его бесило.
- В той же технической редакции после окончания Курсов Юна перешла на работу младшего редактора. Дело это было ей по душе. Однажды Юне предложили взять интервью у профессора института, при котором эта редакция существовала. Интервью напечатали в ведомственной газете. Профессор был подан не только человеком науки, но и человеком многосторонних интересов и знаний. Оказывается, в свободное время он очень любил работать лобзиком, вырезая замысловатые рисунки для рамок. Об этом не знали и некоторые лучшие его друзья.
- Да, уроки Серафима не прошли даром. Не раз он ей говорил, что прежде всего в человеке, о котором пишешь, надо что-то открывать, находить неизвестную черточку, «играющую на образ».
- Каким-то образом интервью попало на глаза одному из сотрудников отдела науки городской газеты. Он отметил нестереотипность напечатанного материала, разыскал Юну и привлек ее к внештатному сотрудничеству.
-
- Звали этого сотрудника Владимиром Александровичем Юсуповым. Несмотря на такую аристократическую фамилию, происходил Владимир Александрович из крестьян, был по-крестьянски крупным. Доброта светилась в его глазах. Над высоким лбом Юсупова венчиком лежали седые волосы, всегда старательно причесанные, — так Владимир Александрович старался скрыть лысину.
- Не одну Юну привлек Юсупов к сотрудничеству в своей газете. Это было чем-то вроде его хобби: искать новые имена, звонить людям, предлагать им написать заметку, а если получится, то репортаж или фельетон.
- Сам Владимир Александрович писал мало, но не потому, что не мог, а потому, что большую часть своего времени тратил на чужие заметки, корректируя их, сокращая, подсказывая, на что стоит обратить больше внимания, какие нюансы усилить, а что может быть, приглушить.
- В редакции своей газеты Юсупов занимал небольшой пост, но ему тем не менее выделили отдельный кабинет, чтобы было где принимать десятки посетителей, которые постоянно приходили к нему.
- Когда Юна впервые увидела Владимира Александровича, ее поразило несоответствие его облика с тем, что он — журналист. Нет, журналисты, которых она знала (тот же Симка!), были совсем не такими. Владимир Александрович напоминал скорей завхоза из какого-нибудь захудалого учреждения, чем журналиста. Но впечатление от внешности Юсупова было обманчивым. За простотой облика крылась немалая эрудиция. То и дело двери кабинета Юсупова открывались и заглядывал кто-нибудь, чтобы задать Владимиру Александровичу самый неожиданный вопрос. И на любой из этих вопросов следовал неожиданный ответ. Со своей эрудицией Юсупов был в редакции своеобразной достопримечательностью — порой ему задавали вопросы только для того, чтобы удивить и увидеть реакцию какого-нибудь знакомца, случайно забредшего в редакцию: а у вас вот таких феноменов нет!
- Стол Владимира Александровича стоял у окна. Заоконный свет падал слева на крупную голову Владимира Александровича, рельефно очерчивая его губы, подбородок с ямочкой посередине, резкие морщины над переносицей и в уголках глаз. Еще свет выхватывал из полумглы десятка два репродукций, прикнопленных к бледно-зеленой стене. Эти репродукции Юсупов аккуратно вырезал из «Огонька».
- Юна совсем не понимала живописи, и длинные разговоры с Владимиром Александровичем о художниках и картинах были, может быть, той радостью, ради которой Юна и приходила в кабинетик Юсупова. Но не единственной радостью. Куда важнее было для нее просто смотреть на простодушное лицо Юсупова, осознавая, что он, выходец из деревни, сам сделал свою судьбу! Что это значит? А то, что и она, Юна, при старании, усидчивости, целеустремленности может добиться того же!
- Она никогда не задумывалась: почему Юсупов столько сил и времени тратит на нее? Да и зачем, казалось ей, задумываться: разве к ней одной с такой теплотой и нежностью относится Владимир Александрович, разве, кроме нее, не бывает в его кабинете десятков других людей? Она, собственно, и не считала, будто Юсупов как-то по-особенному относится к ней. Ей представлялось это нормой — его доброта и бескорыстие. Юна не пыталась спросить себя: а она сама сможет сделать доброту и бескорыстие нормой своего существования?
- После разговора с Юсуповым Юна всегда чувствовала в себе прилив уверенности. Если надо, она все сможет! И заметки для городской газеты она напишет. Не боги горшки обжигают. Она тоже способна не только делать разметку, выверять корректуру и вычитывать рукописи в своей технической редакции, но и быть журналистом!
- С той поры время от времени в городской газете стали появляться ее небольшие заметки и репортажи. В основном о людях техники. Встречи с ними расширили кругозор Юны, ей стало интереснее жить. Появились новые знакомые в редакции, в журналистских кругах. Через некоторое время Юна поняла, что и Корнеев с интересом приглядывается к ней продолжая, впрочем, подсмеиваться над ее «творческими потугами».
- Когда было напечатано ее первое интервью, она тут же поехала к Рождественской. Ведь на маленькой «четвертушке» напечатана фамилия — «Ю. Ребкова». Рождественская очень обрадовалась, засуетилась — то переставляла зачем-то с места на место старую, потускневшую от времени хрустальную вазу, в которой не было цветов, то принималась разглаживать скатерть. Потом, спохватившись, предложила Юне поесть.
- — Такой успех! — говорила она по привычке, вскидывая вверх руки.— Прасковья Яковлевна может спать спокойно! «Девка не пропала». А главное мама твоя — Фрося. Может, повезет. Начнешь печататься, деньги будут, надгробие поставишь. А то с «этим» твоим далеко не продвинешься. Бог даст и от него отлипнешь.
- Да, ни ограды, ни надгробия на могиле мамы так и нет. Только бугорочек, обложенный дерном, да маленькая железная трафаретка. А она почти три года уже работает!
-
- Прошел еще год, а могила так и осталась голой. И от Корнеева Юна не «отлипла». Теперь в ее жизненных перипетиях принимали участие не только соседи, Евгения Петровна, но и сотрудники редакции, которые не раз обсуждали и осуждали Корнеева. А когда Юна приходила на работу с синевой под глазами, с сухим блеском в глазах, ее сослуживцы уже знали, что Саша опять ушел от нее. Юна каждый его уход переживала с прежней болью... Они сочувственно поддакивали ей и часто повторяли одну и ту же фразу: «Надо же, какой подлец! Тунеядец несчастный, альфонс проклятый! Да брось ты его!»
- И что же! Теперь, когда Сашу поносили, ей на какое-то время становилось полегче, будто она свою беду перекладывала на их плечи, не ощущая, что тем самым предает Корнеева.
- Но почему сотрудницы считали его тунеядцем и альфонсом? Да потому, что Юна сама так называла его в момент остервенелости, когда ей не хотелось жить, когда она знала, что он у Нади. О том, что он работает, худо-бедно зарабатывает и делится с ней, она в такие минуты забывала: тунеядец — и все!
- Когда же она улыбалась, все у нее спорилось, всем становилось понятно, что Саша опять появился на горизонте. И Юна уже не считала, что мужчина должен трудиться в поте лица своего, особенно такой талантливый человек, как Корнеев.
- «Таким необходимо заниматься творчеством»,— думала она. И готова была все силы свои отдать работе, лишь бы только он был при ней и писал свои сочинения, лишь бы он не задумывался о заработке.
- «Согласна даже уборщицей в метро подрабатывать или еще как-нибудь»,— решала она про себя.
- И хлопотала о работе по совместительству, но тут Корнеев внезапно исчезал из ее поля зрения на неделю, и все ее устремления летели к черту.
- Почему она никогда не звонила Наде? Ведь знала номер ее телефона, ведь могла убедиться в обмане Корнеева! Боялась правды. В течение всех лет она — через самообман — давала ему возможность возвратиться к ней.
-
- После нескольких лет такой странной и суматошной жизни — то Корнеев дома, муж, то исчезает на неделю — Юну постигло несчастье. Болезнь, первый приступ был еще при жизни Фроси, проявилась снова. В один из вечеров, когда Корнеев отсутствовал очередной раз, Юна почувствовала сильную боль в пояснице. У нее даже в глазах потемнело. Пришлось вызвать «скорую», и в больницу ее отвезла «мамашка».
- Уже на следующий день Юне виделось, что ее отделяла широкая полоса от прежней жизни — та вдруг сделалась чужой, нереальной. Казалось, не существовало ни квартиры в коммуналке, ни редакции. Даже образ Евгении Петровны, с которой была связана почти вся жизнь Юны, потускнел. И Корнеев ушел в тень. Теперь о нем напоминала только жалость к себе: вот лежит тут одинокая и заброшенная.
- Но ранним утром следующего дня в больницу приехала взволнованная и растерянная Рождественская. Она все выспрашивала у гардеробщицы, как здоровье ее «девочки», которую вчера привезли на «скорой».
- Однако нужна была Юне не Рождественская, а он, Корнеев. Порой ей начинало казаться, что в будущем она сможет обойтись без него, что, как только выйдет из больницы, она порвет с ним. И еще она думала о своей маме, о Фросе. Нигде так, как в больнице, не выверяются многие человеческие качества, понятия о добре, милосердии и сочувствии. А именно этими качествами обладала Фрося.
- Через несколько дней приступ у Юны прошел. Но по лицам врачей она видела, что дело обстоит гораздо сложнее. Ее назначили на консультацию к профессору. За час до этого Юна сказала лечащему врачу, что, если у ее обнаружат рак, она покончит с собой.
- — Я знаю, что больным этот диагноз не называют,— произнесла она.— Но мы живем в век всеобщей грамотности, и обозначение ЦР знают почти. Зачем мучиться самому и мучить других? От рака еще никто не спасся...
- После консультации Юна позвонила Рождевенской и сообщила, что, возможно, ей будут делать операцию и просили приехать кого-нибудь из оодственников. Но это решится после результатов биопсии, дня через два...
- — У меня никого, кроме вас, нет,— едва ворочая языком, говорила Юна Евгении Петровне.
- — Девочка, родная,— услышала она в ответ ласковый голос Рождественской.— Не думай ни о чем плохом. Мы с дядей Володей — твои родственники.
- О Корнееве она не сказала ни слова — он для Евгении Петровны вообще не существовал.
- После разговора с Рождественской Юна обманом заставила молоденькую сестру посмотреть запись профессора в истории болезни. Там она увидела слова: «Болезненный отек справа».
- «Отек — это та же опухоль»,— пронеслось в голове у Юны. И вдруг она почувствовала, что очень хочет жить. Что мужество, которым еще недавно бравировала, куда-то уходит. Она поняла, что ничего лучше жизни нет и что за нее надо бороться не меньше, чем за любовь.
- — Ребкова,— позвала Юну нянечка.— К тебе пришли. Спустись вниз...
- В холле для посетителей стояли тетя Женя и... Серафим. От неожиданности Юна чуть не ахнула. За недолгий промежуток времени, что прошел после разговора с Юной, Рождественская нашла Серафима. Она боялась, что будет волноваться и не сможет обстоятельно поговорить с врачом.
- «Здесь необходим мужчина,— решила она.— мужчина серьезный и весомый,— а «весомее», чем Серафим, у нее знакомых не было. То, что Сефим женат, при таких обстоятельствах значения не имело. Важно другое — чтобы врачи знали — судьбой «девочки» обеспокоен известный журналист и писатель...
- Серафим, услышав от Рождественской о болезни Юны, сразу сказал:
- — Ждите меня. Сейчас выезжаю. Что ей можно привезти?
- И вот он стоит в холле больницы перед Юной и говорит что-то веселое, стараясь отвлечь ее от нерадостных мыслей:
- — А я, по правде сказать, думал, что выйдет ко мне дряхлая старуха. Ты же все такая же! Ну куда это годится, чтобы мой адъютант мог позволить себе такую недисциплинированность — заболеть. Юнчик, а ты же вообще — молодец! Встречаю твою фамилию в печати. Значит, мои уроки не прошли даром? Да ты не волнуйся. Все, что нужно,— сделаю. Ты же знаешь. Не могу же я в самом деле допустить, чтобы мой верный адъютант выбыл из строя. И лекарства достану. Ты только не волнуйся.
- Серафим взял Юну за руку и нежно пожал ее, а затем ласково провел пальцами по волосам... И Юна почувствовала его уверенность в том, что все будет хорошо, и эта уверенность передалась ей. Она прильнула головой к плечу Серафима. И вдруг увидела Корнеева! Сначала она замерла от неожиданности, потом отпрянула от Серафима!
- — Это тебе,— тихо произнес Корнеев, вытаскивая из сумки бутылки с соками, фрукты и бросая ей на колени.— А это Виктор Васильевич шлет. Его мадам тебе специально готовила,— и Саша вслед за фруктами вытащил банку с какой-то настойкой.— Я думал, что действительно у тебя все очень неважнецки. Оказывается, тут идиллия! — уже громко продолжал он.— Мне просто здесь делать нечего! А ты, Тапирчик, решил вернуться к старому?! — он повернулся и рошел к выходу
- Юна хотела броситься за ним, остановить, объяснить. Но осталась сидеть, словно пригвожденная к стулу, не смея пошевельнуться.
- — Ладно, Юнчик, поправляйся. Я пошел,— Серафим поднялся.— Но ты не волнуйся. Все, что будет зависеть от меня, я сделаю,— повторил он.— Главное, что мы с тобой из одного двора, из одного детства.
- — Как чувствовала, что «этот» все испортит! — воскликнула Рождественская, когда ушел Серафим. — Такое несчастье, а он фортели выкидывает, амбицию свою показывает.
- Когда ушла и Рождественская, Юна все сидела на подоконнике и отрешенно смотрела на проходивших мимо посетителей.
- «Может, я и правда дура, что упустила Симу,— думала она.— Нет! Люблю-то я Корнеева! Даже готова сейчас позвонить Наде и попросить, чтобы он ко мне пришел снова...»
- Тут она подумала о Фросе, пытаясь сравнить свою любовь к Корнееву и любовь мамы к Василию. Мамина любовь давала ей силы, а Юна в своей любви к Корнееву только теряла — и силы, и веру в хорошее, чистое.
- Через два дня новое событие потрясло душу Юны. Она выкрала свою «историю болезни» и узнала результаты биопсии. На маленьком синеньком клочке бумаги, вклеенном в «историю», было написано: «злокачественных клеток не обнаружено». Однако врачи сходились во мнении, что без операции ей не обойтись и что, скорее всего, операцию придется провести в два этапа.
- Сима оказался на высоте. Он поговорил с проссором, достал нужные лекарства, в которых могла возникнуть необходимость после операции. Лекарства он передал через Рождественскую, а сам уже больнице не появлялся.
- Корнеев же приехал тогда, когда Юна уже знала результаты биопсии и все в ней ликовало. Она не стала выговаривать ему за недавнюю выходку. Радовалась уверенности, что победит болезнь. И решила: по выходе из больницы поставит свой условия Саше. Теперь же ей не хотелось портить настроение ни себе, ни ему. Тем более что Корнеев покаялся в своем неприличном поведении и даже позвонил Серафиму и поблагодарил того за участие в «судьбе Тапира».
- Саша был ласков, внимателен, терпелив. Казалось, он готов исполнять самые несуразные ее желания и даже ему доставляет удовольствие ухаживать за больной Юной.
- Теперь мысли Юны занимали не столько предстоящие операции, сколько дальнейшая жизнь после них. Юна никак не могла представить, что ее ждет дальше. Возникали какие-то неясные видения, но... внезапно они обрывались и исчезали. И Юна опять чувствовала себя беспомощной. Неожиданно для себя она поняла, что эту новую жизнь ей, вероятно, предстоит просто придумать.
- Юна расхаживала по коридору, бездумно выглядывала в окна и видела: то привезли простыни на каталке, то разгружали «рафик» с продуктами. Однажды она ощутила на себе чей-то внимательный взгляд. Юна обернулась. Через открытую дверь палаты из дальнего угла незнакомая женщина подзывала жестом ее к себе.
- Юна зашла в палату:
- — Вам плохо? Позвать сестру?
- — Посидите со мной. (Юна села на стул рядом с кроватью.) Операция? Я несколько дней вижу, как вы меряете коридор. Страшно?
- Юна пожала плечами.
- — Даже не знаю, страшно или нет. Знаю, что надо. От нее зависит вся дальнейшая жизнь,— Юна посмотрела на женщину и отчетливо поняла, что женщина не жилец на этом свете. Также поняла неожиданно, что предстоящий разговор будет похож на исповедь. Только кто перед кем будет исповедоваться? Юна ощутила — несмотря на то, что она видит женщину впервые,— та готова к исповеди.
- — Меня зовут Светлана. Сегодня, восьмого апреля тысяча девятьсот семьдесят второго года, мне исполнилось тридцать семь лет. Да, да, тридцать семь, а не пятьдесят.
- — Ну что вы — почему пятьдесят! Мы почти ровесницы.
- — Ровесницы? Сколько же вам?
- — Меня зовут Юна. Мне тридцать два года.
- Женщина вздохнула.
- — Ровесницы. Пусть будет так. Тогда, может быть, будем на «ты». Ты никуда не спешишь? Идти никуда не надо? Посиди со мной,— еще раз попросила Светлана. Замолчав, она утомленно прикрыла глаза, затем широко раскрыла и вдруг произнесла: — Ты знаешь, последнее время я очень много раздумываю о добре и зле. Обо всем, что связано с этим. Я твердо уверена, что в совершении добра таится чудо. И когда это чудо ты делаешь своими руками, то есть своим существом, то нет большего ощущения счастья. Значит, если совершаешь добро — это и есть счастье! Но почему твое добро другими не воспринимается как чудо, как что-то сверхъестественное? И почему человеку, желающему делать добро, так необходимо признание этого добра потом, то есть благодарность другого?
-
- Когда я была ребенком — принимала все на веру Например, действия и слова взрослых людей казались мне непогрешимыми, порядок, установленный у нас в доме, казался мне самой лучшей формой жизни, самой правильной! Детский максимализм во мне по сей день сохранился. Из-за него, вероятно, и не состоялась моя судьба. Ведь обычно в каждом возрасте трансформируются человеческие понятия, они меняются, и человек как бы притирается к тому или иному времени или к тому или иному событию.
- Светлана на мгновение умолкла. Лицо ее было сосредоточенно, она о чем-то, видно, напряженно думала, а затем вновь заговорила:
- — А мой максимализм, особенно требовательность к верности и дружбе, довел меня до одиночества! Да, Юночка, я одинока. Одна на всем белом свете. А все потому, что коварное слово «навсегда» — любить, дружить, верить — прочно засело в моем мозгу еще в детстве. Вот я и стала требовать от своих друзей — как мужчин, так и женщин — постоянства. Верности навсегда! Но любое постоянство несет в себе и застой! Даже гибель! Я не могла совместить все это...
- ...Моя мать всю жизнь любила моего отца, который так и не стал ей мужем. Правда, мне всегда почему-то казалось, что любит она его не как живого человека, а придуманного любит, свою иллюзию любит.
- Может быть, грех так думать, но, по-моему, главным для нее в жизни был лишь он. А я — постольку, поскольку напоминала эту иллюзию. Я даже не могу понять, любила ли она меня. Но и мне все-таки любви досталось. Меня любила бабушка. Может быть, оттого — опять же мои предположения,— что чем-то я ей напоминала ее любимого мужа, умершего очень давно и вдруг каким-то образом вернувшегося в моем существе. Бабушка ощутила новый прилив любви и отдала всю себя, без остатка мне, забыв, что у нее есть дети!
- Немного отвлекусь на другое. Однажды я прочитала об открытии американских ученых-медиков в области генетики рака. Они утверждали, что некоторые разновидности этой болезни передаются по наследству, то есть генетически уже запрограммированы — закодированы в определенных хромосомах. Поэтому, считают они, научившись выделять эти хромосомы, можно предупреждать профилактическим путем заболевание раком у людей, к нему предрасположенных.
- И еще у меня возникает мысль: не является ли рак и психическим заболеванием? Почему в наше время процент людей, пораженных психическими и раковыми заболеваниями, превышает процент людей, пораженных этими же заболеваниями в предыдущие столетия? Ведь о раке знали чуть ли не в первом веке нашей эры. И в литературе древних государств есть упоминания о существовании этой болезни.
- И еще есть у меня мысли, связанные с генетикой. Наверное, существует код любви, верности в специальном гене. Во всяком случае, в нашей семье, может быть, уже поколений пять он определяет судьбы моих предков. Не только моя мать была предана своему Вячеславу, но и мои дядья были верны и преданны своим женам. Другие женщины для них не существовали. Моя мать была человеком, ничего не достигшим в жизни. Не было у нее определенного материального достатка. Наверное, она жила эмоциями и своей добротой. Отчего же Вячеслав так и не женился на ней? Сейчас можно только догадываться. Вероятно, нечто в мире остается постоянным — слава, деньги, власть. Моя мать не была такой личностью для него, которая могла бы его удержать около себя.
- В конце концов, примерно то же случилось и со мной. В пятнадцать лет я стала сиротой и, когда встретилась с одним человеком... ну, назовем его условно Алексей... то была нищей, несколько раз ограбленной. К тому времени — нашей встречи — Алексей в жизни еще ничего не достиг. Я показалась ему личностью, и он за меня ухватился. Но быстро разобрался в том, что я ничего собой не представляю. А я-то уже успела повязать себя закодированной по наследству верностью и преданностью! И попала в болото «гена любви», выбраться из которого не было никаких сил. Я погружалась в него все глубже и глубже, совершая поступки все более невероятные! Я жаждала благодарности, ответного «сигнала» верности и преданности, не понимая, что у Алексея совсем другой генетический код. И так получилось, что я, человек, не сделавший никогда никому плохого, живший легко, как порхающая бабочка, не обращавший внимания на трудности, представляешь, это я-то, я каким-то косвенным путем подвела его к самоуничтожению.
- Вот тогда все сильнее меня стала угнетать мысль: так ли я поступаю, делая добро? Нужно ли оно другим, коли ты ждешь, ищешь за него благодарности? Добро-то твое тогда оборачивается злом! Может быть, надо поступать наоборот? Не делать добра? И так получилось, что вскоре я действительно перестала интересоваться окружающими людьми, их делами и нуждами. Едешь в метро, делаешь вид, что спишь, только бы не уступить место пожилому человеку. Обращаются к тебе с просьбой, ты отвечаешь, что исполнить ее не имеешь никакой возможности, хотя на самом деле это тебе не стоит особого труда. Люди-то тебя помнят как отзывчивого, доброго челоека и не перестают к тебе обращаться... Инерция памяти... Юна, тебе не скучно? Нет? Ну ладно...
- И вот пришло время — и уже ничего не осталось от твоей доброты. В душе — сплошное равнодушие и лень. Впрочем, глядишь, и зло нет-нет выбирается наружу. Потихоньку-полегоньку оно готовит себе почву для захвата твоей души. Начинает действовать вроде незаметно, опираясь, пожалуй, больше всего на зависть.
- «В какой степени,— пробивается внутренний голос,— с тобой считаются там-то и там-то? А ты смог бы добиться того-то и того-то?» Сначала гонишь этот вкрадчивый голос, но он все больше и больше пролезает в душу. И вот уже зависть овладевает сердцем. И не знаешь, что искать в жизни — и нужно ли? Счастья? Истины? Обернулся — а жизнь почти прошла. Страшно ли тебе? Когда молод, то мысль о смерти редко посещает наши головы. Если она и возникает, то, как правило, в связи с потерей каких-то близких людей и знакомых. Самому же она кажется далекой. До нее чуть ли не целые века.
- А сейчас я все чаще задумываюсь о смерти. Поняла главное: человек должен сам себя подготовить к неизбежному исходу. Тогда будет не так страшно. Его психика должна перейти рубеж своей «вечности», понять это явление как необходимость.
- Ведь человек боится смерти, скорее всего, потому, что он не всегда успевает попользоваться всем тем, что ему было отпущего природой. И я пришла к выводу, что смерти не надо бояться, но надо всегда помнить о ней! Чтобы каждый день казался тебе подарком судьбы и думалось, что ты еще какое-то время можешь дышать воздухом, видеть солнце, слышать чириканье птиц. И это хорошо! И еще мне кажется, то приход смерти легче для тех, кто не завидовал, не подличал, не грабил, не убивал, не унижал.. Я не боюсь смерти, но умирать не хочу! Не хочу мучиться...
- Светлана замолчала, плотно прикрыла веки. Но из-под них слезы все-таки нашли выход, быстрыми ручейками заспешили по бледным, впалым щекам.
- Юна поняла, что настало время уйти, сейчас же немедленно. Она встала, порывисто наклонилась и поцеловала худую, невесомую руку Светланы.
- А на другой день Светлана умерла. Юна не находила себе места. В ней еще звучал тихий исповедальный голос Светланы. Когда появился Корнеев, Юна, желая уйти от тягостных воспоминаний, пересказала ему исповедь Светланы.
- — Она — баба какая-то ущербная. О добре и зле размышляла по-дилетантски. Мало ей болезни было, так еще какой-то любовный генетический код выдумала! Я лично своим психоанализом обойдусь. Так что, Тапирюшка, эти рассуждения могут только тебе служить пособием в жизни...
-
- В скором времени Юне сделали первую операцию. Через полгода предстояла вторая. Но Юну это не беспокоило: она знала, что после всех этих испытаний наступит выздоровление. А после всех переживаний она, наконец, будет с Корнеевым постоянно.
- Корнеев привез Юну из больницы в середине лета и с этого момента безотлучно находился с ней больше двух месяцев. Она успокоилась, понимая, что ставить сейчас какие-то ему условия просто нелепо. Даже Рождественская в последнее время стала называть Сашу по имени и отчеству...
- Но в середине сентября Корнеев опять исчез — правда, всего на три дня. Больше терпеть его «отлучки» Юна не захотела и потребовала: либо рви с Надей, либо уходи от меня.
- Саша выбрал последнее. Он ушел от Юны. Ей было очень тяжко, она уже корила себя за горячность, решив выдержать характер, не позвонила ему ни завтра, ни послезавтра.
- Томление и тревога не отступали от нее. Закончилась третья неделя их разлуки, самой длительной за все пять лет связи. Она написала ему письмо, но оно так и осталось неотправленным. На пороге ее квартиры встал Иван...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





