ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
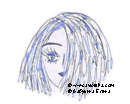
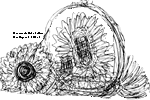
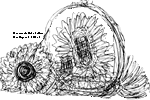
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кожевникова Надежда
Ученик восьмого класса Володя Рябинкин уже привык, что незнакомые взрослые обращаются к нему на «вы». В двенадцать, когда его рост достиг ста восьмидесяти восьми сантиметров, его это вдруг перестало интересовать: в отличие от многих своих сверстников, школьной формы он не тяготился и являлся на уроки со стареньким, видавшим виды портфелем, тогда как большинство в классе обзавелись модными спортивными сумками.
«Возможно, это мой предельный рост,— говорил он в ответ на удивленно-восхищенно-завистливые взгляды. — Кажется, я уже притормозился».
На Новый год он получил в подарок от мамы электрическую бритву «Харьков». Голос его перестал срываться то вверх, то вниз и выровнялся в баритональном регистре.
Серыми продолговатыми глазами и тонким носом с горбинкой он походил на мать, а рот и подбородок у него были отцовские. С новым маминым мужем у него, естественно, не было общих черт, тем не менее отношения между ними сложились вполне дружеские. Впрочем, к новой папиной жене он тоже относился вполне благожелательно.
Чтобы никого не обидеть и во избежание путаницы, Володя всех называл по именам: маму — Мариной, папу — Игорем, маминого мужа — Колей, а папину жену — Валентиной.
Мама родила Володю рано, в девятнадцать лет, а в тридцать два у нее родился Антошка. Володя слышал, как мама говорила своим приятельницам, что только в зрелом возрасте можно по-настоящему оценить материнство и что не надо было бы ей Володьку спешить рожать: все его воспитание свелось к тому, что она постоянно выискивала, куда бы, кому бы его подбросить.
Какая мама была в девятнадцать, Володя, разумеется, не помнил, но и в тридцать она казалась молодой; правда, появились морщинки, но выражение лица, но голос — совсем девчоночий, и, когда она шла с Володей рядом, многие думали: брат и сестра.
Володя не смог бы сказать, в какой момент он вдруг увидел маму по-новому: не такой, чья власть безгранична и которую нельзя ослушаться, а той, кого можно легко обидеть, случайно причинить боль.
Мамин голос, очень высокий и звонкий, однажды показался чересчур оживленным: в тридцать лет все же следовало бы вести себя сдержаннее.
Мама чего-то не понимала: что, наверно, не надо бы было называть мужа всегда, и при посторонних тоже, Колькой и, выражая радость, шлепать его по плечу, а рассердившись, швырять на пол тарелку — хотя и не сервизную, простенькую.
Мама по натуре была очень общительной, а Коля, напротив, домоседом: он любил сидеть вечерами в кресле-качалке перед телевизором, но на экран не глядел. Когда мама его будила, он улыбался смущенно, но Володя замечал не раз, что под улыбкой — скрытое недовольство.
Когда мама вышла за Колю замуж, она перестала носить каблуки, но часто, глядя на мужа, как бы удивленно восклицала: «Смотри-ка, а Володька выше тебя на полторы головы...»
Володин папа был рослый и веселый, общительный, как мама. Но вот ведь не ужились... Во-лоде, когда они расстались, исполнилось четыре года.
Зато с Колей мама жила счастливо. Когдя Володя отправлялся к бабушке — со стороны папы, мама, с ревнивой требовательностью глядя ему в глаза, говорила: «Что бы там тебе ни плели, имей в виду — я счастлива, счастлива! У нас прекрасная семья. Коля — настоящий человек. Так что пусть там не беспокоятся».
У бабушки Володю вкусно, сытно кормили. Он ел и старался не замечать кристально сочувствующих глаз. Неужели непонятно, что у него сейчас период интенсивного роста — поэтому он и ест с такой жадностью, а вовсе не оттого, что мама впроголодь его держит, что, мол, ей недосуг.
Уж что-что, а мама — прекрасная хозяйка. А ведь с рождением Антошки ей приходится тяжело: на будущий год пойдет мальчик в сад, тогда легче будет, а пока мама как белка крутится, хотя в школе ей в неделю оставили только семь часов.
— А почему ты вчера вечером не смог прийти? — спрашивала как ни в чем не бывало бабушка.
Володя, понимая прекрасно, что вопрос задан неспроста, отвечал спокойно, сдержанно:
— Вчера я остался с Антошкой.
— Скоро совсем в няньки заделаешься. А уроки, учиться когда?
— У меня пока что одна тройка — по физике. А мама в кой-то веки из дома выбралась...
— А на прошлой неделе?
— На прошлой неделе я сам вызвался с Антошкой посидеть. Мне нравится с ним играть, он такой смешной...
Бабушка молча, печально на него глядела, а у Володи, как обычно, когда он замечал поражение взрослых, начинало щемить в груди: ему противно делалось от собственной правильности, от своих разумных, благородных слов.
Но ведь он не врал: он в самом деле с удовольствием возился с младшим братишкой и, если мама просила с Антошкой посидеть, не отказывался — не столько потому, что был примерным сыном, сколько оттого, что не видел в этом никаких особенных со своей стороны жертв.
Но когда пытался объяснить это бабушке, получалось все лживо, и бабушка сочувственно глядела на него. Он понимал бабушку — она переживала мамин и папин разлад и винила во всем невестку. Он понимал папу — с каким ревнивым вниманием он выслушивал все, что касалось нынешнего Володиного житья-бытья. Он понимал маму — ей хотелось доказать, что она достойна любви, счастья и что у нее это наконец получилось — да! Он понимал даже младшего своего братишку: младенцы, что бы там ни говорили, сознают свою беспомощность, и им это обидно — во всем зависеть от всех. Володя с Антошкой возился, играл с ним как равный — ни мама, никто вообще не умел так.
Все он понимал, только когда пытался выразить свои мысли, чувства словами, выходило не то, не так. Он усвоил выражения взрослых, но, когда ими пользовался, получалось как на маскараде — не по росту, чужой, нелепый костюм.
Он сам однажды это обнаружил, и казаться старше своих лет вдруг перестало быть интересным. Зато играть на ковре с Антошкой действительно было радостно: пожалуй, именно в эти минуты он становился сам собой.
Раньше он всегда стремился к обществу взрослых, с жадностью вслушивался, что они говорили, о чем. В последнее время, сам не зная почему, стал опасаться услышать, узнать то, что для него не предназначалось. Бывало, ему уши хотелось заткнуть — мама была такой доверчивой, такой беспечной: говоря по телефону, она не закрывала в комнату дверь — ее высокий голос, ее смех звенели по всей квартире.
Ему казалось, что любая новость, любая перемена грозит опасностью. А лицо его теперь выражало как бы дремотность, сонливость: он в самом деле постоянно хотел спать. «Это весна,— говорила мама.— Авитаминоз. Вполне естественно...»
Он выходил с Антошкой гулять. Братишка еще говорить не научился, и Володя не ощущал в разговоре никакой потребности. Они шли держась за руки молча — и молчание их было серьезным, наполненным, без какого-либо следа скуки или неловкости, как это случается у взрослых.
Володя не делал вида, он действительно чувствовал себя с братишкой на равных: ему нравилось лепить снежную бабу, нравилось бросать крошки хлеба воробьям — он целиком на этом сосредоточивался, и ничто его не отвлекало.
Хотя все же что-то в нем уже расщепилось: он наблюдал за собой, видел себя со стороны и сам себя оценивал.
По бульвару шли двое: ясельный возраст одного угадывался сразу, другой, в меховой шапке, в пальто, перешитом из тулупа, мог показаться уже взрослым — мог показаться даже молодым отцом. Володя забавлялся такими мыслями. Представить: он — отец, Антошка — его сынишка. Но тут он отвлекался, потому как Антошка норовил ступить в лужу, а в валенках без калош простуда была бы ему обеспечена. Володя сурово отчитывал младшего брата — ведь он нес за него ответственность. Ответственность — пожалуй, это теперь было для него наиболее ясное чувство.
Но можно ли было бы сказать, что, именно осознав ответственность, он почувствовал себя взрослее? Ну, не совсем. И даже скорее напротив...
Никогда раньше Володя не цеплялся так за сыновние свои обязанности: безропотно отправлялся в магазин за продуктами, или в химчистку, или в прачечную. Он выказывал невиданное послушание, и взрослые дивились на него. «Как же тебе повезло! — восклицали подруги мамы.— Ведь обычно в их возрасте ничего не допросишься. Как с цепи срываются. А тут...» Мама гордо, но в то же время с заметным недоумением отвечала: «А вот говорят, воспитание, воспитание... Пожалуйста, никто не воспитывал — сам вырос, можно сказать...»
А Володе просто было страшно: в булочной, в очередях он чувствовал себя куда уверенней, безопасней, чем в родном доме, где не спрячешься, где повсюду звенел высокий голос мамы.
Однажды он услышал ее разговор с подругой. Та сказала: «Пойми наконец, это главная твоя ценность — дети. И может быть, единственная». — «Единственная?» — переспросила мама. И по тону ее легко было догадаться, что она не готова, не хочет поверить — мол, только дети, и все.
Володя носил сорок третий размер обуви, тогда как муж мамы Коля — тридцать девятый. Когда они шли всей семьей по улице, Володя был самым большим и будто бы самым главным — он усмехался этой мысли про себя. А мама все время путалась: то обращалась с Володей как с маленьким, то вдруг как со взрослым, будто не помнила, сколько ему на самом деле лет.
И сам Володя тоже иной раз не помнил: то в голове все у него было ясно, просто, а то вдруг все перепутывалось.
Он знал, что некоторые его друзья-приятели неустанно и даже, можно сказать, с азартом высматривают недостатки в собственных родителях, вероятно рассчитывая, что, опровергнув авторитеты, добьются вольности, свободы — не подчиняемся, мол, никому. Володя не разделял подобные устремления. Ему хотелось порядка. Он ставил в передней свои ботинки очень ровно, пятка к пятке, носок к носку, но ему хотелось, чтобы порядок распространялся и дальше, вглубь — вовнутрь их семьи, на их взаимоотношения. И он бы не стал доискиваться до скрытых пружин, не стал бы ломать себе голову, разгадывая тайные чьи-то побуждения,— пусть бы все было просто, ясно, по правилам, к которым с детства приучали его.
Приучали — зачем? Зачем мама из всесильной, всезнающей превратилась в ту, что постоянно нуждается в снисхождении? Ей некогда, она спешит, она постоянно опаздывает — глядит на сына рассеянным взглядом и, кажется, не видит его. «Володя, за хлебом сбегаешь?» (Он в это время сидит делает уроки.) Но встает. Потому что уж очень неуверенный тон у мамы, точно она сама не знает, можно ли, нужно ли его о чем-то просить. И выражение лица расстроенное. Володе не нужно гадать, он и так знает: мама с Колей поссорились. Что ж, он встает...
Какой смысл подсматривать, подглядывать, изучать недостатки родителей, когда они так очевидны, можно сказать, на поверхности? Ведь сами родители ничего не скрывают, не хотят, не умеют скрывать — и их жалко...
Но это не та жалость, что испытываешь, когда, к примеру, Антошка упадет, расшибется, заплачет, — жалость, от которой теплеет в груди. Нет, тут будто внутри у тебя что-то защемило и ноет, и саднит, и очень нехорошо, тошно. Жалеешь... Но при этом почему-то обидно за себя. Не хочешь их винить, и все же протест какой-то: ну что это, зачем? Странное, вообще, ощущение: любишь, но как бы слабеешь от этой любви. Все про каждого понимаешь, а вместе выходит, будто разламывает тебя на куски. Все вместе родные и все по отдельности. И ты один...
Самая любимая, наверно, — конечно! — мама. У нее челка густая, а глаза всегда либо удивленно-испуганные, либо радостные удивленно. И она все говорит, говорит... Потом вдруг: «А ты чего молчишь, Володька?» Улыбнешься — что отвечать-то! А она подозрительно: «Трудно с тобой. Все что-то скрываешь...»
А что скрывать-то? Придешь из школы, ботинки снимешь, поставишь в передней под вешалкой, ровненько, пятка к пятке, носок к носку, войдешь в комнату, взглянешь: все ясно. У них лица такие — все написано. Уйдешь к себе, дверь прикроешь. Но ведь мамин голос...
— Он две ночи не ночевал! — кричит она в телефон подруге. — Подробней? Подробней не могу, дети рядом. Подлец! Думает, если на мне два пацана, так я уже никуда не денусь. Посмотрим! Да господи, все такие... И бабы тоже, знаешь, хороши! Нет, это только при личной встрече. Сейчас не могу. Но ты понимаешь... Если бы не дети, я бы ему показала! Но ведь я прежде всего мать...
Володя подходит к братишке и заводит волчок: его гудение все же как-то заглушает мамин голос. Братишка смеется. Володя ещё раз с силой выжимает красную металлическую ручку, вниз — вверх, вниз — вверх... Поднимает голову — мама стоит рядом.
— А что, если в кафе-мороженое нам смотаться, а? Что-то ужасно захотелось...
Володя — кому-то же надо проявить рассудительность — спрашивает:
— А Антошке можно?
— А мы ему сок дадим. Сок можно.
...В кафе холодно, они сидят за столиком в пальто. Антошка таращится во все стороны, Володя ковыряет ложечкой пломбир.
— Ну вот,— произносит с раздражением мама. — В кои-то веки хочешь устроить праздник, так куда там! Ни тебе поддержки, ни благодарности. Прекрасное было настроение, так испортили вконец!
Володя недоуменно поднимает глаза: хорошее настроение? Когда? Когда она по телефону говорила?
Он облизывает ложечку. Он занят одним: изо всех сил старается отвлечься от мысли, которая так и лезет в голову,— мама лжет. Настроение ей никто не портил. Ей не праздник был нужен, а только чтобы чем-нибудь заняться, спастись от своих обид.
Володя, сгорая от неловкости, продолжает улыбаться. Ему кажется, что его губы прилипли к деснам, а челюсть будто вставная. Он думает: какая же отвратительная у него, должно быть, улыбка.
Мама вздыхает: «Родные вы мои детишки. Вот только вы у меня и есть».
Расплачивается с официанткой, встает, идет между столиками, скашивает глаза в зеркало, подходит ближе и озабоченно пудрит нос.
...Учится Володя в общем прилично. И ему очень приятно, что на родительские собрания в школу приходит папа. Папа красивый, слегка уже седой, темноглазый. Он подъезжает к школе на своих «Жигулях». Почему-то так получилось, что, когда они с мамой разошлись, папа и пошел в гору. Коля, мамин муж, к успехам папы относится спокойно. Мама — нет. Она уверяет, что дело не в папиных способностях, а в связях. Коля обрывает ее: «Перестань. Работящий мужик. И — везучий». Тогда мама обращает внимание уже на Колино, отнюдь не самое блестящее положение. Он отвечает ей в тон: «Да просто связи не те...»
Володе нравится идти по школьным коридорам рядом с папой. Тогда все преображается: привычное, будничное, надоевшее кажется праздничным. Весело, гулко, веско разносятся по пустому зданию школы их шаги: родительские собрания проходят по окончании уроков. Папа —их классная беседует с ним отдельно — очень серьезно, со вниманием расспрашивает об успеваемости сына. Володя стоит в стороне. Ему не надо вслушиваться, он все читает по лицам. Выражения лиц взрослых очень откровенны: считается, что это дети не умеют притворяться,—взрослые, может, и умеют, но то ли забывают, то ли думают, что им дозволено все.
Папа и классная смеются. Володя без труда угадывает, что этот их смех уже к нему не имеет отношения. Он слишком привык к классной, чтобы замечать ее молодость и привлекательность, но сейчас понимает: классная хорошенькая и молодая, папа тоже еще молод и хорош.
Это — ничего. Тут ничего нет особенного. Просто в обычае взрослых — вдруг отвлекаться от важного, нужного на пустяки. Володя ждет. Папа оборачивается, и в выражении его глаз мелькает что-то виноватое — Володя отмечает, но не позволяет себе на этом сосредоточиваться.
Получается, он постоянно одним занят: не углубляться, не обострять. Папа подходит, кладет на плечо сына руку, и Володя сжимает губы, чтобы не заскулить — восторженно, по-щенячьи, согреваясь до самого сердца теплом этой руки.
Они одеваются в школьной раздевалке и идут домой к папе. Папа принимает сына по-холостяцки, потому что жена его Валентина, как обычно, в командировке. Но папа уже, видно, привык обходиться один: Володе смешно наблюдать, как он хозяйничает, обвязавшись пестрым в оборочках фартуком. Валентина, с висящей на стене увеличенной, с размер плаката, фотографии, строго за ними следит.
Валентина умная, самостоятельная, доктор наук. К Володе она хорошо относится, но он рад бы, да не может не заметить, что улыбается она ему часто через силу. Мама так определила ситуацию: «Когда у женщины нет детей, существование ее не может быть полноценно!» Володя — опять же помимо воли — догадывается: ну не совсем так...
Валентина очень любит папу. Так любит, что старается сдерживаться, старается поглубже укрыть свою любовь. Ей это удается, и посторонние видят в ней одну строгость, одну властность и говорят, что папа у нее под каблуком. А она любит в папе не только то, что в нем сейчас есть, но и то, что может появиться, что когда-нибудь раскроется. Она папу воспитывает, она вообще из тех, кто все старается довести до высшего уровня, упрямо, увлеченно, пусть даже на это уйдет жизнь. И у нее очень зоркий глаз: она и Володю насквозь видит. И тоже, верно, хотела бы до уровня его довести, но только прав у нее тут нет, нет возможности, — она не то что злится, она сама себе не нравится, что по отношению к Володе бессильна, беспомощна.
Кое-какие она, правда, попытки делала. В консерваторию Володю с собой брала на концерты; а там вроде никакого на него внимания не обращала, но, когда он переставал слушать и начинал разглядывать портреты великих композиторов, люстру, потолок, вдруг чувствовал на себе ее взгляд, очень строгий, осуждающий.
«Наверно, — размышлял Володя,— Валентина была бы хорошая мать...» Но дальше запрещал себе думать.
...Стыдно признаться, но в последнее время Володя почему-то начал ужасно уставать, буквально с ног к концу дня валиться. И даже не физически... У него голова гудела, мысли, как лягушки из пруда, выскакивали, а он все боялся, что чересчур далеко они запрыгнут, чересчур...
Вот и теперь: они сидели с папой на кухне, Володя притиснул с силой, до боли, к краю стола колени, рукой вцепился в табуретку — крепился, чтобы только папа не догадался, что он понимает больше, чем ему следует понимать.
Папа задавал вопросы, но что отвечал Володя, не очень слушал, потому что в самих его вопросах уже был ответ.
— Как Коля, когда собирается защищаться? — И без паузы: — В их институте работенка — не бей лежачего, только и дел что свой личный уровень повышать, уж академиком стать можно было... Хороший парень, бездельник только. Они все, хорошие парни,— бездельники.
Володя слушал. Папа заваривал чай. Володя следил за ним во все глаза, чтобы только не думать.
— Ну конечно, время свободное есть. В кино можно сходить, в гости — общение, общение, ведь как без него жить? И какая может быть любовь, когда за завтраком только и видишься? А кто о своей работе думает, тот эгоист. В раю зато хорошо было: там Адам и Ева всегда вместе... Только Еве тряпок модных не нужно было, и Адаму никаких забот... Да, кстати, мама говорила, шапка тебе зимняя нужна. Померь мою, чтобы я размер знал...
Володя вышел в переднюю, надел шапку и вернулся к папе, не взглянув в зеркало.
Конечно, это его, Володин папа, но почему-то в папиной шапке ему нехорошо, будто чужое он взял и будто все время он просит чего-то, просит... Он знает, папе нравится делать подарки, но что-то Володе мешает, как раньше, как в детстве, их принимать. Он старается не вникать в причины, но новую подаренную папой куртку не любит надевать. Почему — сам не знает. Куртка красивая, нарядная — а вот Коля и зимой, и весной, и осенью шестой год носит одно пальто.
Папа Володю никогда не ругает, они ведь вообще редко видятся. Папа — праздник. И для него Володя тоже праздник. А будни — это Коля. Он тоже Володю не ругает, хотя они живут вместе, все время друг у друга на глазах.
Коля в Володино воспитание не вмешивается. И Володя в их отношения с мамой тоже, конечно, не лезет. Но, бывает, только обменяются они взглядом, Володя с Колей, и оба все поняли.
Странно, но вот с Колей Володя радуется своей догадливости. Потому что, наверно, то, что он без слов понимает, ясно, просто, без подвохов каких бы то ни было. Володя и не боится. Коля как бы поддерживает его взглядом: мол, что тут такого, гляди...
А другие взрослые точно проговариваются и будто хотят заслонить от него что-то темное, мутное — и вдруг отступают, и он это видит, и страшно, потому что нельзя же было смотреть...
Папа, конечно, не хочет, чтобы Володя узнал, что он на самом деле думает о Коле, о маме. Считает, разумеется, недопустимым сына в такое посвящать. Он будто прижимает ладони к глазам Володи, ведет его куда-то, но вдруг пальцы расходятся — Володя видит, хочет зажмуриться, но поздно...
Папа спрашивает: «А на кого похож Антошка?» Володя хочет ответить: «На меня», но спохватывается, потому что понимает, что папе будет это неприятно. Не головой понимает, а как бы инстинктом, кожей чувствует. Взрослые очень ревнивы. Хотя что может вызвать их ревность, иной раз трудно предугадать.
«Взрослые больше дети, чем мы — дети»,— сказал однажды Володя маме, и мама расхохоталась. А он уже испугался, что она обидится. Но сказал, потому что для него это было открытие, и оно его переполняло. Очень многое вместилось для него в эту фразу: его недоумение перед странностью поступков взрослых, и его к ним жалость, и страх его перед неожиданностями, которые в любой момент они могут ему преподнести, зависимость его от них и их собственная зависимость, неумение их разобраться в том, что даже дети видят ясным, простым.
Но когда он произнес эту фразу, ему было двенадцать. В четырнадцать он уже не мог бы сказать: «мы —дети». Но и «мы — взрослые» тоже не мог. И страшно делалось оттого, что, казалось, еще год пройдет и он только больше запутается. Получалось, будто его тащат вперед как на аркане, а он изо всех сил упирается, пятится назад...
Учреждение, где работала Валентина, находилось в центре города. Небольшой особняк, со всех сторон заставленный автомобилями. Тяжелая парадная дверь с трудом открывалась и выпускала людей пачками. Володя глядел на эту дверь, ждал.
Валентина вышла одна. Она и должна была так выйти, без спутников. Руки засунуты в карманы пальто, воротник поднят, выражение лица хмурое. Володе сразу понравилось, как она хмурится: погода паршивая, она устала — улыбаться с чего? Он подошел. Она сказала: «Привет». И зашагали рядом. «Тут на троллейбусе три остановки,— она спросила,— а может, пешком?» Он кивнул. Тогда она улыбнулась.
Она была старше мамы, ей было уже сорок два. Шла с непокрытой головой, негустые волосы вскоре намокли от дождя и слиплись. Нос заострился и покраснел. Кожа у Валентины была бледная, веснушчатая.
Она молчала. Но Володе было с ней интересно, даже вот так, молча идти. Почему-то, странно...
Он не понимал. И вдруг почувствовал, как ему хорошо, что он вот не понимает! Еще не понимает, но скоро поймет — эту странность, эту сложность взрослого мира, где некрасивые, немолодые женщины оказываются вдруг интересны, и так вдруг легко, приятно бывает молчать, и самая паршивая погода оказывается неожиданно самой подходящей, и неизвестно, чем же все кончится, но почему-то не страшно, а весело и до чего интересно идти все дальше, дальше — куда?..
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





