ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
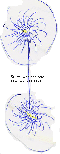


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Каплинская Елена 1983
— ...Иль, судеб повинуясь закону (топ, топ, топ)... все, что мог, ты уже совершил (топ, топ, топ)... Создал песню, подобную стону (топ, топ, топ)... и духовно навеки почил?
Топ. Топ. Топ. И бубнит. За стенкой. С тех пор, как мы начали «избегать», мы спали в разных комнатах. Я накинула халат и заглянула к Жене. Он сидел на постели, спустив ноги на пол, читал вслух Некрасова, отстукивая ритм пяткой. Весьма остроумное занятие в пять часов утра.
— Доброе утро, Женя! Сейчас придут с нами познакомиться соседи снизу.
— Я тихо.
— Тихо — не твоя специальность.
— Я тихо!
Это было невыносимо — его упрямство, его нежелание считаться с обстоятельствами.
— Ты же сам захотел остаться на «Колоре».
— А в чем дело? Ты что же, думаешь, что можно вот так взять и отбросить «устаревшие методы»? А методы устаревают по своим законам, не по нашим желаниям. Выкинуть Ермашова еще не значит от них избавиться.
— Не надо об этом говорить.
— А о чем говорить? О моей бесконечной благодарности за то, что ты, невзирая...
— Женя, не смей.
Я готова была крикнуть ему в лицо, что вот только разве для паршивой благодарности я и мирилась с ним столько лет, терпела одиночество! Крикнуть то, что кричат друг другу супруги, доламывая в открытом море свою ладью. Но изумление, что страстная ярость еще не загасла во мне, еще сохранила всю безжалостность и грубость борьбы между мужчиной и женщиной, всю ее безнадежность, сковало меня. Неужели мы еще стремимся покорить друг друга? Когда мы были молоды, речь шла только о покорении тела, потом обнаружилось, что самое трудное — ускользающая душа. Теперь же, когда наши души наконец угомонились рядом, обретя свои суверенные пределы, неожиданная опасность возникла как раз над телом. Опасность прекращения существования. Было бы ужасно в прежнем водовороте борьбы вдруг лишиться Жени, отдав его небытию. Неужели это я когда-то думала: лучше смерть, чем другая женщина, которую он будет целовать, как целовал меня? Теперь я бы предпочла другую женщину. Только не смерть. Только не безнадежность.
Ни слова больше! Избегать.
Женя встал с постели, мятая пижама топорщилась на нем горбом.
— Обними меня.
Я обняла его. Я гладила его спину, его разноцветные волосы, его белые брови и ресницы. Есть люди, которым всегда бывает тяжелее всех. Почему? Они стараются больше всех, с них больше всех требуют, их обвиняют больше всех. И им меньше всех сочувствуют. Они не нравятся другим, легким и приятным, и рядом с ними тяжело. Они бесконечно сильны и бесконечно слабы.
— Скажи, что мне делать?
— Я не умею...
— Почему?
— Я знаю, как надо, но ты этого не можешь.
— Лизаветочка... не плачь.
Да что там «не плачь». Мои слезы — вода... Хуже, что я не понимаю Ижорцева, не могу себе объяснить его поступка. Ему неприятна ситуация, тяжелит присутствие Жени на заводе? Но мог бы не соглашаться, отвергнуть сразу, ему бы пошли навстречу, а Жене категорически сказали бы: нет. Лучше так, честно признать: боюсь. Никакого позора, оба слишком крупны, чтобы малодушничать. Но ведь Ижорцев согласился! Раз так — он должен держать слово, нести крест. Все были к этому готовы. Знали: придется терпеть, вуалировать натянутость, деликатно осторожничать, особенно сначала. Пусть даже «делать вид». И вдруг, с первой минуты, едва затворилась за Женей дверь министерства — немыслимое неприятие, изничтожение человека, расчетливое и точное. Конечно же, во всех столкновениях неправ Женя. Он просто-напросто берет на себя лишнее, и ему на это указывают. Все нормально. Ижорцев прав абсолютно. Но только я не понимала Ижорцева. Он мне становился страшен, как инопланетянин. Мотивы его поступков подчинены какой-то иной, не человеческой логике. Впрочем, почему не человеческой? Иная — не обязательно нечеловеческая. Может быть, просто новая логика? Разве человечество никогда не меняло своих нравственных воззрений? Разве добро и зло — понятия абсолютные? Чтобы вынести справедливое суждение, мы говорим: смотря какие обстоятельства...
Все движется, следовательно, все смещается. Ракурс, ракурс. И вот уже идешь и не узнаешь знакомых стен и лиц... Разве не понятно? Все сдвинулось, а ты не успел, не сумел. Отстал. Поэтому не понимаешь. Зачем же винить Ижорцева? Все сдвинулось, сдвинулся и он. Изменились обстоятельства — изменились отношения. Смешно требовать каких-то прежних форм. Приличие, сочувствие, благородство... вроде пособия по безработице. Жалкое что-то. Или... не современное?
Но душа переворачивалась во мне, как потревоженный в чреве ребенок. Душа старомодно требовала порядочности. Требовала абсолютных норм. Несмотря ни на какие обстоятельства и, может быть, именно вопреки им. Человек должен быть человеку человеком. А не деталью мироздания. Человечность — незыблемый оплот. И вовсе не нормально то, что я не понимаю сегодняшнего Ижорцева. Мне страшно, я начинаю бояться, как неизвестного зверя, хорошо знакомого человека. В чем же тут дело? Думаю, что не во мне. Не в моей непонятливости.
Дело в уходе.
Но разве уход должен уничтожать человека?
Я видела уход Григория Ивановича.
...Вышел на середину сцены конференц-зала, сказал:
— Дорогие товарищи, я вынужден уйти на пенсию. (Да, так и сказал: вынужден). Я не инженер, не специалист, как Алексей Алексеевич Лучич, я был директор, только руководитель. А в нынешнее время нашим заводом может руководить лишь эрудированный специалист. Раньше надо было исполнять задачу. Теперь приходится задачу избирать. Избирать путь движения. Больно много рифов наставил научно-технический прогресс. Раньше я знал, что и как вам облегчить. Теперь не знаю. Поверьте, только поэтому ухожу. Боюсь и себя и вас под монастырь подвести. Чего Володя Яковлев никогда не сделает. Он у вас будет директор что надо. А за сим прощайте, мои дорогие, не мучайте проводами ни меня, ни себя, а то еще до слез доведете, ей-богу.
Григорий Иванович засмеялся, сошел по ступенькам в зал и направился к выходу. И по мере того, как он шел по центральному проходу между кресел, минуя ряд за рядом, оставляя позади себя сидевших молча людей, в тишине зала за его спиной начали с треском хлопать стулья. Люди вставали и следовали за ним. Ряд за рядом. Директор, не оглядываясь, вышел в длинный широкий коридор, углом заворачивающий к производственным цехам.
Он шел, и при его приближении открывались как бы сами собой двери цехов, оттуда тоже выходили люди. Прямо от машин, с рабочих мест выходили старые звездовцы, поставив наскоро к станкам вместо себя учеников или новичков помоложе, и тоже присоединялись к процессии.
Директор кивал им, здоровался, привычно пожимал мимоходом руки. Толпа сзади него густела, и он, чувствуя это, ускорял шаг. Он стремился скорее пройти свою голгофу.
Внизу, в полутемном вестибюле, там, где последние три ступеньки вели к самому выходу, он остановился возле колоны, повернулся назад, лицом к толпе, поднял обе руки и крикнул могуче, как на митинге, когда еще микрофонов не было:
— Всё! Конец!
Ему суждено было проделать этот же путь еще раз. В гробу. Но я вспоминаю его именно таким, как в ту минуту. Я видела его профиль, повернутый теперь на мраморе колонны, возле которой он тогда стоял.
Я в тот миг не знала, что вижу Григория Ивановича живым в последний раз. Судьба никому не раскрывает своих тайн, никогда заранее не обозначит начало, продолжение, конец. Но разве что-то осталось мне непонятным в жизни Директора? А ведь его время было на излете, когда мы с Женей пришли на завод. Директор, весь, до конца, принадлежал своей эпохе. В этом был смысл его поступков. И я смогла его понять!
Так почему же Ижорцев, почти мой ровесник, мой одновременник, для меня загадочный марсианин?.
Все, все было понятно, что происходило...
Степан Аркадьевич побежал вперед, рванул дверцу старенькой директорской «Победы». Он никогда этого не делал, Степан Аркадьевич, директорский шофер. Никогда не бегал, не рвал дверец. Всегда был точен без спешки, всегда на месте. Не умел бюллетенить, выказывать настроение, просить отгул. У него не случалось дорожных происшествий, неполадок в гараже, неисправностей в машине. Степан Аркадьевич возил Директора двадцать лет, а тут вдруг побежал, стал рвать дверцу... Григорий Иванович подошел, уселся невозмутимо, с каменным лицом. И через мгновение они уехали.
На тротуаре толпились все еще выходившие из мраморного подъезда люди. Вслед «Победе» глядел Яковлев. Я увидела мелькнувшее бледное лицо Ирины Петровны, с надменно вздернутым подбородком — ее минера держаться в минуты сильного волнения. Чуть в отдалении стоял Женя, а рядом с ним маленькая широкоплечая женщина, с короткой шеей, в пышном ореоле собранных на затылке волос, мощная вверху и узкая внизу, на тонких щиколотках, — Аида Никитична Малашенко, инструктор райкома, прибывшая специально на проводы Директора с великолепным букетом. Она слегка дезориентированно крутила этот букет в руках, решая, куда бы его теперь пристроить. Жене тоже по-видимому, не приходила никакая разумная мысль. И тут, как выручалочка, возле них появился Сева Ижорцев и предложил свои услуги: помочь отнести букет к Дюймовочке, у которой имеется в хозяйстве подходящая ваза или что-нибудь в этом духе. Сева склонился, понюхал цветы. «Чтобы не увяла такая красота», — пробормотал простодушно. И тут же предложил заодно продемонстрировать в цехе кинескопов подвесной транспортный конвейер, если у гостьи есть желание посмотреть, что новенького на заводе, а конвейер того стоит. Честное слово. Аида Никитична мило зарделась и сразу же согласилась.
Это действительно было интересное зрелище. Идея воздушного транспортера возникла внезапно. И даже несколько комично. Как-то Женю срочно вызвал к себе Яковлев. Женя вышел из своего небольшого кабинетика и застрял. Перед ним, заблокировав начисто дорогу, в узком проходе цеха пожилая работница медленно и с усилием толкала тележку с кинескопами. Сорок увесистых «лягушек» ехали на моечный участок. Женя, торопясь, вцепился в поручень, помогая ускорить движение тележки. Многие вещи человек удосуживается понять, лишь испытав на себе. Моему мужу не понравилось толкать тележку, и он вполне логично предположил, что пожилой работнице это занятие тоже не доставляет особенного восторга.
К вечеру Женя зазвал к себе механика:
— Пойдем, покажу, я тут картинку нарисовал...
Картинка представляла собой все участки цеха, обвитые по потолку рельсовыми балочками, по которым плыли подвески с гнездами для кинескопов, вроде стульчиков на воздушной дороге для горнолыжников.
Механик прикинул на глазок, с какими примерно усилиями придется осуществлять новую фантазию Ермашова. Надо заказать проект в конструкторском бюро. Это раз. Придется останавливать участок за участком — это два...
имея останавливать участок за участком но дна...
— Ничего не надо! — засмеялся Женя. — Я уже позвал Павлика.
Павлик явился, тяжело постукивая палкой, сел, вытянув протез. Мучнистое лицо выдавало его муки: Павлик страдал бессонницей, ему докучала несуществующая нога.
Он потерял ногу в боях под Москвой, в Московском ополчении. В сентябре сорок первого года, когда на заводе составлялись списки ополченцев, Павлик Яшуков был вычеркнут из них самим Директором. Мальчишке едва исполнилось семнадцать; он был сыном звездовской цоколевщицы. С малых лет знал навылет все заводские закоулки. Директор вычеркнул паренька из списка, а во главе списка поставил себя. Вторым шел Лучич. Но в райкоме Директору строго напомнили, на чьих плечах лежит ответственность за завод, вычеркнули фамилию его и Лучича и восстановили Павлика. Таким образом, мальчишка все же добился своего, пошел в ополчение.
Павлик вернулся на «Звездочку» в мае сорок второго года. На костылях. Но ему по-прежнему было семнадцать, и он по-прежнему носился по заводу как заведенный. Не было такой работы, которую он не сумел выполнить или отказался приняться за нее. К концу войны Павлик без отрыва от производства окончил конструкторский факультет.
Теперь он был уже далеко не мальчик, и хвор, и «в чинах» — заведовал сектором машиностроения в конструкторском бюро, но по-прежнему все звездовцы называли его Павликом, по-прежнему с мальчишеским задором зыркали вокруг его огненные, черные как смоль глаза в коротеньких прямых ресничках. Конструктором Павлик был несравненным. Он смог бы втихаря перестроить весь завод и, по-видимому, успешно воплощал это намерение. Павлик постоянно участвовал во всех заводских новшествах, переделках, реконструкциях, куда бы его ни призвали, являлся немедленно, взваливал на себя работу, не гнушаясь самой мелкой, и поэтому производил впечатление человека незанятого, всегда готового «подсобить» и только ждущего приглашений.
Кроме того, у Павлика имелся надежный тыл. Это был наш Фестиваль. Чертежи Павлика он исполнял в металле еще со времен первых попыток начинающего конструктора. Павлик, когда что-то не получалось, нетерпеливо стучал палкой в пол, дулся, тер лоб, жмурил черные шарики глаз. Фестиваль же посмеивался в кулак, бормотал: «Не идеть? А ты дунь, плюнь и пойдеть...» и — предлагал «повернуть вот так эту штуковину». После чего раздавался неистово-радостный визг конструктора. Павлик не раз втолковывал Фестивалю, что его предложения надо оформлять в бризе, деньжата получить за рационализацию! Фестиваль отвечал: «Где мне там...» Однажды Павлик, разъярившись, написал на него заявку, начертил, сдал, и вскоре изумленному Фестивалю выдали свидетельство рационализатора и энную сумму денег, весьма одобренную Таней. «Ты мне просто надоел», — заметил Павлик, комментируя свой поступок, когда Фестиваль обратил к нему жаждущие объяснений глаза.
Итак, по Жениному зову враз появился Павлик, возник Фестиваль, подключился Сева Ижорцев, тоже незаменимый электрик, дирижировал сам Женя. И в цехе кинескопов вовсе не пришлось останавливать производство. За ночь оплетен был участок, за неделю — весь цех. Движущиеся подвески покрасили в разные цвета: синий означал, что в этом гнездышке кинескоп едет на мойку, красный — на вакуумную обработку, желтый — брак. Стало похоже на веселый аттракцион в цирке: парадно, удобно, весело. Да, было на что посмотреть.
Когда Сева Ижорцев повел Аиду Никитичну в цех, Женя уцепил меня по дороге, прижал мой локоть к своему твердому боку, дыхнул в ухо:
— Идем с нами... — Это был приказ.
Ноги сами пошли за ним.
Сева Ижорцев во всю опекал Аиду Никитичну. В вестибюле велел вахтерше отпереть «гостевой» лифт с кожаной банкеткой и зеркалом. Войдя в кабину, устланную ковриком, она мельком проверила в зеркале свое отражение. В ее взгляде, привычно деловом, прорвалось что-то очень женское, жадное, тоскливое и радостное.
— Мы с вами никогда не встречались? — спросила она, поймав в зеркале мои слишком наблюдательные глаза.
Мы обе почувствовали неловкость.
— Не повезло, — улыбнулась я.
Женя молчал, как пень, не приходя мне на помощь. Нет ничего необоснованнее, чем внезапно вспыхнувшая женская неприязнь, а это нам грозило, я чувствовала. Еще мгновение...
— Все-таки какой гигант Григорий Иванович, а? — вздохнул Сева Ижорцев. — Уважаю независимость.
Удивление тронуло соболиные брови Аиды.
— Независимость? В чем же вы ее видите?
— В том, что взял и ушел. Без никаких. После шестидесяти человек на производстве — обуза. Ритм уже не тот. Дело не в том, что старик это понял. Все понимают, но сидят до упора. Потому что зарплата, она — не пенсия все же. И вот человек держится, зависит: начинает давить на прошлые заслуги, воспитывать молодежь «в духе» и вообще ухлопывает массу времени попусту. Своего и чужого. А наш старик плюнул на должность. В этом и независимость. Никому не навязывается за лишний грош.
— Интересно, — сказала Аида Никитична, откинув голову. Она как бы издали рассматривала Севу, хотя стояла совсем рядом с ним. — Похоже на теорию. Ну, а вот ваши, скажем, заводские знаменитости, Терентьев, Блохин, они — тоже обуза? Им уже по семьдесят.
— Так они таланты. — Сева взглянул в ее откинутое, обращенное к нему снизу лицо так, как будто собирался вот-вот подхватить ее в падении, если она вдруг вздумает падать. — Талант — понятие не возрастное. Тут возраст не играет роли... Это и в девяносто не проходит.
Лифт достиг верхнего этажа, дернулся, мелодично звякнув. Сева нажал ручку, распахнул дверь и слегка поддержал за локоть Аиду Никитичну, помогая ей выйти на площадку. Севой можно было залюбоваться, так он был ловок; зато Женя, шагнув к дверям, наступил прямо мне на ногу. Я запрыгала, как пескарь на сковородке. Но даже при этом, невзирая на громкость своего шипения, я так и не обрела места в сфере Жениного внимания. Он был отключен, отсутствовал, и я сообразила, что только поэтому и потащил меня с собой: чтобы отсутствовать спокойно, перевалив труды общения с гостьей на меня.
— И потом, — говорил Сева, все еще не выпуская из руки пальчики Аиды Никитичны, ведя ее впереди нас, — Терентьев и Блохин — токари, классные мастера, а я имел в виду должность руководителя. Люди не устаревают для работы, они устаревают для руководства.
— А у руководителя вы не предполагаете таланта?
Беседа увлекла их, там уже были две беседы или три: кроме слов говорили между собой их мысли о возрасте и неподвластных ему силах души, и еще говорили отдельно просто взгляды, движения, интерес друг к другу.
— Предполагаю! — воскликнул Сева. — Еще как! Только это редкость. Талант руководителя — что вы! Такая редкость...
— Не понимаю, — Аида Никитична стучала каблучками, ее лакированные туфельки мелькали рядом с узконосыми ботинками Севы, — не понимаю, как это вы себе представляете. Вот именно вы, современный рабочий... Вот у вас на предприятии? Например? Чтобы я представила себе... Есть такие?
— Если, знаете, без лукавства... А то у нас как бывает — собрались Петя с Колей, говорят: этот человек свой, хороший, тебе нравится, я с ним на рыбалке был, со всеми ладит, давай его выдвинем. И все дела. Он ни ухом ни рылом, сидит со всеми ладит. Такой и на пенсию не уйдет.
— Нет, нет. Я не о том вас спросила. Какая ваша-то модель?
— Да тут модели нет. Нужен характер. В том-то и редкость.
— У каждого человека есть характер.
— Дудки. Нрав, а не характер. Характер в том, чтобы доводить задуманное до конца.
— Хм... И это, по-вашему, редкость?
— А по-вашему?
Они вдруг остановились разом друг против друга. Я успела дернуть Женю, чтобы он не налез на них с ходу и не отдавил им ноги, как мне.
— Странный, однако, у вас взгляд на жизнь, — сказала Аида Никитична.
— Я просто из Малаховки, — пояснил Сева.
Шпаги скрестились, в воздухе запахло серой. Даже Женя проснулся.
— Это не навсегда, — заметил он. — Получит в Москве комнату.
Аида Никитична рассмеялась.
— А как там... В этой Малаховке? Отчаянные ребята?
— Лучше не попадаться, — улыбнулся ей Сева.
Теперь, спустя много лет, мне начинает казаться, что уже в тот день в Ижорцеве промелькнуло что-то, недаром так встревожилась Аида, она оказалась намного проницательней меня... Но нет, что я. Это просто обыкновенное свойство человеческого воображения: приписывать прошлому какие-то вещие знаки, которое оно будто бы нам подавало, когда мы уже знаем, что случилось потом. Нет, нет. Не надо. Сева Ижорцев, размышляющий и углубленный в дело, умный и способный молодой рабочий, студент вечернего института, красивый парень со всеми повадками подмосковного племени простоватых, но не пугливых и оборотистых ребят, верящих в собственные силы, вот и все. Добр, отзывчив, весел, привязчив... Нет, ничего в нем не нахожу непонятного тогда!
Мы шли по цеху. Гудели ровно насосы «большой дороги», над нами витали пузатенькие кинескопы в нарядных подвесках транспортера, Аида Никитична задирала голову, восхищалась, разговаривала с парторгом цеха о политучебе, интересовалась соцсоревнованием, степной печатью, а сама нет-нет да и поглядывала на Севу, держащегося и отдалении. В конце концов, улучив минуту, она подошла к нему и сказала:
— И все же насчет независимости... Тут мне кажется, у вас нет ясности.
Сева покачал головой.
— У меня-то как раз есть ясность. Только вам она не нравится, да?
— Слишком узко. Уж если говорить о смысле независимости, то человек зависит от общества, потому что не может без него существовать. Значит, его поступки должны быть соизмерены с общественной пользой, а вовсе не независимы. И в данном случае...
Сева неожиданно выпрямился, как-то странно выкатив грудь, отчего сразу стал будто на целую голову выше Аиды Никитичны, склонился над ней, как взрослый над ребенком, и прервал:
— По-вашему, я существую для этого вот завода? Дудки! Завод существует для меня! Он для меня делает телевизоры, для меня мне зарплату платит! А если он для чего другого крутится, так на кой ляд мне такой завод? Заводы — для того, чтобы создавать людям удобства жизни, а общество — защищать их счастье и благополучие! Все для людей, а не люди неизвестно для чего!
У Аиды Никитичны задрожали губы. В эту минуту им с Севой следовало немедленно разойтись. Они были такие разные, что могла случиться ошибка, вспышка. Но я видела, что они не разойдутся. Что они-то как раз и сцеплены друг с другом, как два сиамских близнеца. Вот какие чудеса-то.
Я оглянулась на Женю — и не увидела его рядом! Ничего не заметив из происходившего, мой муж шел себе и шел вперед, вдоль шипящей и щелкающей «дороги». Оставив нас позади.
Причина такой его погруженности в собственные мысли открылась мне вскоре после ухода Григория Ивановича на пенсию. Дальнейшие события развернулись быстро. Владимир Николаевич Яковлев стал директором завода, и Женя тут же с ним задрался. Произошло это довольно эффектно. По крайней мере, для меня.
Однажды утром на пороге нашей лаборатории возникла Дюймовочка и, глядя на меня железными очами, заявила:
— Послушайте! Так не делают. Научите, в конце концов, вашего мужа приличиям.
Я вскочила, упал стул. Дюймовочка слыла грубиянкой; но у меня не нашлось слов, чтобы протестовать против ее тона, к тому же я сразу сообразила, что она сильно вышла из колеи. А Женя умел вышибать людей из колеи, на это он был мастер, ничего не скажешь. На этот раз, оказывается, Женя «ворвался» в кабинет к Владимиру Николаевичу, нарушив всякий регламент, и уже час мучил его какими-то требованиями, а лишь только Дюймовочка входила, чтобы напомнить, что директора ждут неотложные дела, «поливал» ее оскорблениями, приказывал удалиться вон и не мешать серьезному разговору. Она вообще таких нахалов не встречала, как этот Ермашов, хоть он и мой муж. Но она человек прямой и нелицеприятный. Ее за это сам Григорий Иванович уважал. И Владимир Николаевич тоже человек вполне деликатный, другой бы выставил этого Ермашова с его глупыми требованиями!
Какими?
Цветной телевизор ему, видите ли, хочется выпускать, догнать Америку задумал, насколько ей удалось понять...
Выпалив все это, Дюймовочка трясущейся рукой набрала номер телефона у меня на столе и сказала в трубку тем не менее совершенно спокойным, безмятежным даже голосом:
— Владимир Николаевич, тут жена Ермашова... Пусть он подойдет к телефону.
Через секунду Женя заорал прямо мне в ухо:
— Что с тобой?
— Требуйте, чтоб он немедленно вышел из кабинета! — зашипела Дюймовочка. — Наврите, что хотите! У вас обморок...
— Выйди … из кабинета... — вяло проблеял кто-то из меня. — У меня обморок...
Дюймовочка выхватила трубку и, бросая ее на рычаг, фыркнула:
— Благодарю! Вы спасли меня от очередной порции ермашовских грубостей. Я уже — во! Наслушалась.
Через пять минут в лабораторию ворвался Женя, глаза торчком:
— Тебе плохо? Плохо? — он схватил меня за плечи, поворачивал к свету, спрашивал каким-то незнакомым голосом: — Что надо? Воды?
— Уже ничего, — сказала я. — Я тебе дома... все объясню.
И поняла, что совершила ужасную ошибку.
— Черт побери, — пробормотал Женя. — Неужели?.. Черт побери.
За перегородкой, возле вытяжного шкафа хихикали мои лаборантки.
— Ну, держись, Лизавета Александровна, — резюмировали они. — Придется теперь оправдать доверие. И раздумывать нечего. Давно пора.
Дома меня ждал огромный букет роз. Черные, чайные, алые, белые, розовые — боже, какой дендрарий пал жертвой моего разгулявшегося супруга? Кроме того, Женя собственноручно жарил на кухне оладьи, и поэтому случаю Таня стояла в коридоре с тряпкой наготове и испуганным лицом. Масло стреляло со сковородки, как батарея «катюш». В такой боевой обстановке Женя настряпал огромное блюдо чего-то горелого и гордо прошел с ним через коридор, взывая:
— Фестиваль! Таня! Юрка! Налетайте!
Они не очень торопились налетать. А когда налетели, то со своим инвентарем: нормальными булками и полтавской колбасой. Мы пили чай, и Фестиваль наивно радовался: он решил, что разговор с Яковлевым окончился удачно, и Женя таким образом празднует победу. Он тут же хотел «по знакомству» выведать, какие машины ему придется строить в самом недалеком будущем для «цветных». До того разошелся, что даже обещал Тане, что соберет ей собственноручно первый в стране цветной телевизор на дому.
— А что, не смогу, думаешь? — он косился, ожидая поддержки, на своего драгоценного Ермашова. Но Женька лишь ухмылялся, до отвратительности многозначительно глядя на меня. В тот вечер я сумела стать для него главнее его проблем! И нам предстояло такое объяснение... это крах. Женя умеет воспринимать только серьезно даже самые мелочи, даже шутки, если они до него доходят. Он как тяжелый грузовик, у которого сзади на кузове строгая надпись: «Не уверен, не обгоняй». Что я наделала... проклятая Дюймовочка, черт бы тебя побрал.
В самый разгар веселья в дверь позвонили.
К нам сверху спустился Яковлев. Он сказал Жене, что на заводе им будет, видимо, трудно продолжить начатый разговор, хотя и считает предложение Жени крайне серьезным. Да, безусловно, разработки по цветным кинескопам в лаборатории Ирины Петровны вполне обнадеживающие. Но одно дело — лабораторные условия, опытный образец, сделанный кустарно, вручную, другое — серийный поток, требующий оборудования, специалистов, крупных капиталовложений для начала. С этим надо входить в Совет Министров, в Госплан... По совести говоря, он, Яковлев, в данный момент не считает это возможным. Да и Госплан, очевидно, когда придет время, сам поручит дело, скорее всего, какому-то новому предприятию. Телевидение пока в основном черно-белое, цветное вещание — дело будущего. Почему именно мы должны торопить события? В заводском хозяйстве столько «дыр», столько текущих, сегодняшних нужд. Мы завалены заказами к тому же. План перегружен. Наше желание взяться сейчас за освоение «цветных» было бы трудно мотивировать.
— А не надо мотивировать! — вскричал Женя. — Вон от нас сколько заводов отпочковалось, на Урале, в Сибири! Мы же туда самое ценное оборудование вывезли, там теперь мощное производство на нашей базе. Давайте туда смелее переводить нашу номенклатуру. Им передадим отлаженную технологию, а сами возьмемся за новое. Мы же столица, мы должны тянуть вперед! Иначе американцы окажутся правы со своими прогнозами.
Яковлев отпил чай из предложенной чашки.
— Ну, положим, соперничество с американцами занимает меня в последнюю очередь. Мне бы хотелось планомерно и надежно поднимать общий уровень. Совершенствовать то, что имеем.
Женя почему-то потянул к себе букет, стал нюхать розы, одну за другой. Сказал негромко:
— Я удивляюсь вашей слепоте. Зачем же тогда уходил Григорий Иванович?
— Потому что не мог совершенствовать!
— Нет! Потому, что не мог взяться за новое! И именно этого ждал от вас!
Яковлев встал, положил на стол принесенную с собой папку.
— Я вам возвращаю вашу записку. Ей придется подождать лучших времен.
Когда мы остались одни, Женя тут же спросил меня, как я себя чувствую. Мне пришлось объяснить ему, что такой прекрасный букет не было особой причины покупать. Я сказала это и зажмурилась.
Несколько секунд стояла тишина. Потом Женя шевельнулся.
— Жаль, — сказал он. — Жаль, жаль, жаль...
Я, конечно, заплакала. Я уже достигла мастерства в этом деле. В тот раз я плакала «тихо, но безутешно». Женя утешал меня, но как-то рассеянно.
И я с облегчением почувствовала, что возвратилась с «главного места» на свое второстепенное.
— Ничего... — говорил он.— Мы своего добьемся. Мы добьемся своего. Обязательно. Я в этом уверен.
Женя уже не имел в виду меня. Я отпала с повестки дня, от меня ничего не ждали.
Он помог мне раздеться, уложил в постель и даже подоткнул одеяло, заботливо, будто я была маленьким ребенком. На второстепенном, но зато моем собственном месте мне было гораздо уютнее.
Через несколько дней Женя предпринял еще одну попытку добиться своего — он решил воздействовать на Ирину Петровну. Он взывал к ее профессиональному чувству, к естественному желанию увидеть плоды трудов своих воплощенными, приносящими радость и пользу множеству людей.
— Евгений Фомич, дорогой, — отвечала Ирина Петровна своим низким спокойным голосом. — Сейчас пришло время узкого практицизма. Мы этого не умеем, нам это в новинку. И самое главное, это у нас не в крови. Мы, конечно, премудрость прибыльного хозяйствования одолеем со временем. Жизнь к этому приведет. Потому что нельзя же только одной краской: засучим рукава да подтянем пояски. Не думаю, чтобы Володя ошибался. Он правильно понял время. Поэтому я предпочитаю спокойно ждать своего часа. И вам тоже советую.
После этого разговора Женя как будто угомонился. Приходил с работы довольно рано, играл в коридоре с Юрочкой Фирсовым в железную дорогу, научился вытирать полотенцем посуду.
Но это была не тишина, а затишье. И вот настал день. У нас в КБ проходила ежегодная научно-теоретическая конференция. Мероприятие самое спокойное в заводских масштабах и безобидно торжественное. Конференцию все охотно посещали, это был повод мило пообщаться в приятной обстановке, послушать, что новенького в «заводской науке». Именно этот форум и выбрал мой дуэлянт. Я не заметила, как Женя появился на нашем заседании, я увидела только, что он попросил слова и идет к кафедре. В один миг это уютное местечко с настольной лампочкой для удобства чтения рукописей, со стаканом остывшего чая на пюпитре превратилось в трибуну. Женя говорил без всякой бумажки, обнаруживая фундаментальное знакомство с состоянием промышленного производства цветных кинескопов в Америке. Одновременно он анализировал, какие приборы, не уступающие по сложности цветным кинескопам, освоили уже наши цехи, и яростно доказывал, что только инертность нового руководства стоит преградой тому, чтобы дать возможность и нам взяться за производство самых современных телевизоров, о которых пока советские люди вынуждены только мечтать. Он призвал «заводскую науку» взять на себя миссию развития цветного телевидения и заставить директора Яковлева осознать свой партийный долг перед народом... В этот самый момент я увидела, как из-за стола президиума поднимается глыбой Лучич и в ужасе зажмурилась и зажала уши руками. Если бы я только могла, перестав таким образом видеть и слышать, предотвратить наступивший скандал!
Лучич сказал что-то насчет апломба и головокружения от успехов хорошего начальника цеха, но, видимо, еще незрелого товарища, недопонимающего цели и задачи конференции, на которой он как главный инженер предприятия, имеет честь председательствовать. Ввиду изложенного он обращается к собранию с просьбой лишить товарища Ермашова права на выступление, оскорбительное в своем тоне для директора завода.
— Правда не может быть оскорбительной, — парировал Женя. — Она может быть обличающей и неугодной уважаемому председателю, но это совсем другое дело!
Лучич поинтересовался у присутствующих, сочтут ли они необходимым выслушать извинения товарища Ермашова. На что Женя немедля заявил, что не худо было бы сначала директору Яковлеву по всеуслышание объяснить, почему он бережет свое личное спокойствие в ущерб развитию дела. Завод может выпускать цветшие кинескопы! Надо идти в верха, обращаться в правительство — с конкретными предложениями, потому что, если мы, производственники, не станем стремиться создавать новые изделия, народ никогда не сможет удовлетворить свои запросы и нужды, никогда не достигнет благосостояния.
Во время всей этой потасовки Яковлев спокойно сидел за столом президиума, опустив глаза и чертя карандашом на бумажке. Опущенные глаза помогали ему, видно, никак не выражать свое отношение к происходящему. Это давало возможность ни с кем не встречаться взглядом, чтобы случайно не поймать выражения сочувствия или иронии — какого бы то ни было чувства, ставящего человека в позицию друга или недруга. Яковлев как бы присутствовал, чтобы обозначить свою заинтересованность происходящим, но и отсутствовал, чтобы не заострить в настроении конференции возмущенность нападками Жени.
Рядом со мной негромко вздохнула Ирина Петровна. Это был больной, острый вздох. В несколько ступенек, прерывистый и нервный.
— Ермашов! — загремел могучий голос Лучича. — Призываю вас к элементарной воспитанности!
И тут для меня вдруг исчезли, испарились стены конференц-зала, и я увидела коридор, дверь в деканат, нас с подружкой, прислонившихся к стене, и юного Женю, в ярости преграждающего путь директору института... неистового мальчишку, прошибающего лбом каменную цитадель несправедливости...
— Ирина Петровна, — прошептала я. — Умоляю, помогите. Поддержите Женю... Ведь он прав...
И почувствовала, как она утешительно похлопала меня по руке.
— Нет... Нельзя быть правым раньше времени.
Вскоре после этого скандала лаборантки сказали мне, что в мое отсутствие был звонок из райкома: меня просят немедленно позвонить туда и передали записочку с номером телефона. Я набрала номер и услышала голос Аиды Никитичны.
— Мне хотелось бы встретиться с вами, Елизавета Александровна, — сказала она. — Но... не в райкоме. Поскольку разговор сугубо личного характера. Вы не могли бы приехать ко мне?
И дала свой домашний адрес.
Дом, в котором она жила, знал каждый москвич. Когда-то, во времена моего детства, этот дом на набережной именовался «Домом правительства». И я с любопытством подходила к серой громадине за мостом, выраставшей прямо из голого асфальта — кругом ни деревца, ни кустика, ни травинки, только камень — гранит. Дом, это детище зари индустриализации и архитектурных идей Корбюзье (дом-корабль, комбинат, фабрика), занимал целый квартал своими жилыми корпусами и бытовыми постройками, каменно-монументальными универмагом, клубом, кинотеатром. Казалось, все было сделано для того, чтобы этот дом в своей голости и гранитной мрачности выглядел уродливо, однако этого не получилось. У дома была осанка, доброжелательная солидность, несуетливая аккуратность, неподдельная его тяжелая грациозность украшала, а не уродовала плоский берег излучины Москвы-реки.
Я миновала скверик во внутреннем дворе дома, нашла нужный подъезд. Лифтерша, сидящая за письменным столом, спросили меня, к кому я направляюсь. И только после этого открыла мне ключом дверцу лифта.
Аида Никитична встретила меня в домашнем ситцевом халатике и провела через длинный коридор в просторную комнату с двумя окнами. Сюда легонько тянуло приятным шоколадным душком — за чистыми голубоватыми стеклами незавешенных рам виднелись невдалеке свекольно-кирпичные постройки кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Я вспомнила и неизвестно зачем, должно быть от внутренней скованности, тут же рассказала, как Павлик, конструируя машины для «большой дороги», долго искал предприятие, на котором имелись бы какие-то автоматические захваты, близкие по идее его замыслу, чтобы взглянуть, как это устроено. Оказалось, что подобное оборудование существует на «Красном Октябре». И вот, заручившись звонком Лучича к директору фабрики, взяв с собой Фестиваля «для консультации», Павлик отправился на стрелку. Их встретили с распростертыми объятиями, расспрашивали, как поживает Алексей Алексеевич («замечательный человек, мы его лекции слушали в Плехановском»), и повели показывать всю фабрику, не только какие-то там захваты. Уж обмениваться опытом, так обмениваться! Они осматривали цех за цехом, и везде с тележек, с упаковочных столов, а то и прямо из печечки их потчевали еще горячей продукцией, заставляли отведать карамелей, ореховых вафель, шоколадных «мишек» и непременно сказать свое мнение: вкусно ли? Интересовавшие их захваты обнаружились лишь на самом верхнем этаже. Когда наконец, закончив «обмен опытом», Павлик с Фестивалем вырвались из проходной, они резво дунули по мосту через Москву-реку, ссыпались по лестнице в пивной подвальчик на том берегу и долго отпаивали друг друга густо посоленным пивом. Завсегдатаи пивнушки, без труда сообразив в чем дело, поглядывали на них сочувственно, однако брезгливо сторонясь шоколадного духа, который они распространяли.
Часа через два, обретя более или менее человеческий облик, греховодники вспомнили, что на фабрике был ими забыт сын Фирсова — Юрка, которого Фестиваль прихватил с собой для туманной цели «приучаться». Парень все еще «приучивался» в вафельном цехе и выцарапать его с фабрики не представлялось возможным!
Впоследствии Юрка свел нежную дружбу с милейшей директрисой и уже самостоятельно, без отца и Павлика, обменивался опытом с «Красным Октябрем» сколько хотел, наведываясь сюда на метро и троллейбусе. Проезд он осуществлял бесплатно, как ребенок дошкольного возраста. «Парень что надо, — радовались на фабрике. — Может весь лом за смену съесть. Давай, Юрочка, кушай. Упрятывай наш брак». И Юрка старался, свято веря, что знамя за квартал получено благодаря его неоценимой помощи.
Аида Никитична смеялась, слушая мой рассказ и заваривая кофе в электрической машинке.
Комната Аиды Никитичны была обставлена особенной мебелью, которая ее вполне устраивала и которую она не собиралась скоро менять. Кубические стулья и полукресла, обтянутые жесткой черной кожей, кушетка, письменный стол, круглый журнальный столик и книжные полки — все аскетически строгое, тяжелое, из темного неполированного дерева, но опять же необъяснимо удобное, неназойливое, добротное.
— Логово старого холостяка, — усмехнулась Аида Никитична. И в тот момент, когда она это сказала, я вдруг заметила в углу, за приотворенной створкой двери девически узкую железную кровать, застеленную белым пикейным покрывалом, крахмальную накидку на плоской подушке, и меня поразила хрустяще-монастырская чистота этого ложа.
Аида Никитична разлила в чашки кофе, подвинула ко мне печенье.
— Был один парень в школе, сумасшедшая первая любовь. Я его позвала делать вместе уроки. Он вошел сюда, сидел истуканом, на следующий день скзал на переменке: я тебя боюсь.
В глубине квартиры скрипнула дверь, кто-то прошел, шаркая мягкими тапками.
— Тадеос Ваганович, вы зачем встали! — крикнула Аида Никитична в коридор. — Марш в постель, стукните в стену, если что надо!
Ей ответило издалека невнятное бормотание, затем звук спущенной из бачка воды.
— Сосед. Его совнархоз на днях побранили, вот он и слег. Небольшой стресс. Обычная деталь руководящей работы.
— И лежит один? Что, нет семьи?
— Семья там, в области, а он приехал на пленум.
Мы молча отхлебывали кофе из чашечек. Я не сомневалась, о чем будет наш разговор. Не о совнархозах же, хотя этот вопрос тогда всех волновал. В совнархозах решались в первую очередь свои, территориальные проблемы. Даже мы в своей лаборатории чувствовали, как трудно стало с размещением наших заказов на свекольных заводах областей, с которыми мы раньше сотрудничали беспрепятственно... Но сейчас речь шла не об этом. Я знала, Аида Никитична позвала меня, чтобы говорить о Жене. Ну, что ж, она не могла не узнать о скандале... Я приготовилась.
— Елизавета Александровна, вы, быть может, удивитесь, что я обращаюсь к вам с сугубо личным... — она замолчала, отставляя выпитую чашку. — А?
— Нет, нет. Я понимаю...
— Мне просто не с кем посоветоваться. Была бы мама... впрочем, она бы меня вряд ли одобрила. С ее характером... Да вы ее помните, наверное?
Аида Никитична назвала гремевшее в тридцатые годы имя знаменитой ткачихи. Она была депутатом Верховного Совета, и ей выделили две комнаты в этом доме, куда вселялись самые видные люди страны. Отец не любил славы матери, попивал, куражился и поколачивал жену на глазах у маленькой Аиды, а потом и вовсе ушел к другой женщине. Мать после войны умерла от туберкулеза, и Аида еще совсем девчонкой осталась одна. Ей помогали соседи и старые товарищи матери. Она закончила школу с золотой медалью, потом университет, физмат, но еще в школе считала общественную работу своим главным призванием. Сначала была секретарем бюро комсомола, членом райкома ВЛКСМ; потом работала освобожденным секретарем парткома НИИ, а теперь вот — в райкоме партии. У соседей разрослась семья, и Аида Никитична отдала им свою вторую комнату — зачем ей, она же одна, сколько лет одна...
— Вы давно женаты с Ермашовым? — спросила она, перебив себя.
— Пять лет. («Вот оно, — подумала я, — вот оно».)
— И у вас нет детей? Почему?
— Не знаю...
— А это не потому, что не хотите?
— Нет, нет... Мы... очень хотим... Но...
Она наклонилась ко мне, положила руку мне на плечо.
— Знаете что, милая Лиза. Я вам дам телефон одного врача, вы сходите к нему. Не смущайтесь, дело житейское. А дети — они как-то упрочняют характер. Правда. Я имею в виду Евгения Фомича. Уж очень он у вас порывист.
Чашка мелко и противно задребезжала о блюдечко в моей руке.
— Понимаете, он... борец, — прошептала я. — По натуре. Ему надо все вокруг совершенствовать. Он считает пассивность не нейтральным качеством, а злом.
Мне показалось, она не слушает. И она, точно, сказала, продолжая свою мысль:
— Дети его отвлекут. Да, да. Он всю свою жажду деятельности перенесет на них. Вот увидите. Это помогает. Я, например, так хочу ребенка... Очень хочу. Пока еще не поздно...
Она встала, отошла к окну, сложила руки на груди. Я была ошарашена. Таким странным поворотом разговора.
— Да, да, Лиза. Пока еще не поздно. Разве я не имею права на свой последний шанс?
Должно быть, мой вид выдавал меня, и она покачала головой:
— Только не подумайте, что я жду ребенка. Я просто собираюсь замуж, нормально, как все девушки. Я хочу не просто ребенка, разумеется, а полного семейного счастья с ребенком. Лиза, что вы так на меня смотрите?
Я смотрела «так», потому что меня, наконец, осенило: мы вовсе не о Жене говорили! Аида Никитична позвала меня, чтобы говорить о себе! Но почему? Меня? Я ей не подруга, не близкий человек, мы едва знакомы...
— Вы, пожалуйста, так не смотрите, Лиза. Ведь вы давно уже, наверное, догадываетесь, куда исчез Всеволод. Он мне говорил, что теперь стыдится бывать у вас. Хоть вы и Евгений Фомич проявили такт и ни разу не спросили его, почему не состоялась свадьба с... ну, этой девочкой, монтажницей.
И тут сразу целая цепь событий сложилась, выстрелила в моем сознании, как детская игрушка «чертов язык», выкидывающая узкое алое полотнище с загнутым кончиком, стоит только в нее дунуть покрепче.
Действительно, мот уже много дней Сева Ижорцев не появлялся у нас в доме — примерно с того времени, как проводили на пенсию старого Директора. Зато однажды в субботу раздался звонок, и явилась Света. Она держала в руках огромный торт, сияла румянцем, пахла морозцем, (значит, это было уже зимой!), провела у нас оживленные часа полтора, хохотала, рассказывала о своей бригаде, как ездили с девчатами на экскурсию в Звенигород, нервно поглядывала на часы, как опаздывающий человек, и все же не уходила; отказалась от чая, потом внезапно вскочила, пожала нам крепко руки и ушла, почти убежала. Я вспомнила, что видела их с Севой на демонстрации 7 ноября — она держалась двумя руками за его локоть, смотрела исподлобья, тяжело и упрямо, а он старался ее разговорить, предлагал мороженое, шутя, пытался освободить руку, но при этом вид у него был слегка затравленный.
И еще одно происшествие почему-то примыкало сюда же, к этой самой цепочке: недавно меня вызвали в цех, где работала Света, для консультации. У них появился большой брак по стеклу. Миниатюрные колбочки радиоламп, когда монтажницы вставляли в них сердцевинку, лопались у них в пальцах. В кабинете начальника цеха Света неожиданно для всех стала орать на меня режуще-звонким голосом, истерически кося глаза и обвиняя лабораторию в несерьезном подходе к качеству стекла. Ее принялись осаживать и успокаивать, а начальник цеха подал ей стакан воды и объяснил мне, что она просто «сильно изнервничалась с этими неполадками в работе».
Вот, пожалуй, и все — но как выразительно теперь это выглядело.
— Поверьте, Лиза, Всеволод исключительно талантлив. Он крупная личность, да, да. Я никогда еще не встречала так ярко мыслящих людей.
Она вернулась к столу, села, заложила ногу на ногу. Это ей было не очень удобно: слишком короткие и плотные ноги. Я опять неосторожно вгляделась в ее лицо, увидела легкую дряблость век, как первую пеночку на остывающем молоке, и ее интуиция тут же дала себя знать.
— Вот, вот, и зеркальце — мой свет тоже не лжет. Мы уже с ним перебеседовали на эту тему. Чуть было одуматься не заставило.
Она встала, открыла ящик письменного стола, достала ручное зеркальце в старой металлической оправе. Его простое стекло разбежалось паутиной трещин.
— Это Всеволод, — объяснила она. — Вырвал из рук, швырнул об пол. Не выбрасываю, потому что мамино. Правда, маме оно тоже мало радостного вещало.
Аида Никитична стала глядеть на свое искаженное, изломанное трещинами осколков изображение.
— Я только хочу, чтобы вы... поняли. Именно вы, этого мне достаточно. Куда девать нашу с Всеволодом разницу... Я старше. Это никуда не денешь. Это навсегда. Чем дальше... тем женщина резвее удаляется в стариковский лесок. Вот что нас ждет.
Она постучала в разбитое зеркало.
— Но так хочется, Лиза... хочется, хоть немного... как все другие бабы... пусть смешно. Пусть мерзко. Но хочется счастья. Я первый раз в жизни полюбила. И меня полюбили в первый раз.
В стену четко и призывно постучали несколько раз. Аида Никитична отложила зеркало, поднялась.
— Там на столе лежит письмо. Анонимка. Пришло в райком. Возьмите его, Лиза, прочтите. — Она вышла.
На листке из тетради большими неестественными буквами было написано, что инструктор райкома ведет себя аморально, заводит шашни с молодыми рабочими, заставляет Ижорцева В. ходить к ней ночевать, прельщая не своей поганой мордой, а пропиской и продвижением по работе.
В углу текста красными чернилами: «т. Малашенко, ознакомьтесь и бросьте в корзину».
Через месяц Аида Никитична приехала на завод, побывала у Жени в цехе, заглянула ко мне в лабораторию и показала, улыбаясь, свидетельство о браке с Ижорцевым В. Л.
— Вот какая у нас получилась свадьба...
Всеволода Леонтьевича Ижорцева рекомендовали в партию Женя, Валя Фирсов и Дюков. Я узнала об этом уже совершившемся событии из телефонного звонка Жени, весьма официального. Женя просил меня немедленно появиться возле какого-то «люлюнчика», чтобы «вызволить» их за десять рублей. Сообщив это, Женя преспокойно положил трубку. Я стала думать, что такое «люлюнчик», и есть ли у меня свободная десятка, которую мне охота была бы тащить куда-то в непонятное место. И достаточно ли во мне, вообще, гуманного порыва кого-то откуда-то вызволять. Но мои размышления прервало еще более неожиданное появление Аиды Никитичны. Ей тоже позвонил Сева, сделав сообщение примерно в тех же словах, и ее настолько живо заинтересовал этот «люлюнчик», что она схватила такси и примчалась за мной, в надежде на мою догадливость. Десятку для вызволения любимого мужа она считала вопросом не принципиальным.
Для разгадывания тайны «люлюнчика» мы пригласили третью жену, Таню Фирсову, причем ничуть не ошиблись. Таня решительно призвала «на ковер» Юрочку, и тот, не будь дурак, заручившись, что ему предоставят в такси место рядом с шофером, взялся довезти нас куда надо, и вскоре мы очутились возле пивного павильончика в десяти минутах ходьбы от завода. Там наши благоверные, действительно, задолжали и очень охотно раскрыли нам супружеские объятия, лепеча и нежно предлагая перевезти их немедленно в такой люлюнчик, где есть закуска. В этом они уже все поели, и, главное попили.
Вечер закончился дома у Аиды Никитичны, причем первенство за столом немедленно перенял Тадеос Ваганович, оказавшийся радостным и брызжущим юмором мужчиной в расцвете лет. Ведя наше застолье с непередаваемым изяществом и торжественностью, он постепенно в блистательных тостах сообщил нам, что настают лучшие времена. Аида Никитична потихоньку объяснила мне, отчего душа Тадеоса Вагановича так ликовала. Он жил уже в предвкушении скорого возвращения в столицу его семьи, оторванной от родных пенатов из-за его назначения в совнархоз.
С самого начала работы в совнархозе ему было трудно примениться к новым, сузившимся масштабам деятельности. Годы выдались тяжелые, он чувствовал временами обременительность собственного несогласия с неизбежно возникавшим местничеством, но старался уверить себя, убедить, что это лишь временные трудности. И теперь, когда министерство возвращало свои кадры, Тадеосу Вагановичу сразу же предложили заняться «настоящей работой», которой ему так не хватало в последние такие нелегкие годы.
Фестиваль сладко храпел на девической постели Аиды Никитичны, поджав коленки к подбородку. Ему снились, наверное, машины, которым ничто не мешало беспрепятственно выходить готовенькими из его рук.
Таня, рдея от смущения за поведение мужа, вежливо спросила, кем теперь будет работать Тадеос Ваганович в Москве, и, услышав, что заместителем министра, удивилась:
— Нет, серьезно?
Все веселились и хохотали, и Сева Ижорцев, поймав невзначай руку Аиды Никитичны, тайком засунул ее к себе на грудь, под пиджак, прижал и тотчас отпустил. В этом неосторожном жесте была сдержанная радость молодоженов...
Перемены, о которых говорил Тадеос Ваганович, вскоре коснулись и нашего завода, выразившись совсем неожиданно. Пронесся слух, что Владимира Николаевича Яковлева от нас забирают. Наша отрасль преобразовывалась. Яковлева назначали заместителем министра.
В заводоуправлении гудели и волновались: кто же станет новым директором? В цехах шумели, собирались писать коллективное письмо, чтобы Яковлева не «забирали», поскольку именно его вместо себя оставил прежний Директор. И поэтому другого руководителя им не надо. Молодые рабочие посмеивались над этой затеей «стариков». Они уже были иным поколением и не так горячо принимали к сердцу проблему «Директор», как прежние звездовцы.
Лучич, когда к нему обращались с вопросами по этому поводу, отвечал, что завод — корабль крепкий, плывет себе в любой шторм, и какого бы директора ни назначили, даже если это будет кто-то со стороны, — он должен будет подчиниться традициям коллектива. Так что опасаться нечего. Пока все звездовцы на своих местах, они никому не позволят развалить свой завод.
Но тем не менее главный инженер пару раз садился и машину и ездил на прием к новому министру. Все немножко успокоились: раз сам Лучич проявил заинтересованность — на завод не пришлют абы кого.
— Мы «Звездочка» все-таки, — то и дело слышалось в троллейбусах и вагонах метро, когда заводские разъезжались со смен.
— Московская гордость все же.
Пассажиры, не принадлежавшие к такой элите, посматривали на говоривших искоса и с иронией: за полтора десятка лет уже смазалось в памяти новых москвичей это яркое, ласковое прозвище тридцатых годов. Столько в Москве стало заводов, да и новых, современных, что напыщенные разговоры старых звездовцев казались наивными.
Так что же, в конце концов, такая ли уж проблема, кто станет директором на заводе? Время гигантов — «отцов родных» — миновало: теперь нужен лишь деловой руководитель, умеющий справиться с планом. Любой директор подойдет, был бы характер не вздорный. Остальное — ладно, как-нибудь. Да и что, в сущности, это «остальное»?
«Звездочка»... «Гордость Москвы»... воспоминания! Забавы старичков. Минувшее прошлое.
Нас с Женей отвлекло в те дни от заводских дискуссий одно событие: Лялечка Рукавишкина вышла замуж. Свадьбу праздновали по всем правилам воцарившейся моды: был Дворец бракосочетаний, была кукла на радиаторе «Чайки», был банкет в ресторане «Прага», была невеста в тюлевом абажуре на голове, пышно именуемом фатой. Жених, в детстве Лялечкин одноклассник, молодой, миловидный и лысенький дельный инженер, работавший в Казахстане, приехал в Москву провести у родных отпуск, зашел навестить прежнюю подругу и теперь увозил ее сгоряча куда-то к себе на Байконур. Лялечка под фатой упорно ревела в три ручья, пока не привела в раздражительность официантов, задушенно хлюпая своим красным распухшим носом. Родители жениха и гости тоже слегка взвинтились и подкисли. Но мой Женя смотрел на нее сочувственно, и ему нисколько не казались комичными ни этот абажур, ни красный нос, ни слезоточивая неуемность Лялечки. Особенно было забавно, когда жених выволок Лялечку из-за стола и принялся с ней вальсировать, а она продолжала подвывать, точно попадая в тональность оркестра, как поющая собака.
На обратном пути домой, когда я шутливо прошлась насчет свадебных впечатлений, Женя вдруг заявил мне, что это ему стоило бы так лить слезы, да, да! Ведь это он теряет отличного сотрудника и преданного человека, и ничего смешного тут нет. Я тут же заметила ему, что его запал тоже довольно комичен. И я вообще просто в восторге, поскольку мне повезло и выдался такой веселенький вечерок, вроде эстрадного концерта. А Лялечка! Она, на мой взгляд, сегодня превзошла Юрия Никулина. Впрочем, если Женя произнесет всерьез еще хоть одно словечко, я просто упаду от хохота. До того все это комично.
Женя остановился как вкопанный. Мы уже вошли в наш подъезд и поднялись по ступенькам к лифту. Не обращая внимания на его побелевшие глаза, я нажала кнопку и с интересом ждала, пока лифт, лязгая и чавкая, спустится к нам в своей решетчатой клетке.
Лифт спустился, я открыла дверцу, но Женя продолжал стоять истуканом.
— Ну? — сказала я. Мы стояли по обе стороны ярко освещенной кабины с распахнутой дверцей, и никто из нас туда не входил.
— Ну?!
В этот самый миг хлопнула стеклянная дверь в подъезде, и вошли Яковлев с Ириной Петровной. Они поднимались к нам, о чем-то тихо беседуя, он держал ее за плечи рукой, она отрицательно покачивала головой, отвергая его неслышные доводы и улыбаясь.
Не глядя по сторонам, минуя нас, как бы даже не заметив нашего присутствия, они вошли в кабину, захлопнули дверцу и уехали вверх.
Мы с Женей остались внизу. Разделенные, мы стояли друг против друга. И в торчащих белых глазах Жени я увидела отчаянное смятение и боль.
Не знаю, верит ли кто-нибудь еще в существование жен — верных подруг. Девчонкой я запомнила эпизод из фильма «Депутат Балтики», где старый профессор, отвергнутый коллегами, в день своего рождения сидит вдвоем со старушкой женой у рояля, и по огромной пустой квартире разносятся слаженные звуки игры в четыре руки. В школе мы учили наизусть некрасовскую поэму о княгине Волконской. В печальной стойкости русских женщин я видела свой идеал; таким образом, я знала, какою мне следует стать.
Но ничего у меня не вышло. Почему? Ведь воспитывали, внушали, сама я к этому стремилась... Нет, я не сумела стать мужу верной подругой в те темные для него дни. Мы с ним оба не умели облегчать себе встречу с неудачей. Трудность борьбы нас не сплачивала, а разобщала. Почему — я и сейчас не могу ответить на этот вопрос. Может быть, мы слишком любим себя. Каждый. Может быть, наши души мельче наших идей. Или просто мы — люди не эпохи идеалов. Нас воспитывали на идеалах, а к простой практике поведения не приучили. И мы получились невыносливыми. Мы поклоняемся благородству, но сами его сотворить в собственной жизни оказываемся бессильными. Мы как речка, у которой один берег высок и крут, а другой — низок и илист. Так и течем.
Мы с Женей оказались не на высоте.
Мы перестали друг с другом разговаривать. Каждый жил как бы сам по себе, не обращая внимания на присутствие другого. Но страшна была не сама эта супружеская ссора, а спокойная холодность, с которой мы впервые единодушно приняли наш внутренний разрыв. Сначала мы легко, даже вроде бы в шутку, опустили бумажный кораблик в лужицу, там его поволокло струйкой, а там подхватили и взбурлившие воды и уносили его все дальше, но мы спокойно взирали на дело наших легкомысленных рук, ничуть не заботясь, что бумажному намокшему кораблику уже не будет возврата. Так начинается семейный крах. И те, которые потерпели кораблекрушение, знают, что начиналось оно из-за пустяка и незаметно. Незаметность — страшный враг. Она только и поджидает, что кто-нибудь легкомысленно отнесется к пустяку. А пустяк умеет мстить. Почище крупных потерь.
Мы были на пороге. Спокойные, равнодушные, одурманенные собственным спокойствием. Готовые ко всему.
Но судьба благоволила нам. Почему-то именно для нас, таких недотеп, она приберегала в заначке чудо.
Однажды вечером я вернулась с работы и застала Женю стоящим в трусиках возле стола. Он наглаживал свои парадные брюки.
— Лизаветочка, — сказал он, обращая ко мне сияющие темно-синие глаза. — Ну-ка, возьмись за стул и держись покрепче. Готово? Слушай. Мне предложили стать директором нашего завода. Ну, как штормяга? Не падаешь?
Я постаралась упасть ловко: так, чтобы угодить прямо к нему на грудь. Грудь моего мужа была твердой, теплой, широкой, и как я соскучилась по этой груди, по гулко и ровно бьющему торжественный марш сердцу, по радости единения!
Случилось чудо: бумажный кораблик взревел моторами, повернул вспять коварно спокойному течению и, на глазах обрастая мощью и силой, шел, мчался обратно к нам на всех своих алых парусах.
— Есть простая истина, — глупо бормотала я, целуя своего необыкновенного мужа и почему-то хихикая: — Чем выше должность нашего супруга, тем сильнее мы его любим. Как хорошо, что ты наконец до этого додумался. А то бы мы сто лет не помирились.
— Это не я додумался, — тоже не очень умно гоготал Женя. — Это Яковлев. Он настаивал на моей кандидатуре. Это была его идея, оказывается. Ох, да, забыл тебе сказать: завтра утром я иду к министру.
А на столе, торжественно дымя, стоял утюг на парадных Женькиных брюках...
Я уж теперь не помню, да и имеет ли для нашей истории значение, в каких брюках Женя впервые попал в кабинет к министру. Кабинет был ослепительно светел: блестел полировкой почти белый дубовый стол, обтянутые кремовой шерстянкой стулья и длинный, во всю стену книжный шкаф. Четыре окна, обрамленные легкими шелковыми занавесями, шпарили солнечными лучами, как четыре прожектора. Может быть, поэтому Женя плохо разглядел вблизи невысокого человека, вышедшего откуда-то навстречу ему по узкой бежевой ковровой дорожке на сияющем золотистым лаком полу. Женю сковало сознание того, что от предстоящего разговора многое зависит. Он уже прекрасно отдавал себе отчет, что не умеет нравиться людям с первого взгляда. Для него это всегда лишь дело случая, совпадение какой-то таинственной волны; но самое неприятное крылось в том, что если он не вызвал доверия, то он немедленно вызывал резкое неприятие. В таком случае Женя не мог рассчитывать даже на спокойное равнодушие. Поэтому первого знакомства он всегда опасался как огня.
Мой Ермашов был создан человеком действия, любил владеть ситуацией, а тут его угнетало полное бессилие и терзало сознание, что надо понравиться министру, что без этого «коллоквиума» ему директором не стать. Слишком большой скачок. Начальник цеха — и вдруг сразу директор. Почти невозможно.
Им принесли чай с лимоном, и министр сказал:
— Вам, собственно, не придется особенно себя внутренне перековывать. Начали инженером, станете директором. Я, к примеру, начинал землекопом. Мне побольше надо было в голове психологических переворотов произвести, чтоб стать министром.
Министр слыл среди специалистов эрудитом в современной технике. И он не отказывал себе в приятной слабости упомянуть о проделанном пути.
— Нет, — возразил Женя. — Нынче даже расстояние — понятие не только линейное. Если надо просто занять директорское кресло, то я не очень гожусь. Мне хочется возможности действовать.
— В каком направлении? — спросил министр.
— Реконструировать стиль и психологию производства.
Министр положил в чай дольку лимона, стал тщательно выжимать ее ложечкой. Он делал это слегка раздраженно, упрямо приподняв одно плечо; пусть хороший тон велит оставить лимон в неприкосновенности, но так вкуснее, мне хочется кисленького чайку.
— Например? Конкретно? Абрис стиля, который вы хотели бы внедрить? В первую очередь?
— Чистота.
— Что? Чистота?
— Чистота. И аккуратность.
Министр отхлебнул чай, выплюнул на блюдце лимонную косточку.
— Мне тут недавно заказчики сделали одно предложение. Присылайте, говорят, к нам наших специалистов в обучение на два года. А чему, спрашиваю, им столько времени у вас учиться? Отвечают: умению прямую линию по линеечке прочертить. Как раз за два года ваши к этому приучатся! Хорошо, говорю я, мы подумаем. Приезжаю к себе в кабинет, взял угольник и давай углы у этих вот столов мерить. И что ты думаешь, Евгений Фомич? Все косые! Нигде девяноста градусов нет. А? А на вид, глянь-ка, вроде совсем прямые. Взял и отказал. Пустая затея. Не сможем мы по линеечке, ни за два года, ни за два миллиона лет. Такая уж у нас, у русских, психология. На которую вы, уважаемый Евгений Фомич, собираетесь посягнуть. Сгоряча. Или по молодости лет?
Женя сидел на стуле прямо, вытянувшись, не касаясь спинки. Он не прикасался и к чаю.
— Но современной электронике без этого не бывать. И если умеют те русские, что летают в космос, почему бы не научиться и всем остальным?
Очки на блестящих никелевых дужках, тонкий нос и тщательно выбритый, но уже старческий подбородок — все это разом оборотилось к Жене, министр глядел изучающе и весьма настороженно.
— У нас вон был Левша, а тротуары-то в Москве до сих пор кривые! Я эту присказку потому рассказал, что человек-то неоднороден. С такой реальностью надо считаться. Завод головной в отрасли, не хотелось бы, чтоб ты его развалил... да что же ты чай не пьешь?
— Спасибо, — Женя отодвинул стакан. — Мне кажется, директор без прав самостоятельности — фигура малополезная. Он не творец в промышленности, а кресло.
Министр усмехнулся.
— У вас есть еще какие-то идеи относительно завода?
— Есть.
Несколько секунд стояла тишина.
— Ну что ж, — сказал министр, тоже отодвигая стакан. — До свидания, Евгений Фомич.
Женя позвонил мне с улицы, из первого попавшегося автомата. В трубке, естественно, неимоверно трещало.
— Нет! — услышала я. — Нет! Не вышло, Ветка. Он меня «не увидел». Алло! Алло! Да не тряси ты трубкой. Зло берет! Какая глупость. А я мог бы стать прекрасным директором!
Я тоже в этом верила. Светлый, яростный, самоотверженный Женька... он мог бы. Мог. Лучше всех других. Которые умеют показаться.
Часу в девятом вечера позвонил Яковлев и попросил нас подняться к ним наверх.
Дверь открыла Ирина Петровна. Даже дома она была в платье со своим излюбленным кружевным воротничком.
В столовой, на сервированном к ужину столе стояли две бутылки шампанского. Владимир Николаевич подошел к Жене, протянул ему руку.
— Ну, поздравляю.
Женя засмеялся.
— Неужели?
— Из рук в руки, — кивнул Яковлев.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





