ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

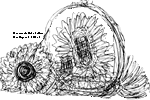
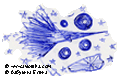
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Соротокина Нина 1991
Полюбил богатый бедную...
Марина Цветаева
I
Начну с того, что если бы среди вещей, оставшихся от матери, не было пишущей машинки, то эти записки не появились бы. Конечно, пишущая машинка не тот фактор, который толкает людей писать мемуары и рассказы, можно вполне обойтись шариковой ручкой, но память держит меня в плену и, ища в жизни связь времен, я угадываю, что машинка досталась мне с тайным значением.
Сразу же назову героев тех записок — я сама, геолог, тридцать восемь лет, мой муж, инженер, человек с легким характером и несколько старомодным именем Кондрат, моя подруга, а вернее сказать, наша с Кондратом подруга Инга с дочкой Ксюшей.
Все началось с июньского дня, я только что прилетела из Норильска, чтобы очень скоро опять вернуться на буровые. А пока мы сидим на берегу реки Пахры, сияет солнце — купальники, полотенца, огромная сумка со снедью — а вокруг нас такие же группки родителей, родственников и друзей, приехавших в лагерь к своим детям.
Пионерский лагерь построен на останках дворянской культуры прошлого века. От былого великолепия осталась белая, искрошившаяся лестница и длинный, похожий на манеж, дом — в нем игротека, а все остальное — спальные корпуса, столовая, котельная с трубой — бетонное, типовое, привычное. Здесь проводит свой первый лагерный сезон шестилетняя Ксюша. Путевку достал Кондрат, он работает в очень солидной организации, у них замечательные санатории, турбазы и лагеря. Инга противилась отъезду дочери — слишком мала, но Кондрат ее уговорил, детский сад тоже выезжал за город, и там девочка чувствовала себя вполне хорошо. В лагерном списке Ксюша значится нашей племянницей.
Этот день отличался от всех прочих тем, что у меня, как говорят романисты, пелена упала с глаз: то, что было предчувствием, стало очевидностью. В первый момент своего прозрения я даже не испугалась, а только испытала жгучий интерес и удивление — как я раньше до этого не додумалась?
Вот вся задрогшая от недавнего купания Ксюша пристает к матери: «Мам, плавать хочу, поучи, мам, хочу, хочу...» Девочку, как русалку, тянет в воду, и в родительский день она хочет накупаться за две прошедшие недели и две последующие. «Пойди, согрейся, — приговаривает мать, любовно оглаживая худую спинку дочери, — еще не хватало, чтобы ты простудилась после нашего приезда». Девочка капризно морщится, отбивается от материнской руки и, устав спорить, на коленях семенит к Кондрату: «Скажи маме. Все купаются, а мне нельзя. Я кувшинки хочу. У всех девочек есть кувшинки, а у меня нет». Инга отрицательно мотает головой: мол, нет, Кондрат, никаких кувшинок, придумай что-нибудь! Тот понимающе кивает и уже нашептывает что-то в любопытное ушко.
Тягучие Кондратовы сказки... не один раз Ксюша засыпала под историю про девочку с крылышками, эти сказки лечили корь и ветрянку, он умудрялся рассказывать их даже по телефону. Ксюша слушает внимательно, смотрит Кондрату в глаза и доверчиво теребит волосы на его груди, он весь шерстяной, золотистый, как орангутанг.
Иига тоже прислушивается, потом пододвигается к ним поближе, тянет за собой подстилку, укладывается удобно и замирает. Я вижу только ее гладкую спину, пучок волос, из которых вот-вот вылезет шпилька, на ее круглой розовой, как у нимфы, пятке блестит солнечный луч. И поверьте, первый раз за многие годы в душе моей рождается недоброе чувство к этому красивому, согретому солнцем телу, которое словно забором отгородило от меня мужа, и я явственно понимаю: они — втроем, я — одна.
Инга появилась в моей жизни шесть лет назад. Свела нас беда — при дурацких, нелепейших, обстоятельствах погиб ее муж. Я ненавижу искусственную геологическую романтику, мол, мы бродяги, мы странники, мы идущие впереди, поэтому гибнем чаще других. Погибнуть можно и в рейсе Москва — Сочи, а у нас грузовой вертолет раскрылся в воздухе, видно, разладилось что-то в его металлическом сердце, раскрылся и высыпал груз и людей, их было трое, прямо в Ангару. Двое из упавших каким-то чудом спаслись, а Женя погиб, даже тела не нашли. Инга осталась одна с грудной дочкой на руках. Вся ее жизнь съежилась до минимальных размеров, она словно и не жила, а брела ощупью, а у меня, как я теперь понимаю, была самая счастливая пора в жизни. Это был четвертый год замужества, когда мы с Кондратом вполне притерлись друг к другу и пылкая наша любовь с ее обидами, ревностью, ссорами преобразовалась в нежность — тишайшую, чуткую. Все мне тогда удавалось: защитилась, диссертация была пристойная, не более того, но хвалили неуемно, перешла работать в научный институт, и тема была моя — желанная. Меня даже тяготило это весомое бремя счастья, люди страдают, суетятся, а я гребу все блага мироздания под себя. Из-за этих угрызений совести я заходила к Инге гораздо чаще, чем делала бы это в обычную, пасмурную пору жизни.
Звонок в дверь, Ингины шаги в коридоре и радостный всхлип: «Наденька, как я тебя ждала». Первые полгода мы, кажется, только и делали, что говорили про Женю. Нет, не так, месяц или около того мы вообще обходили эту тему, говорили о книгах, искусстве, войне, мире, душе, о чем угодно, только не о нем, а потом как прорвало, все про Женю вспомнили, все фотографии пересмотрели, письма его последние зачитали до дыр. Инга уже не плакала: «Будем дальше жить. Мне Ксюшку растить надо».
Теперь она вся целиком принадлежит Ксюше, меня даже несколько раздражает этот доведенный до абсурда материнский инстинкт. Инга волевой, умный человек, но если дело касается Ксюши, она совершенно теряет голову, будь ее воля, она бы вернула дочь в свое теплое чрево и растила бы до совершеннолетия, оберегая ее от злой внешней среды.
Сказка, наконец, кончилась, крылатая героиня после довольно постных приключений долетела до какого-то там цветка. Ксюша, как зверек, подпрыгнула на четырех конечностях, бросилась к купальне и прямо с бортика плашмя упала в воду.
— Ксюшка, ты себе живот отобьешь! — испуганно крикнула Инга и тут же прыгнула вслед за дочерью. Только теперь Кондрат вспомнил обо мне.
— Надь, поплаваем? — голос его звучал виновато, почти заискивающе.
— Нет. Я буду загорать. Плывите с Ингой, я посмотрю за Ксюшей.
Река казалась зеленой от отраженных в ней деревьев. Запруда, поставленная ниже по течению реки, заставила Пахру разлиться на несколько тиховодных, почти стоячих проток, через них арками перекинулись мосты. Поросшие бузиной, ивняком и крапивой островки были украшены островерхими павильонами, все обветшало, выцвело. На мысу около беседки-ротонды примостилась лодочная станция, там орали транзисторы, лязгали уключины.
— Теть Надь, а они не утонут? — Ксюша сама вылезла из воды и теперь жалась ко мне мокрым плечом.
— Они замечательно плавают, — приговаривала я, вытирая девочку полотенцем, и обе мы внимательно следили за двумя головами над водой, вот они проплыли мост, скрылись из виду, потом появились опять, кружа на одном месте.
— Кувшинки рвут... — шепчет зачарованно Ксюша.
Еще, пожалуй, стоит добавить, что небо над Пахрой было низким, по воде, предвещая непогоду, бегали водомеры, а в кустах, не обращая внимания на гвалт сотен родителей, кричала какая-то птица, кричала жалобно, как заблудившийся котенок.
2
Еще вчера я была в базовом лагере под Норильском и остервенело-вежливо ругалась с Квасовым. Ругань наша была полна геологических недомолвок и острот, мой заместитель, из молодых, да ранних, все порывался популярно объяснить мне сущность поискового бурения, а сводилось все к тому, что в Норильском ГОКе (горнообогатительном комбинате) мы все равно ничего не решим и надо лететь в Москву уточнять программу. Кроме научных вопросов имелись житейские: деньги задержали, реактивы не выслали. Уже какой раз я попадаю впросак с реактивами — все подписано, оформлено, договорено, обещано, а реактивов нет. «Вот и поезжайте, вот и разберитесь», — приговаривал Квасов, и хотя я угадывала, что он горит одним желанием — избавиться от меня хоть на неделю и добуриться до центра земли, я поддалась его воплям и отбыла в Москву.
Что же все-таки случилось у нас с Кондратом? Так не бывает, чтобы все хорошо, а потом вдруг в один день стало все плохо.
Вся моя жизнь в дороге, слова эти чисто условные, моя дорога — это бездорожье: вертолет, трактор, а чаще на своих двоих по болотам, по гнилому лесу, телогрейка и гнус. Сказать, что я была счастлива в своей кочевой жизни, по меньшей мере наивно, хотя была там своя гармония и свой смысл. Жизнь «в поле» казалась мне куда более естественной, чем вторая половина года — в Москве. В партии я тосковала по дому, по мужу, по человеческому быту, дни считала, когда наконец вернусь, а из Москвы я вроде бы и не рвалась, но все было подчинено будущему лету, в Москве была передышка, а жила я там, в Сибири.
В нашей семье давно заведено — не провожать, туда я летела всегда одна, но встречи на вокзале и аэродроме были обязательны. Встреча — это пиковая точка: «Здравствуй, милый! Расскажи, как скучал?» — «Сильно», — неизменно отвечал Кондрат. Краше его в этот момент никого не было — высокий, веселый, собственный! А потом уже из дому звонок Инге: «Ну как у вас?» И Инга отчитывалась: «У нас дела обстоят так...» — бегло о себе, подробно о Ксюше, заботливо о Кондрате. Мне милы и естественны были эти подробности, кто же в мое отсутствие позаботится о моем Кондрате, как не Инга?
Так было и в последний мой приезд, с той только разницей, что я не стала звонить, села в автобус — приехала, я знала, что Инга дома. «Наденька, милая, мы тебя с четверга ждем». Как ни пытаюсь я теперь вложить в ее приветные слова обратный смысл, нечто вроде сыгранного смеха и иудиного поцелуя, ничего не нахожу, радость ее была вполне искренней, разговоры привычными: «Ксюша в лагере... Кондрат путевку достал. Погода отвратительная... Как бы она не простудилась там в лагере». Как всегда — Ксюша, Ксюшей, о Ксюше, и рядом Кондрат — помощник и заступник, все по добру, по сердечной дружбе, вот только бритва Кондрата в красной коробке — что делать ей в этом доме? «Зачем он бритву тебе приволок?» — спросила я простодушно, и Инга ответила спокойно: «Просил отдать в починку».
Эту бритву я подарила Кондрату на Новый год, вроде бы ей рано ломаться, но это бывает, иногда на другой день после покупки идешь в гарантийную мастерскую, и найди себе место поломанная бритва на подоконнике или в шкафу — не о чем разговаривать, но она стояла в ванной на полочке, стояла удобно, словно бы навсегда обосновалась в этом доме.
Ладно, пусть. Я и раньше встречалась здесь с чистыми Кондратовыми рубашками («просил забрать из прачечной», — объясняла мне Инга) и аккуратно заштопанными носками («просил привести в порядок»). Я не люблю и не умею ничего штопать, прохудилось — надо выбрасывать, Кондрат же, человек вовсе не скупой, но аскетически аккуратный, не давал мне спускать в мусоропровод им же самим выстиранные, прохудившиеся носки: «Зашей... это домовито, это мне маму напоминает». Но уж если проводить параллели я — Инга, надо вспомнить ее обеды, ее праздничные столы, вот готовит человек! Именно такие «наполеоны» — слоеные, промазанные кремом, посыпанные толчеными орехами готовила мифическая Кондратова мама, которую я знала только по рассказам, она умерла за год до нашей свадьбы. Кондрат много рассказывал мне про мать, правда, я позабыла половину, а Инга помнит, видно, он ей тоже рассказывал: нет-нет да и обронит какую-нибудь подробность из его детства, а Кондрат так и засветится — он очень любит говорить про свою мать.
Кондрат меломан, самая главная вещь в доме — «система», это проигрыватель, магнитофон, колонки, все очень дорогое, японское, с трудом купленное. Инга тоже обожает музыку. Кондрат ставит на проигрыватель новый диск, и оба отрешенно замирают. Моя ли вина, что у меня совсем нет слуха?
Все это мелочи, полюбил же он меня вот такую — немузыкальную, и не в слоеных тортах счастье. Дело совсем в другом — Инга красавица, медовая, тициановская. Я уверена, она была самой пригожей девочкой в детском саду, самой красивой в школе. Сейчас она большая, статная, волос на две головы, кожа на лице матовая, тонкая, на висках голубые жилки. Я ею всегда любовалась, обижалась за нее, уж кому-кому... иногда такая замухрышка — смотреть не на что, а все при ней: дом, семья, муж, а Инга почему-то обделенная.
Когда Кондрат ее впервые увидел, он очень смутился, так смутился, словно они раньше были знакомы и он в чем-то виноват перед ней. Я очень хорошо помню этот вечер, потому что мы поругались потом с Кондратом из-за какой-то ерунды. Была зима, Инга пришла к нам в шубе, у нее есть очень красивая шуба с капюшоном. «Кондрат, что же ты смотришь? Шубу-то сними», — сказала я, и он засуетился, замельтешил как-то по-глупому. Инга была как всегда спокойна, улыбчива, посветилась вполсилы, выпила кофе, потом заторопилась вдруг, и чем-то расстроил нас ее внезапный уход. Я не удержалась, спросила Кондрата: «Вы раньше были знакомы?» — хотя точно знала — нет, откуда? Кондрат так и ответил: «Нет, откуда, с чего ты взяла?» — «Очень ты вдруг засмущался». — «Это с каждым бывает. Просто я представлял ее совсем другой. Понимаешь?» — «Нет». — «Я думал, твоя Инга — кремень, сильный, уверенный в себе человек, а она такая беззащитная...» А потом мы поругались, убей бог, не помню из-за чего, три дня не разговаривали.
Ревновала ли я Кондрата к Инге? Никогда. Я слишком любила их обоих, а если и ревновала к кому-нибудь, так это к Ксюше. Как всякий ребенок, она была удивительным существом — громким, прыгучим, непостоянным в привязанностях и оценках, искренним и потому безжалостным. Кондрат иногда забирал Ксюшу из детского сада, обычно это совпадало с концом квартала, когда Инга была очень занята на работе. Осенью прошлого года в детском саду случилась неприятная история — во время тихого часа Ксюшу наказали несколько необычным по нашим временам способом. Правда, директриса объясняла потом, что Ксюша сама залезла в ящик для белья, а воспитательница, которая совсем потеряла с ней голову, будто бы бросила в сердцах: «Ну и сиди там, пока дети спят». Правдивая Ксюша по-своему освещала события: правда, был тихий час, правда, она смешила всю группу и не давала детям спать, но потом будто бы «Анна Сергеевна ка-а-к схватит меня за руку, ка-а-к вытащит из кровати... а потом посадила в холодный сундук и на ключ заперла».
Надо ли говорить, что Инге не понравились такие методы воспитания, но она как всегда сдержалась, не стала при дочери ругать воспитательницу. Кондрат сдерживаться не стал. «Это не детский сад, а бурса!» — кричал он на всю квартиру, а потом, глядя в чистые Ксюшины глаза, сказал: «Передай своей Анне Сергеевне, что если такое повторится, у нее будут огромные неприятности. Так она и места может лишиться». Не думаю, чтобы Кондрат действительно хотел таким способом свести счеты с воспитательницей, просто сорвалось под горячую руку, но Ксюша точно выполнила его наказ.
Надо хорошо представлять себе, что такое Ксюша, это не девочка, это гремучая смесь, ей нельзя приказать, ее нельзя уговорить, ей невозможно объяснить, ее можно только заговорить, как зубную боль, поэтому у взрослого человека, как бы жестоко он ее ни наказал, все равно остается чувство правоты. Видимо, с этим чувством Анна Сергеевна и выслушала на следующий день категорические Ксюшины слова и переспросила, несколько опешив: «Что у меня будет?» — «Огромные неприятности, — бесстрастно ответила Ксюша. — Это Кондрат сказал». — «Это твой папа?» — не унималась воспитательница. «Это не папа, но вроде папы», — строго ответила Ксюша. «Ах, вроде?..» Из-за этого «вроде» история получила продолжение, потому что уязвленная Анна Сергеевна не могла остановиться и, повинуясь скрытым силам инерции, добавила: «У всех отцы как отцы, а у этой вроде».
Конечно, Ксюша передала разговор матери, и, конечно, Инга пошла в детский сад — нельзя безнаказанно травмировать ребенка — это все понятно, но зачем я поддалась понуканиям Кондрата и тоже явилась к директрисе объяснять, кто есть кто, этого я сейчас понять не могу. Я пошла защищать не столько Ксюшину душу, сколько Ингину честь — от кого? От уставшей, неумной Анны Сергеевны? От директрисы, которая так ничего и не поняла, решив по простоте душевной, что Ксюша — Кондратова дочь от первого брака.
Через неделю я опять уеду, а они останутся вполне оформившейся семьей. А кто я в этой ситуации? Любимый герой довоенных пьес — дядя-полярник, редкий, но всегда желанный гость с подарками и романтическими историями, он появляется всегда вовремя и вовремя исчезает, а жизнь течет дальше, великолепно обходясь без этого экзотического образа. Тетя-полярница...
Эти трое стали семьей не в один день, почему же теперь я заламываю руки, ревную, плачу, лбом стучусь в стену, которую не пробить.
3
Мне лишь кажется, что я пишу о себе, свои проблемы решаю, ищу место под солнцем, хоть и поздновато это делать в тридцать восемь лет, а на самом деле это рассказ о моей матери, которая так и не нашла этого самого — обетованного края, слишком рано она ушла жизни.
Сейчас я расскажу свою детскую историю и постараюсь сделать это просто, как пересказывала раньше редким слушателям. Мне не было страшно в детстве, не страшно и сейчас, страшна была реакция моих собеседников — они каменели, и, глядя в их остановившиеся глаза, я думала: им страшно, а мне нет, значит, я не понимаю чего-то главного, и я надолго перестала рассказывать об этом, словно забыла.
Но я все помню, до странности подробно помню мать, хотя мы провели вместе очень мало времени. Помню нашу квартиру в Скатертном переулке, где все комнаты, коридор и кухня были сильно вытянуты в длину. Итак, длинный коридор, керосинка в углу кухни и большое, с черными проплешинами овальное зеркало подле вешалки. Мать ставила на керосинку сковороду, наливала подсолнечного масла, вываливала мелко нарезанную картошку и поспешно уходила в свою комнату — там ее ждали друзья, такие же геологи, как она сама.
В зеркале ярко блестело отражение стеклянной банки, в которую с мелодичным звоном падала вода из подтекающего крана, так же загадочно блестели мои отраженные голодные глаза, а сама я в тени: жалкие косички, кружевной воротничок на бархатном, перешитом из бабушкиного салопа платье — ухищрение послевоенного времени. Мне казалось, что это не я в зеркале, а моя шестилетняя подружка, которая тоже хочет полакомиться восхитительной едой, и я подмигивала этой нетерпеливой: «Сейчас, подожди, будет очень вкусно», и ворошила ножом картошку, шепча с шаманьей страстностью: «Жарься скорее, зарумянивайся...» Но картошка жарилась медленно, керосинка давала мало тепла, и я, устав ждать, хватала горячие, пахнувшие маслом ломтики, обжигаясь, толкала их в рот, виновато глядя на свое отражение, а потом, приглушив чуть-чуть голод, бежала по коридору к закрытой двери материнской комнаты.
Ничто в доме не притягивало меня так, как эта дверь. Иногда она была полуоткрыта, но даже если мать захлопывала ее с силой, перекошенный косяк оставлял широкую щель у пола. Я садилась у двери на корточки, смотрела, как из светлой щели клубится сизый дым, и слушала, затаив дыхание. Груды окурков в пепельницах, спитой чай в стаканах и разговоры на крике: про нефть, про газ, про уголь, про Таймыр, про наледи и медвежьи, не обнаруженные самим богом, углы. Друзья сидели на низкой тахте, застеленной клетчатым черно-белым одеялом, и я придумывала, что они рассаживаются на одеяле как шахматные фигуры и, ведя словесный бой, все время пересаживаются, меняясь местами, но выигрывает всегда мать, потому что она хозяйка, королева.
В то время, после многих мытарств, она, наконец, нашла работу, о которой не просто мечтала — грезила, ее ждала поисковая партия, Шпицберген, и перед ней, как всегда, стоял вопрос — куда деть меня.
Пытаясь теперь оценить события, я думаю, чего, кажется, проще, ну отпустила бы бабушка свою одержимую дочь на Шпицберген, а меня оставила бы с собой на Скатертном, ведь уже большой человек — шесть лет, могла бы днем, пока бабушка на работе, и одна побыть, а через год в школу. Наверное, этим бы и кончилось, не накались их отношения до предела. Я не нужна была матери, я связывала ее по рукам и ногам, но все счеты велись не со мной, а с бабушкой. «Ты настояла на этом ребенке, ты! Какое право ты теперь имеешь мне его навязывать!» — Не помню, произносила ли мать эту фразу вслух, но то, что она все время вертелась у нее в голове, в этом я уверена. А бабушка просто не понимала дочь. Сама мысль о том, что ребенок может быть помехой матери, что его можно не любить, пренебрегать им ради дела, была для нее кощунственной.
Я родилась, когда матери было девятнадцать. Шла война, она перешла на второй курс института, родня собирала по рублю — только учись! — и вдруг ребенок. Я не знаю, как жила она до моего рождения, на само ее имя был потом наложен запрет, а что можно понять из злобных, вдруг прорывающихся намеков родни: «Поперечная душа... семья для нее звук пустой... можно быть семи пядей во лбу, но если характер бродячий, так бродяжкой и помрешь», одно я знаю твердо — уже на втором курсе в свои девятнадцать она была одержима идеей освоения Севера и ради этой идеи была готова на все.
Аборты тогда были запрещены, о подпольной операции не могло быть и речи, весь семейный клан истово восстал против дела, которое было подсудным. Но не это становило мать. Есть много способов избавиться от ребенка, мать могла их все перепробовать, и то, что я все-таки появилась на свет, целиком заслуга бабушки. Дед воевал, и бабушка вбила себе в голову, что если она не убережет ребенка, то дед непременно погибнет. Конечно, она не только отговаривала дочь от аборта, она требовала, заклинала и следила за ней неустанно.
Отец не принадлежал к когорте материнских друзей, я вообще не понимаю, что свело их вместе. Сразу после моего рождения он исчез и появился много позже, когда уже и матери не было в живых. Самодовольный, смуглый человек с аккуратными черными усами — я не знаю, зачем он ходил в наш дом, наверное, от него ждали участия в моей судьбе, может быть, просто денежной помощи. Все это тайна уже неразгаданная, и не будь на его подвижном, чисто выбритом лице ухоженных, с колечками на концах усов, которых никто тогда не носил и на которые я таращилась с немым изумлением, я вообще не могла бы его вспомнить, тем более что после его последнего визита бабушка сказала: «Твой отец дрянной человек. Забудь о нем. Лучше никакого отца, чем такой».
Но все это потом, а пока мне шесть лет, мы живем в Скатертном переулке, бабушка меняет на еду последние, оставшиеся от довоенной жизни вещи, ждет деда, который пропал без вести в последние дни войны, хотя чего ждать, все говорят — лучше бы погиб. Мать целыми днями пропадает на службе, а по вечерам в своей комнате спорит с друзьями про геологию.
Наш высокий, сложенный из желтого кирпича, похожий то ли на склад, то ли на заводской корпус, одним словом невероятно казенный на вид дом стоял во дворе в окружении других, куда более породистых архитектурных собратьев. Двор был гол, ни кустика, ни деревца, я не любила в нем гулять, я любила сидеть на подоконнике и смотреть на крыши. Когда я хочу вспомнить что-нибудь хорошее из детства, то вспоминаю именно этот чистый, нарядный мир: голуби расхаживают по карнизам, трепещется от ветра белье на соседнем балконе, из-за трубы ухмыляется кошачья морда, алеет герань в полукруглом чердачном окне — там тоже живут, и крыши, как волны. Особенно хороши крыши на закатном солнце. В нашем переулке было мало неба, но уж если оно вспыхнет желто-алым светом, то отразится во всех окнах, карнизы станут выпуклыми, объемными, скаты крыш приобретут бронзовый оттенок, заструятся, словно водопады, а узорные воронки водосточных труб засияют коронами.
В тот вечер я как всегда сидела на подоконнике, а мать ходила по комнате злой походкой. Эта походка появлялась у нее в минуты крайнего раздражения, наверное, опять был разговор: и бабушка твердила неукоснительным тоном: «Помни, ты мать, а это самое главное». Мать ходила по комнате как слепая, задевала руками и ногами мебель, роняла вещи на пол. К друзьям она убегала почти неслышно, не касаясь пола, а теперь дом кряхтел под ее тяжелой, шаркающей поступью. «Саня, посмотри, как красиво», — может быть, я хотела отвлечь мать от смутных ее дум, а скорее, просто так сказала от эгоистической своей радости, закат был так хорош.
Мать остановилась рядом, всхлипнула странно, а скорее всего, застонала, и в следующий момент я ощутила толчок в спину, слабый, но болезненный, словно кончиками пальцев меня ткнули. Я инстинктивно подалась вперед... «Это рама, — уверяли меня потом, — это оконная рама колыхнулась от сквозняка и толкнула тебя в спину». Но я-то знала...
Когда с большой высоты падают взрослые люди, они от ужаса, от знания того, что их ждет, теряют сознание, и это иногда сохраняет им жизнь и дает возможность потом жить без ночных кошмаров и сердцебиений. Я падала в полном сознании — как кошка, как пьяный, как ребенок. Помню, я еще подумала, что надо махать руками, и расставила их с трудом, и ощутила упругую волну воздуха под влажными ладошками.
Накануне днем во двор привезли кучу песка и высыпали под нашими окнами. На эту кучу песка я и упала. Я не чувствовала боли, было только странное ощущение судороги, сжавшей все тело, и ясное сознание, что не надо двигаться, что после такого полета люди должны обязательно лежать неподвижно, прижавшись к теплому сухому песку.
Видно, перед тем как упасть, я крикнула, и, наверное, достаточно громко, потому что бабушка прибежала в комнату с кухни. Я помню ее истошный голос, пронзительный и жалкий: «Надя, где ты?» Она кричала, высунувшись по пояс из окна четвертого этажа, а я лежала на земле распластанным лягушонком и, не посмев повернуть в ее сторону головы, ответила: «Здесь». Я хотела еще крикнуть: «Упала!» — но смолкла, понимая, видимо, что любой крик это тоже движение моего отбитого тела, движение голосовых связок и мышц, гортани.
Когда бабушка сбежала вниз, вокруг кучи песка уже стояли люди и причитали негромко, боясь до меня дотронуться. «Скорую» вызвали?» — спросили бабушку. Она ничего не ответила, повалилась передо мной на колени, потом, кажется, легла рядом, шепча что-то вроде: «Сейчас... сейчас... будет, будет... господи!»
В толпе нашелся медицинский работник и, не дожидаясь «скорой», меня подняли, завернули в одеяло и понесли домой. Лестница, похожая на бесконечный, черный колодец, тошнота и головокружение — следствия сотрясения мозга. Когда меня принесли в комнату, мать сидела за столом, закрыв лицо руками. Ко мне она не подошла.
Потом — машина с красным крестом, белая и очень яркая в своей белизне медсестра, больница и холодные, остро пахнущие руки, которые безжалостно резали мое бархатное платье. Мне было жалко платья, и я капризно лепетала: «Снять же надо... снять!», а испуганная санитарка, думая, что я брежу, гладила меня по ноге украдкой: «Ой, лишеньки, лишеньки...»
Врачи разрезали не только платье, они и меня разрезали, вспороли, как рыбу — боялись внутренних кровотечений. Эта вынужденная операция надолго уложила меня в постель, кроме того, они мне все кишки переворошили, до сих пор мучаюсь от спаек и прочей дряни. Но все обошлось, никаких внутренних кровотечений у меня не было, зашили, положили в палату, запретили двигаться.
Это была палата для тяжелых, помню, там лежали обожженные дети, и за всеми ухаживали матери. Они подменяли друг друга, устраивали ночные дежурства, я тоже была на их попечении, потому что ко мне не пускали никого, даже бабушку. Матери кормили меня, выносили горшки, разговаривали о том о сем, но при этом не задавали лишних вопросов и всячески обходили причину, по которой я попала на больничную койку. Они знали только, что я упала с большой высоты и мне не надо об этом напоминать, но я сама выболтала главное. «Ну почему тебя столкнули, деточка? Кто тебя мог столкнуть?» В больнице мне было хорошо и уютно, поэтому я не задумывалась над своими ответами, говорила без всякой натуги, почти с улыбкой. «Мама меня столкнула», — ответила я и застеснялась, потому что никогда не называла так мать. Я звала ее Саня, так было проще и мне и ей.
«Нет, детка, — сказали мне женщины. — Этого не может быть». Их очень напугал мой ответ, и они наперебой стали уговаривать меня: «Тебе показалось. Это оконная рама толкнула тебя в спину», — и переглядывались друг с другом испуганно, и тут же бросались к своим детям, чтобы подать им теплое питье или поправить подушку. Меня слегка раздражала их бестолковость, и я опять пыталась объяснить, заставить их поверить в мою искренность, но они меня не слушали: «Не думай об этом. Тебе поправляться надо. Это оконная рама...» Внимательно слушал меня только следователь. Он появился в больнице на третий день: «Ну, давай знакомиться...» Он был уже не молод, очень худ, форма была явно ему велика, в палате было жарко, он все время потел и вытирал лоб и шею большим клетчатым платком. От него приятно пахло собаками. Может быть, это новый кожаный ремень источал терпкий запах, а может быть, я все придумала, потому что он так и не ответил мне, есть ли у него собака. Он вообще мало говорил, вздыхал, сопел, потом записывал мои ответы в маленькую книжечку, а матери сидели на кроватях подле своих детей и смотрели на него с неприязнью. В последний свой визит он оставил мне кулек карамелек.
Я вернулась к бабушке только через четыре года, когда погибла мать. Ей было двадцать девять. Вездеход ушел под лед, и, как потом рассказывали, в нем нашли смерть еще восемь человек. Как уж это случилось — не знаю, не понимаю, где в вездеходе могло уместиться столько народу. Наверное, преувеличили.
«Это возмездие, — сказала тогда бабушка. — Это бог». — «Но чем же другие виноваты?» Мне было тогда десять лет, и я не могла осмыслить столь сложные отвлеченные понятия. «Они все виноваты», — произнесла бабушка горестную фразу.
4
Это у Марины Цветаевой: «Не люби, богатый, — бедную, не люби, ученый, — глупую, не люби, хороший, — вредную, золотой — полушку медную». К этому я могла бы с полным основанием добавить: не влюбляйся в сироту. Сиротский комплекс... о! Я испытала его в полной мере.
После больницы я попала к тетке на Таганку. Не знаю, был суд или нет, но причастность матери к моему падению так и осталась недоказанной, потому что она той же осенью уехала на Шпицберген. Видимо, суд все-таки был, иначе как ее лишили материнства? Но это не беда, тогда это всех устраивало, хуже другое — бабушке тоже не разрешили взять на себя заботы о моем воспитании, и я, таким образом, была наказана больше всех. Не говоря уже о падении, больнице, я потеряла дом, в котором родилась и выросла, потеряла бабушку, которую нежно любила.
Таганская тетка была, собственно, не теткой мне, она была старшей бабушкиной сестрой, а я ей, следовательно, внучатой племянницей, но звала я ее тетя Маня. Не бабушкой же мне было ее называть, бабушка у меня была одна. Тетка Маня была добрым, застенчивым и как-то изнурительно-несчастливым человеком. У кого не было несчастий в то трагическое время? Но и радости были, куда же от них денешься? У тетки Мани не было радостей, и если пристало сравнивать судьбу с какой-нибудь водной стихией, то ее жизнь была никак не океан и не море, это прудик, но он не был стоячим, над ним прошли все шквалы того тяжелого времени. В тусклой ее жизни осталась одна мечта — поменяться на Ялту, город своей юности, но в этот квартирный обмен она так истово не верила, что придала своей скромной мечте поистине трагический характер.
Перед войной тетку «уплотнили», из-за чего ей пришлось стащить всю громоздкую дубовую мебель в одну комнату, стены плотно завесить картинами, миниатюрами, полками — чего там только не было, она жила в чудовищной тесноте, просторно было в этой комнате только швейной машинке «Зингер». К этой машинке тетка себя и приковала, шила она великолепно. Заказчицы были из «богатеньких» (теткин термин), расплачивались не столько деньгами, сколько продуктами, так что, если судить по нормам послевоенного времени, жили мы вполне обеспеченно.
Вечер, машинка стрекочет, я сижу на своей загороженной трельяжем кушетке и перебираю пуговицы в огромной коробке. Пуговицы у тетки были очень красивые, споротые со старинных платьев и кофточек: мелкие, как рисовые зерна, перламутровые, металлические с тиснением, глазурованные, с какими-то цветочками эмалевыми — были моими любимыми игрушками, почему же теперь я вспоминаю эту картину из детства с такой тоской? Если дали пуговицы, значит, веди себя тихо, как мышь, не мешай работать, не задавай вопросов, пока не позовут. Мне кажется, я только и делала у тетки, что сидела, задвинутая мебелью в угол, и перебирала пуговицы, даже во двор меня тетка отпускала с неохотой, она все боялась чего-то.
Каждый месяц я получала от нее новое платье — произведение изысканного вкуса, фантазии и бедности. Эти платьица долго потом кочевали из одного чемодана в другой, пока я их не раздарила, последние донашивала уже Ксюша. Платья были всегда сшиты из разных кусков материи: кокетка в клеточку, подол гладкий или наоборот, тут и шерсть, и бархат, и шелк. «Не обеднеют мои заказчицы, — говорила тетка, — главное, кроить, с умом». Я очень радовалась этим платьям, но носила их дома. Голодный послевоенный двор не любил сытых детей и нарядной одежды, во двор я надевала что-нибудь старое, немаркое, чем очень огорчала тетку. Странно, она всеми силами старалась стать незаметной, неотличимой в толпе, но если дело касалось ее портняжного искусства, осторожный инстинкт мимикрии отказывал ей, и мы долго спорили, в какой одежде я пойду во двор. Тетке хотелось, чтобы соседи воочию увидели, как балует она внучку-сироту, как жалеет.
Мои сверстницы возились с младшими братьями и сестрами, стояли в очередях, покупая по карточкам хлеб, бегали за керосином, и я, стремясь быть похожей на них и желая приобщиться к нормальной жизни, тоже выходила во двор с жестяным бидоном и спрашивала озабоченно: «Керосин привезли?» — и сочиняла целые истории, мол, нужен керосин, а денег нет, тетка забыла дать. Я видела жалость в глазах людей и, бессознательно спекулируя на своем сиротстве, сочиняла невероятные истории и с легкостью брала предложенные деньги и мчалась за керосином в лавку, а потом, понимая, что нелепо являться домой с полным бидоном — тетка потребует объяснений — тайно выливала керосин в укромном месте за котельной. Однажды меня застали за этим занятием такие же, как я — восьмилетние — и молча, непримиримо избили. Признавая их правоту, я никому не пожаловалась, но в керосинную лавку ходить перестала.
Тетка была чистюля и, решив приучить меня к аккуратности, вменила мне в обязанность (единственную!) вытирать пыль. Надо сказать, что для перегруженного ковчега, каким было наше жилье, это было отнюдь не простым занятием, каждую вазочку обмахни, ящики из-под кровати вынь, протри, даже книги мне приходилось глянцевать чуть влажной тряпочкой и всюду отлавливать, словно разноцветных жуков, лоскутки и обрезки тканей. Я ненавидела стирать эту невидимую пыль, мне казалось, что тетка нарочно придумала это занятие, чтобы лишний раз не пустить во двор, и под ее негромкое увещевание: «Надя, детка, протри еще буфет, видишь, я занята» — я думала, сознательно разжигая в себе обиду: «Конечно... я вам чужая. Меня все можно заставить».
Все это я вижу глазами взрослого человека, а наверняка семилетние мои, а потом десятилетние ощущения были не столь тоскливы, были у меня и радости, и успехи (училась я хорошо), и подруги были для шептания и задушевных разговоров, но все это осталось словно за кадром. Даже приходы бабушки — я ведь дни считала от встречи до встречи — и те вспоминаются с горечью, как один длинный безнадежный разговор.
Каждый ее приход был строго законспирирован. Не знаю, была ли у бабушки серьезная причина чего-либо опасаться или это тетка придумала скрывать ее визиты от соседей, но было что-то унизительное в том, что вначале бабушка звонила по телефону, не называя себя, потом тетка, как часовой, стояла у двери, рысью бросалась на три звонка (один длинный, два коротких) и, наконец, на цыпочках, прикрывая бабушку с тылу, уводила ее в свою комнату.
Бабушке было в ту пору где-то около сорока пяти лет. Изможденное лицо ее было нежно-голубоватым, словно акварелью прорисованным, уголки губ чуть опустились вниз и слегка кровили. Она осторожно трогала их безымянным пальцем и растерянно приговаривала: «Опять простудилась. В библиотеке такие сквозняки». — «Это не простуда, —строго возражала тетка, — это нервное». Я просилась домой. «Подожди немного, Надечка, — говорила бабушка, — пока нельзя. Запрещают. Потом я тебя возьму. При первой же возможности».
Но я не хотела ждать этой первой возможности, я хотела сейчас, а потому плакала и бабушку доводила до слез. Как я теперь понимаю, все четыре года бабушка ходила по разным высоким инстанциям, хлопоча за право самой воспитывать внучку, а я, сидя в углу и перебирая пуговицы, шептала себе под нос: «Не верю, не верю...»
Была во дворе любимая игра «веришь — не веришь». Протягивают тебе кулак, в котором что-то зажато, и говорят: «Фантик. Веришь?» Угадал — твой фантик, нет — плати штраф. Помню, я всегда «не верила», и хотя двор должен был привыкнуть к моему негативному виденью мира, я выигрывала в этой игре не реже, чем мои «верящие» сверстницы. И в разговоре с теткой вместо простых «да» и «нет» я часто говорила: «Не верю». — «Надя, иди есть. Суп стынет». «Не верю» — отвечала я. «Ты уроки сделала?» Опять — «не верю». «Что — не веришь?» — не понимала тетка. «Игра такая, — говорила я, — не верю».
Но не дворовая игра выучила меня такому словосочетанию. Живя в теткином архаичном быте, я сама становилась старушкой. Как всякая сирота, я была неуверенна в себе, ранима, мнительна, я нуждалась в ласке, как в хлебе насущном, и получала ее любым путем — заискивая, фантазируя, оговаривая себя и других. Трудно сознаться себе в этом, но, видимо, такой я осталась на всю жизнь. Какую семью построить я могла, вообще не узнавшая в детстве, что такое нормальные семейные отношения? Сиротский комплекс, сиротский опыт — кому он нужен?
5
Бабушка умерла, когда я училась на первом курсе института, умерла внезапно, сидела на кухне, пила кофе, вдруг закашлялась и упала. Я не хочу рассказывать на этих страницах ни о жизни нашей вдвоем, ни о ее смерти. О дурном, смутном — само пишется, я словно груз с души сбрасываю, а бабушка — табу, помню о ней всегда, писать не могу. Если о ней писать, это будет совсем особая повесть — о нежности, о добродетели, о верности долгу. Земля ей пухом — моей бабушке.
После ее смерти в доме появилась тетка, не та, с которой мы жили на Таганке, той, против ожидания, удалось воплотить свою мечту — она уехала в Ялту, а другая, двоюродная с дедушкиной стороны. Я очень богата этими «внучатыми тетками», отца нет, деда нет, дяди — ни одного, но в любом городе средней полосы, если хорошенько поискать, можно обнаружить тетку с бабушкиной или с дедушкиной стороны. Эта тетка была из Калуги, она приехала с искренним желанием помочь и утешить, но делала все это как-то бестолково, любопытничала излишне, поучала и все время толковала про обмен: «Все равно отнимут. Кто тебе позволит жить в этих хоромах? Непонятно еще, как у вас раньше не отняли эту квартиру?» В конце концов мы так и поступили, обменяли наши длинные комнаты, и сделали это очень выгодно, нам еще деньги заплатили, на эти деньги я и кончила институт, но это к слову, не об этом речь.
Не затей тетка этого обмена, я, может быть, и по сию пору не унаследовала материнских вещей, потом что не подозревала, что в дальнем углу на антресоли покоятся два туго набитых чемодана. А во время переезда, когда всю квартиру перевернули вверх дном, они и обнаружились. «Это материно, — сказала тетка с жесткой, чуть ли не брезгливой интонацией, — хочешь — себе возьми, хочешь — выкини».
Я отнесла чемоданы в свою комнату и той же ночью на обломках нашего быта — все в квартире было разворочено — ознакомилась с их содержимым.
Удивительно, как мало остается от человека. Бабушкин скарб был тоже небогат — убогая одежда, мебель: шкафы да койки, чашки от разных сервизов и еще множество вещей, столь ветхих, что их не имело смысла брать с собой, там и бросили, но умершая бабушка была богата доброй памятью о ней, она оставила на земле мои слезы, горестное бормотание родственников, соболезнование соседей и печаль в глазах сослуживцев — в дом часто заходили библиотечные работники, негромкие интеллигентные люди, многих я не знала раньше, но они меня знали: «Наденька, чем мы можем помочь?» Все это я с особой силой ощутила, разбирая материнские чемоданы, и, не подозревая тогда о мудрости Конфуция, у которого вся религия вместилась в культ почитания предков, потому что только памятью о себе жив человек, ужаснулась перед страшным одиночеством моей покойной матери. Ее забыли, саму память о ней — прокляли, от нее не осталось даже могилы, ничего, кроме двух потертых чемоданов, схороненных в недрах наших антресолей.
В первом чемодане были какие-то платьица, легкие, летние, с осиной талией, с подшитыми стегаными плечиками и жгутиком сложенными поясками, еще бельишко, аккуратно уложенное (бедная бабушка!), босоножки-танкетки немецкие, две сношенные до ветхости записные книжки — адреса, телефоны друзей и организаций, обернутая в мешковину пишущая машинка и пачка фотографий, стянутых резинкой. Во втором чемодане были книги. Я, помню, подумала тогда, сколь велик был у бабушки ужас перед собственной дочерью, если, почитая книгу чудом из чудес, величайшим сокровищем нашим, она не позволила материнским книгам остаться в доме на полках.
Но рука моя потянулась не к книгам, а к фотографиям. На каждой была изображена мать, и везде одна, некоторые фотографии были волнисто разрезаны бабушкиной рукой, то от матери было отринуто чье-то лицо, то чья-то фигура, и только на одной, детской, лет восемь ей там, не больше, она осталась с бабушкой. Бабушка была совсем молоденькой, волосы плоёные, на плече искусственный цветок, а мать — личико строгое, нос курносый, уверенный и завиток надо лбом, про который говорили «корова лизнула». По этой детской фотографии я и вспомнила мать, она и на меня так же отчужденно смотрела, словно в линзу фотоаппарата, и завиток этот до дрожи был знаком, она вечно наматывала его на палец, наматывала в два оборота, и распускала, и опять наматывала, глядя куда-то в пространство. На всех прочих фотографиях она улыбалась незнакомой мне улыбкой.
Какой же все-таки она была, моя мать? «Стервой, — сказала калужская тетка, — скука ее глодала, только с рюкзаком и могла жить, да в сапогах, да в телогрейке, а ребенок свой, как заноза в теле. Злая она была, вздорная». — «Да я не об этом, я не про характер спрашиваю, про душу». — «Не было у нее души, — сердилась тетка. — У нее вместо души черная дыра». — «Но ведь не себе же она уголь искала — людям». — «Если б люди знали, какой ценой за этот уголек плачено, они бы в холоде согласились сидеть. Не спрашивай ты у меня про нее. Я нервничать начинаю».
Бабушка могла бы мне многое объяснить, но я никогда не разговаривала с ней про мать, бессознательно откладывая этот разговор на потом, мол, вырасту, а пока, видно, не было у меня нужды в этом разговоре. До встречи с двумя чемоданами я нисколько не интересовалась матерью, была школа, спорт, друзья, институт, я жила только вперед, а мать — давно прошедшее, забытое, зачем ворошить? Я никак не была готова к встрече с ней, поэтому с немым вопросом смотрела на пишущую машинку — почему она именно материна и что она на ней печатала?
Или книги... почему такие? Десяток по дисциплинам: геология, несколько, довольно редких, по освоению Севера и вечной мерзлоты, а остальное — никакой беллетристики, только по искусству и философии. Ведь она была очень молода, носила модные платьица с плечиками и босоножки на пробковой подошве — зачем ей были нужны Кант и Шопенгауэр? Не экзамены же она сдавала по этим книгам? И видно, что все эти книги она читала и любила, на полях пометы, легкие, как птицы на детских рисунках. Нет, с моей матерью не так все ясно, как излагает калужская тетка.
Уже позднее, когда я стала читать материнские книги, читать заданно, как урок, я поняла, что мне не только любопытна собственная мать, но я хочу любить ее. В этом было что-то кощунственное по отношению к бабушке, ко всей ее жизненной позиции, но понимая это, стыдясь себя, я вдруг споткнулась о мысль, что не будь мы связаны с матерью столь трагической ниткой и встреться сейчас, то наверняка нашли бы общий язык, и кто знает, может быть, я вошла бы в круг ее друзей и получила высокое право сидеть на клетчатой кушетке.
Тетка давным-давно уехала в Калугу, я осталась в новой, тесной, бесприютной квартирке, за окном была зима на исходе, когда вот-вот начнет таять снег, а пока мрачно, сыро, грязноватый ледок заскорузлил сучья деревьев, голодные воробьи шныряют, как мыши. И ощущение полного одиночества...
Я не позволила материнским вещам смешаться с бабушкиными, поэтому чемоданы стояли на кухне, здесь же на полу были сложены книги, фотографии стояли на подоконнике. И вот, листая эти книги и вглядываясь в хорошо изученное миловидное, холодное лицо, я пыталась понять, как жила она последние годы, почему ни разу не вспомнила обо мне, не приехала, не написала. И как вообще может жить женщина, покусившаяся на жизнь собственного ребенка? Вывод напрашивался сам собой — она все забыла, но не так, когда говорят: «Я позабыл», но подсознательно помнят всю жизнь, она забыла в прямом смысле этого слова, будто резинкой по памяти прошлась, забыла накрепко и за поспешностью жизни не дала себе труда вспомнить.
В те серые дни и бессонные ночи и пришла ко мне болезнь, которая называется комплексом сиротства. Мне было жалко себя, и еще больше я жалела мать, потому что помнила ее всхлип над плечом, тот всхлип, который предшествовал толчку в спину. Этот всхлип все объяснял — она не ведала, что творила. Но тут же я говорила: «Предала меня... предала», и уже не в том я винила мать, что, загнанная в угол, она толкнула меня в смерть, в конце концов я жива, а в том, что она не сохранила себя для меня, лишила меня реальной встречи с собой в этой уже взрослой жизни.
Я перестала отвечать на звонки, ходить в институт, магазины, целый день сидела на кухне, читала и пила крепкий до черноты чай, который покупала еще бабушка — та жестяная коробка с завинчивающейся крышкой живет у меня до сих пор. Наверное, я слегка помешалась, потому что все в мире казалось мне предательством, и бабушкина смерть тоже, хотя сейчас, на трезвую голову, я опять говорю — да, смерть всегда предательство по отношению к живущим. Не бог весть какая истина, но и до нее трудно дойти.
Благословим суету — зачеты, экзамены, телефонные звонки, разговоры ни о чем, потому что именно эти неотложные дела вывели меня из состояния шока и душевного застоя. Потом все как-то отступило, и боль притупилась, но на многие годы осталось чувство обездоленности. Слишком нетиповой была моя жизнь. Я ощущала себя сиротой в полном смысле этого слова, я убогая, я из колбы, — у меня не было матери, потому что женщина с фотографии не могла ею быть по естеству своему и сути.
Однако вернемся к тому, с чего начали, к июньскому дню на берегу реки Пахры.
6
Прошла неделя, и опять воскресенье. В доме беспорядок, я сижу на полу, ем грецкие орехи и читаю Стендаля — словно сама с собой играю в прятки, делая вид, что ничего не произошло.
Всю прошлую неделю я пыталась устроить свои рабочие дела и, горя желанием исправить, объяснить, доказать и вывести на чистую воду, вела громкие безрезультатные разговоры. Все решал шеф, а он был в отъезде, и не где-нибудь, а в Марселе, у него там, видите ли, «Второй Металлогенический конгресс». Буквально накануне моего вылета из Норильска, дня за три, я с ним говорила по телефону, и ни о каком конгрессе слова сказано не было. «Прилетайте, мой друг, разберемся» — вот что он мне сказал. Мне хотелось спросить, что все это значит, но спрашивать было некого. Зуев лежал и больнице с радикулитом, аспирантка Сонечка, моя правая рука, уехала с сыном по горящей путевке в Симеиз, вообще все куда-то разъехались. На месте была только бухгалтерия, там-то я и получила вразумительные ответы. «Николай Николаевич до последней минуты не знал, полетит ли он на конгресс. Знаете, как у нас бывает?» Я знала. В бухгалтерии же мне сообщили, что командировка в Марсель рассчитана на десять дней, что реактивы высланы, но самолеты плохо летают, говорят, горючего мало, что деньги на всю группу мне скоро переведут, а пока надо подождать и не нервничать, Надежда Петровна, вот так-то. Ждать — худший совет в моей ситуации.
Стендаль «История живописи в Италии» — книга из материнского чемодана. Желто-черный, с потрепанным корешком том, имя автора в кружевной виньетке, на полях галочки, начертанные легким карандашом, а вот и выцветшее слово, похожее на «вздор». Птичками и непонятным словом мать пометила любовную историю средневековой дамы Бьянки Копелло. Я читаю прилежно, и вовсе не для того, чтобы отвлечься от прогорклых своих мыслей, нет, мне интересно. Уже какой раз в неуверенные и растерянные свои минуты я заглядываю в материнские книги, наивно надеясь найти в них ответ.
Сколько здесь, однако, убийств! Сыновья Медичи затеяли на охоте ссору из-за дикой козы (хорош предмет спора!), и старший дон Гарсио убил брата кинжалом. Отец-герцог не мог простить сыну братоубийства и убил дона Гарсио шпагой, мать не вынесла всего этого кошмара и умерла с горя. Было три сына, остался один — дон Франческо Медичи. И правда, «вздор» — так все бессмысленно.
В доме пусто. Кондрат ушел с Ингой гулять. Я сама не понимаю, зачем мне понадобилось объединить их сегодня, а потом вытолкать из дому, но всю эту процедуру я провела с поистине сатанинским упорством: «Вы идите, а я дома посижу, голова разболелась. Идите, погуляйте, лес — это замечательно, особенно в такую духоту. Да, сама придумала эту прогулку, но голова разболелась. Идите, идите же!» Не могу видеть их вместе, с глаз долой — из сердца вон.
Мне до мелочей знаком их маршрут — на автобусе проедут окружную, потом полем в Крекшино — это небольшая деревушка в десять дворов, лопухи, липы, гамаки дачников, колодец в мокром овражке. От колодца идет лесная тропа, она всегда влажная, а в том месте, где тропку пересекает ручей, земля так растоптана копытами, что образовалась топь, через которую невозможно перебраться, и они пойдут вдоль ручья до поваленной ивы и по ее корявому, поросшему мхом стволу переберутся на ту сторону. А на той стороне крапива в человеческий рост и, конечно, Кондрат скажет Инге: «Подожди, я тебе дорогу вытопчу». И вытопчет, потом руку подаст и осторожно проведет по ядовитому коридору. А дальше пойдут луга, и на пригорочке у высоковольтной мачты — там столько воздуха и синевы — они непременно сядут отдыхать. Кондрат закурит, потом они лягут навзничь, раскинут руки. Это наш любимый с Кондратом маршрут.
Я знаю, о чем они молчат, знаю, о чем разговаривают. Ксюша в этом году в школу пойдет, сколько событий доме. Форму надо купить, «Букварей» два, «Математики» ни одной, письменного стола нет, а если покупать, так уж двухтумбовый, а сейчас таких не найдешь. «Не волнуйся, — скажет Кондрат, — что мы, стола, что ли, не купим?»
Итак, чинквеченто... Грецкие орехи — я их колю прямо на полу, орудуя мясорубкой как молотком — придают стендалевской прозе и всей истории Бьянки привкус чего-то взаправдашнего, сиюминутного. Орехи надо колоть не мясорубкой и не молотком, а аккуратно вскрывать ножом: вставь лезвие в то самое место, где был черенок, поверни чуть-чуть нож, крак... и на ладони лежат две половинки с желтоватым, причудливо изрезанным зерном. Но мне некогда деликатничать с орехами. Я разбиваю их почти в крошево и потом, неотрывно скользя глазами по книге, ощупью, торопливо выискиваю обломки зерен.
В старом каталоге — он тоже остался от матери — нашла портрет Бьянки Копелло. «Ее портрет, — пишет Стендаль, — находится в галерее во Флоренции. Не знаю, может быть, виной тому жесткая манера Бронзино, но только в прелестных глазах ее есть что-то зловещее».
Меня тоже пугает ее лицо. Как неузнаваемо меняются каноны красоты. Я не вижу никакого очарования в просторном лбе, в крепком носе, в тонких, жестковатых губах — большая, сильная женщина с полными плечами и стройной шеей, наверное, у нее, как и у Инги, прекрасно скроен торс. Но на Ингу она, пожалуй, не похожа, нет.
Я устала ревновать, вспоминать, делать выводы. Можно, я очень коротко расскажу историю Бьянки Копелло? Поучительная история. Она родилась в Венеции в доме богатого и гордого человека. Охраняя ее красоту и чистоту, отец запретил ей показываться у окон, выходящих на канал, — вся городская жизнь шла на канале, — а ей разрешили подходить только к маленькому оконцу, смотревшему в тесный проулок.
В это окно и увидел ее приехавший из Флоренции бедный торговец по имени Пьетро Буановентури. У них случилась любовь, Бьянка бежала из родительского дома, а гордый отец назначил две тысячи золотых венецианских дукатов тому, кто убьет счастливого любовника и непокорную дочь. Убивалось в те времена легко, по весьма доступной цене покупалась индульгенция, и это снимало грех с души. Но влюбленным повезло, на старом, груженном сеном судне они бежали во Флоренцию и поселились в скромном домике Пьетро. Бьянка никогда не выходила на улицу, а если садилась у окна, чтобы подышать свежим воздухом, то не иначе как закрывшись покрывалом. А что такое полупрозрачное покрывало, как не приманка для любопытных глаз? Покрывало помогает еще ярче выстроить в мыслях красоту молодой венецианки, которая была уже знаменита во Флоренции, потому что была «та самая Бьянка Копелло».
В окне и увидел ее великий герцог Франческо Медичи, единственный оставшийся в живых (охота — коза — кинжал — шпага...). Далее идет цепь интриг, тайных свиданий, предательств, и вот уже нет Пьетро Буановентури — убили, а она, Бьянка, пока еще любовница, а через несколько лет герцогиня, не только прощена Венецией, но и объявлена дочерью республики.
А вообще, при чем здесь Бьянка? Мало мне в своей жизни интриг, тайных свиданий и предательств? Друзья говорят, что мы с Кондратом очень хорошая пара, что у нас уютный гостеприимный дом, что ни у кого не чувствуешь себя так просто и раскованно, и вообще мы без предрассудков. Лучше бы они были — предрассудки, я не позволяла бы друзьям водить любовниц в дом, не разрешала бы курить в любой комнате и засиживаться допоздна за музыкой или картами, а завела бы в доме телевизор и, как во всех приличных домах, каждый день бы вытирала пыль и варила суп. У Бьянки Копелло тоже не было детей, но об этом после.
Первые годы совместной жизни мы с Кондратом согласно мечтали о ребенке, но отодвигали счастливый миг, жить было тесно, денег было мало, да и ритм жизни моей не был согласован с этим желанием — пять месяцев в «поле», а остальное безвременье — то отчеты пишу, то готовлюсь к отъезду. Потом квартиру купили и маленькую светлую комнату назвали детской, и опять мечтали, как все будет, пока мечты наши не сменились легким беспокойством. На всякий случай, не придавая этому особого значения, я сходила к районному гинекологу, потом к другому, платному, Инга помогла найти хорошего врача.
Анкетные бесстыдные вопросы... Почему-то особенно неприятно было то, что мои ответы, произнесенные отрешенным, старательно деловым тоном, заносятся в медицинскую карту. Вся наша любовь и нежность уместилась в тесных графах, отпечатанных типографским способом. «Травмы были?» — «Были, как не быть? И еще в детстве я упала с большой высоты». — «С какой?» — «С четвертого этажа. Если по теперешним нормам, наверное, шестой». — «Что же вы хотите, дружок?» — вздох и сочувственный взгляд из-под очков. Гинеколог была маленькой, опрятной старушкой с бледными, словно в хлорке вымоченными руками, тихим голосом и картавой, очень домашней буквой «р».
Если бы у нас был ребенок, разве Кондрат посягнул бы на это священное — семья? Ребенок — вот главное.
Дома я не рассказала подробностей, не произнесла окончательного приговора, только вбила клинышком в наши мечты осторожную фразу: «Подлечиться надо», и Кондрат, человек деликатный, расспрашивать не стал, поверил, а может быть, только вид сделал, что поверил.
У женщины не может быть большего порока, чем бесплодие, и даже Кондрату я не могла сознаться в своей беде. Я еще хитрила сама с собой: «А вдруг врач ошибся?», а иногда думала трезво: «Может, оно и к лучшему? Появись ребенок, профессию пришлось бы менять».
После визита к врачу наши разговоры о детской сами собой стихли, потеряли остроту, словно мы вообще раздумали заводить ребенка, потом-то я поняла, что это я раздумала, а у Кондрата мысль о ребенке стала неотвязной мукой.
Я давно заметила и продолжаю находить тому подтверждение, что если есть у этой золотой медали — женской эмансипации — оборотная темная сторона, то она в первую очередь касается мужчин. Женщины выдюжат, они сильные, а у противоположного пола обострилось чувство семьи, им нужно гнездо, защищающее их от невзгод и печалей жизни. Они хотят, чтобы в этом гнезде все было по правилам, чтобы соблюдались вековые традиции, они хотят быть реальной главой дома и особенно болезненно реагируют на семейные неурядицы, все-то им кажется, что их не уважают как должно, любят вполсилы, не нуждаются в их защите. Ребенок нужен был Кондрату как основа основ, как символ бессмертия, на него он должен был вылить свою нерастраченную любовь и получить право защищать и учить, с ним он мог быть сильным.
У Бьянки Копелло тоже не было детей, а герцогу необходим был наследник. И что же придумала эта мудрая женщина? Она имитировала беременность, весь двор знал, что герцогиню тошнит и хочется солененького, что фигура ее благодатно тучнеет. Когда пришло время «родов», она доиграла спектакль с полным самообладанием, кричала на весь дворец. «Новорожденного» младенца принес в рукаве верный монах.
Именно Бьянка Копелло толкнула меня к простой мысли — мне тоже нужен наследник. Бесплодие не такой уж порок. Мне ли не знать, что не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Я тоже могла бы имитировать беременность, это так просто, книги почитать и вести себя так, как там написано, а на шестом месяце уехать к тетке в Кострому, в Костроме у меня живет замечательная «внучатая» тетка, она все устроит и младенца в рукаве принесет, как тот монах. То есть нет, зачем же в рукаве? «Рожать» я буду в роддоме, «рожу» семимесячного, только надо заранее договориться с врачами и нянечками, говорят, что в каждом роддоме есть лишние младенцы, те, от которых матери отказались. Кондрат, конечно, сразу примчится в Кострому, но мы в роддоме, к нам пока не пускают. Уж если Бьянке это удалось, а за ней столько глаз следило, то мне-то...
Орех выскочил из руки, и я с силой ударила себя по пальцу мясорубкой. Я так и взвыла от боли и обиды, слезы хлынули из глаз. Ситуация была трагикомическая, когда не знаешь, плакать или смеяться. «Вот дура-то!» — кричала я на себя, зная, что бранные слова относятся только к разбитому пальцу и зверской боли, а в остальном, в мыслях своих я права: ребенок — единственный для меня выход, другого нет.
Кондрат с Ингой пришли из леса тихие, он сразу стал убираться, а Инга принялась готовить обед. Я из-за своей физической травмы не была пригодна для домашних дел. Они работали споро, на кухне пахло жареным луком и огурцами, а я сидела в углу, выставив вперед свой синий, распухший, кровоточащий у лунки палец — гостья на чужом пиру.
7
В понедельник я не пошла на работу, все равно там нечего делать, позвонила, сказала, что еду в управление, потом в библиотеку, а сама осталась дома. Мне необходимо было побыть одной, сосредоточиться. К вечеру все мои неясные порывы оформились в четкий, по пунктам расписанный план.
Я так размышляла: Кострома, тетка, разыгранная беременность — все это наивно и никому не нужно. Я решила идти к цели самой простой дорогой. Если Кондрат души не чает в Ингиной Ксюше, то, конечно же, он будет любить усыновленного ребенка, многие семьи так поступают.
Я знала, рассказывали, что взять ребенка на воспитание совсем не просто, существуют какие-то сложности, формальности, на преодоление которых нужно время, поэтому я решила заморочить голову шефу и во что бы то ни стало остаться в Москве на этот полевой сезон.
А вообще-то шефу можно все рассказать начистоту. Он человек крутой, громкий, он твердо знает, что стране нужны цветные металлы, что научная программа «это вам не хиханьки-хаханьки, здесь мозгами потеть надо», но он был умен, он умел слушать, он должен был меня понять.
Квасов — тот будет только рад, его-то старая программа вполне устраивает, потому что согласуется с его будущей диссертацией. Он спит и видит, как бы меня сковырнуть и крылышки расправить. Расправь, милый, на время, потом ты их опять за плечами аккуратно сложишь, дай только срок, это мне сейчас не до тебя.
Во всех продуманных и ясных ситуациях имелась одна трудность. Я решила до времени ничего не говорить Кондрату. Пусть он придет с работы, я ему дверь открою и скажу: «А у нас новость» — и проведу его в детскую. Я понимала, что столь ответственное решение надо принимать вдвоем, но интуиция подсказывала: молчи до времени. Я боялась, что у них с Ингой уже настолько далеко зашло, что разговоры о ребенке его не остановят, а только усугубят наш разлад. Зачем ему еще какой-то ребенок, если есть Ксюша? Если он воспротивится моей идее, бог знает, куда может зайти наш разговор. Поэтому я решила наиболее волокитную часть задачи — поиск ребенка и оформление бумаг — проделать самостоятельно, а Кондрата просто поставить перед фактом.
Ни одному человеку я не сказала о своем решении, просто пошла к юристу, надеясь получить от него дельный совет.
Юрист была женщиной. Очевидно, в ящике стола у нее лежала недовязанная кофта, потому что при моем появлении она резко бросила спицы, задвинула ящик животом и во время консультации — толковой и четкой — все порывалась открыть ящик и продолжить вязание. «Да, есть малютки, от которых отказываются матери, — сказала мне эта бессменная вязальщица, — и этих случаев немало. Но младенцев все равно не хватает. За младенцами очередь». — «Это долго?» — «Иногда по полгода стоят, но вы понимаете, здесь нет определенных правил. Иногда все решает случайность».
Выяснилось, что, по нашим законам, мать в течение трех лет имеет право решать — оставит она себе ребенка или откажется от него навсегда. В течение трех лет дети живут в Доме малютки, а матери-одиночки, и не только одиночки, любые матери, которые не хотят сразу взять ребенка, могут поправить свои личные, семейные и прочие дела и подготовить себя к материнству. В бесстрастном изложении юриста это выглядело гуманным и вполне разумным, но, выдав эту положительную информацию до конца, она круто повернула все на сто восемьдесят градусов, для чего опять открыла стол, схватилась было за спицы, но переборола себя, закурила и продолжила невозмутимо: «Вы понимаете, что здесь все очень не просто. Наиболее естественный случай, когда мать выходит из дома с рожденным ею ребенком». — «Да», — сказала я, кивнув головой, она меня завораживала, эта вязальщица. «А если женщина не хочет брать рожденного ею ребенка, то как ты ее ни уговаривай... — юрист развела руками, — и томится бедный ребенок в Доме малютки три года. Мать обязана его посещать, но не посещает... пьют, понимаете, развратничают... А на трехлетних детей спрос уже не тот». — «Может, не надо уговаривать?» — спросила я сомлевшим голосом. «Надо! — жестко отрубила юрист. — Из человеколюбия, из обычной порядочности. В каждом роддоме есть юрист, он и уговаривает. У некоторых матерей просыпается разум, и они забирают собственного ребенка. Ради этого стоит уговаривать».
Здесь она устала с собой бороться, открыла ящик стола и быстро принялась набирать на спицу спущенные петли.
Еще я узнала, что очередность на детей оформляется в исполкоме, кажется, в отделе народного образования, и перед тем как встать на очередь, я должна оформить справку о жилплощади, прописке, зарплате, получить справку от психиатра, еще что-то — много, всего не перечислишь, но главное, необходима справка о согласии обоих родителей, то есть меня и Кондрата, а это значило, что основная часть моих планов была построена на песке.
«Нет, голубушка, — мысленно разговаривала я с юристом, идя по улице, — если есть правило, значит, есть исключение. Что-нибудь придумаем».
Не буду утруждать воображаемых читателей этих записок подробным описанием того, как я шла к осуществлению своей цели, один разговор в домоуправлении чего стоит, люди так оскорбительно любопытны к чужим делам! А психиатр, какую справку он мне мог выдать?
«Посмотрите мне в глаза, внимательно...» — да он сам свихнулся на выдаче подобных справок! От него только и требовалось, что подтвердить, мол, я не состою у них на учете, а он стал проводить со мной чуть ли не гипнотический сеанс. И что самое ужасное — очередь в исполкоме была огромной. «Все хотят именно грудных, — сказала мне сочувственно сотрудница исполкома, — может быть, к концу квартала будет легче...» Но чем глубже погружалась я в хаос бюрократических разговоров, тем крепче становилось мое желание. «Лбом пробью, — говорила я кому-то враждебному моей цели, — хотите вы этого или не хотите, а у моей бедной матери будет внук. Мальчик, конечно, мальчик. Кондрат никогда не говорил мне, что хочет именно мальчика, но это и так ясно, всем мужчинам нужны сыновья. Все получится, все будет хорошо».
И тут, надо ведь, как случается в жизни, в коридоре нашего института, в пятницу, меня поймала активистка из месткома: «А мы деньги собираем на подарок. У Анны Сергеевны из бухгалтерии внучка родилась. Давайте три рубля».
В бухгалтерии пили чай, огромный торт стоял на столе. «Протвин Николай Николаевич вернулся из Марселя», — встретила меня Анна Сергеевна, — но на работе будет только в понедельник». Как ни странно, меня мало взволновало возвращение Протвина. «Я вас поздравить хочу, Анна Сергеевна», и не задержись я в бухгалтерии за чашкой чая, я не услышала бы примечательной истории, которая рассказывалась не один раз для того, чтобы подчеркнуть особое благополучие и дочери Анны Сергеевны и ее замечательной внучки. Оказывается, в этом самом роддоме (тут же следовал его номер, сообщенный для пущей правдоподобности) лежит брошенная матерью девочка, ей уже три месяца, но сестры, имелись в виду медицинские сестры, не хотят отдавать ее в Дом малютки — жалеют, привязались очень, а мать, негодяйка, уже и бумагу с отказом написала. «Это судьба, — сказала я себе, — мне нужен мальчик, но это не важно, если благосклонная ко мне судьба посылает девочку».
Я решила, что поеду в названный роддом завтра же. Вечером накануне поездки душевное напряжение мое, казалось, достигло предела, я была болезненно возбуждена и все ходила вокруг Кондрата кругами, примеривалась — сказать — не сказать и, наверное, не выдержала бы, сказала, если бы не оброненная невзначай фраза: «Инга завтра собирается ехать в лагерь и нас с собой зовет. Ты как, согласна?» Я увильнула от ответа, но вскоре позвонила сама Инга с тем же вопросом. К телефону подошел Кондрат: «Да... нет... конечно...» — все это мирным, добродушным тоном, а потом вдруг раздраженно: «На эту тему ты сама с ней разговаривай. Она бубнит что-то невнятное».
Не дожидаясь конца разговора, я полезла под душ. Вот сейчас Кондрат войдет и скажет: «Подойди к телефону, тебя Инга зовет». А я скажу: «Ты же видишь — я моюсь. Выясни все сам». Я успела вымыть голову и набрать полную ванну горячей воды и полежать в ней, пытаясь собрать в горстку расползающиеся мысли. Кондрат так и не позвал меня к телефону.
8
Субботний день выдался ясным, утренняя наша комната была залита горячим светом, с оврага в окно проник розовый, вольный запах цветущего клевера. Все казалось мне значительным, как знаменье, я быстро встала, быстро приготовила завтрак, но настроение мне слегка, именно слегка, на большее меня не хватило, подпортил Кондрат: «Ты так вчера и не сказала, едем мы к Ксюше или нет?» — «Ты поезжай, а я не могу, мне надо работать». И вообразите, он решил ехать один, без меня. Сколь двойственна человеческая психика: с одной стороны, меня вполне устраивало, что Кондрат уезжает на целый день, но тут же высвечивалась и другая сторона, в столь ответственный день он ничего не чувствует, он с легкостью оставляет меня одну и еще находит этому обидным тоном высказанное объяснение: «Ты вообще какая-то странная последнее время. Приехала всего на полмесяца и все время бежишь из дома, я тебя почти не вижу. И сегодня опять тебе надо работать». — «Поезжай, голубчик, поезжай, — отвечала я ему мысленно. — Ничего, скоро все изменится».
Он уехал, а я расплакалась, выпила огромную чашку кофе, потом, чего никогда не делала, накапала себе в рюмочку кардиамину и успокоилась. По дороге в роддом меня волновала только одна мысль, а вдруг Анна Сергеевна все это придумала, сочинила для красного словца?
Приеду, а никакой девочки нет, а если и были, то ее уже успели передать в Дом малютки.
Роддом, трехэтажный, длинный дом с фасонной лестницей, соседствовал с больничными корпусами, очень старыми, еще дореволюционными. Видно, здесь была земская больница, и от прошлой жизни остались огромные, неопрятные от седого пуха тополя и решетки на окнах первого этажа. Окна верхних этажей были раскрыты, и в них, опершись на подоконники набрякшими молоком грудями, торчали матери, все в одинаковых халатах, все кое-как причесанные, все крикливые и улыбчивые, а напротив, на газоне, столь же крикливая стая отцов. Казалось, что к запаху травы, пыли, асфальта примешивается запах грудного молока и детских пеленок, гул стоял, как на птичьем базаре: «Ваня, клубнику не носи, от нее аллергия... Сказали, в понедельник выпишут, приданое принеси... На кого похож, глаза какие?.. Грудь болит, грудь... как каменная... врач говорит, сцеживаться надо, а то мастит наживу...»
Я стояла рядом с безмолвно-восторженным отцом, очень молодым, крепеньким таким папашей, тоже смотрела на окна и думала, что за толстыми стенами этого человечьего улья лежит моя дочь и что я присутствую здесь в двух лицах: тоже бесстыдно свешиваюсь через подоконник, и жалуюсь на больную грудь, и стою в палисаднике, потому что пришла сама себя навестить. Потом окна стали закрываться. «Кормление у нас, кормление, — кричали мамаши, — сейчас детей принесут. Вечером приходите».
Я вошла в парадную дверь. У меня хватило ума не ловить за подол медсестер и не приставать к ним со своим вопросом, а пойти прямо к заведующей.
— Здравствуйте, мне стало известно, что в вашем роддоме находится трехмесячная девочка, от которой отказалась мать.
— Садитесь, пожалуйста. По таким вопросам надо приходить не в субботу. Вы меня чудом здесь застали. Сейчас ремонт, только поэтому я здесь.
Через пять минут холодок в ее голосе растаял, и стало очевидным, что мы понравились друг другу. Заведующая была моих лет, может, чуть постарше: вьющиеся волосы в короткой стрижке, глаза небольшие и какие-то опрятные, с очень чистыми, голубоватыми белками, а главным на лице был подбородок, большой, мягкий, барственный, в нем и сознание собственного достоинства, и какой-то бабушкиной доброты. Она неторопливо и деликатно расспрашивала, кто я, откуда, зачем, видно было, что она доверяет каждому моему слову. Мы разговаривали долго, телефон звонил, но она не поднимала трубку и, наконец, подвела итог нашему разговору:
— Это очень страшно, когда матери бросают детей, и не столько за детей, они и без них вырастут, страшно за матерей. Это чудовищно, противоестественно, это как болезнь. Но поймите меня, мы не можем отдать девочку человеку с улицы. Усыновление — это ряд формальностей.
— О, конечно, я готова, готова. Я была в исполкоме, я на очереди. Просто мне повезло больше, чем другим — я узнала про ваш роддом.
Bо время моих страстных заверений я протягивала заведующей справки одну за другой, она просматривала их мельком, кивала головой и все изучала, ощупывала меня взглядом, потом, наконец, решилась.
— Хотите посмотреть девочку?
— Да, если можно.
— Вот наденьте халат. И подождите меня здесь. Я скажу, чтобы приготовили девочку.
Она вернулась очень скоро, и мы пошли по длинному коридору мимо служебных комнат, потом вышли на лестницу. В стеклянную дверь было видно, как сестры развозят на каталках только что накормленных детей. С умилением провожая взглядом эти каталки, я думала о том, что надо купить коляску, пеленки всякие, что еще? Кроватку, конечно, и еще оформить отпуск, а отпусков накопилось за три года, все сразу не дадут. Мы спустились на первый этаж и уткнулись в свежевыкрашенную дверь.
— Пожалуйста, — заведующая пропустила меня вперед.
Комната была очень маленькая, на четыре детских кровати. Три из них были пусты, а на четвертой у окна лежал аккуратный пакет в теплой пеленке.
— Почему она лежит одна? — спросила я шёпотом.
— Но я же не могу пустить вас к детям. А девочку нам сюда принесли. Это изолятор. Из-за ремонта он пустует.
Кроватка была белая, металлическая, с очень высокими ножками и узкими перильцами, словно и не кроватка вовсе, а что-то из циркового реквизита — для фокусников, а может, из ритуального. От оконной решетки на кровать падала четкая тень. Вот она, моя девочка, ниоткуда, из колбы... розовый капор, челка рыжеватых волос, очень белое, как крахмал, личико — спит.
— У нее какого цвета глаза? — спросила я, чтобы что-то спросить. Заведующая усмехнулась, и я с удивлением заметила, что она волнуется гораздо больше меня. Собственно, я-то совсем не волновалась, я только не знала, как себя вести.
— Глаза? Серые, вернее, голубые. Надо у Тони спросить, у санитарки. Она все про Верочку знает. Это мы ее так назвали — Вера, — заведующая вдруг смутилась оттого, что слишком выспренно произнесла это имя. — Если вам не нравится, вы можете назвать ее по-своему.
Мы помолчали. Девочка почмокала губами, сморщилась от чего-то, но не проснулась.
— Может, вы хотите ее на руки взять? — спросила заведующая.
— Нет, нет, пусть спит.
Что-то в моем ответе, в тоне его или в поспешности не понравилось заведующей, и она спросила с деловой интонацией:
— Так вы берете Верочку?
Я молча кивнула.
— Тогда приходите в понедельник утром. Будет юрист, напишете заявление. Потом пройдете все формальности. Это займет какое-то время, но вы можете ходить к нам каждый день. Пусть она еще немного поживет на грудном молоке, — она коснулась рукой детской кроватки, — а вы за это время привыкнете друг к другу.
— Я забыла сказать, что муж у меня сейчас в отъезде и его формальное согласие...
— Главное как раз неформальное согласие, и чтобы человек был хороший, — она улыбнулась, еще больше расправив свой благодушный подбородок. Попрощались мы очень тепло.
Я вышла из роддома в состоянии легкого отупения, как после тяжелой физической работы, наконец конченной. Ватными ногами дошла я до остановки и, уже сев в трамвай, поняла, что ошиблась номером. Пустяшная эта промашка озлила меня гораздо сильнее, чем того заслуживала. Я сошла на первой же остановке. Все меня раздражало, и то, что моего трамвая долго нет, и то, что людей полно кругом — куда их несет в такую жару? Я решила идти пешком. Куда? Куда глаза глядят. Домой не хотелось.
Мысли о кроватке, ванночке и прочем реквизите младенца отодвинулись, осталось ощущение беспокойства, мол, имеются неотложные дела, не забыть бы, надо записать в книжку, и как-то не приходило в голову, что я могу прямо сейчас поехать в Детский мир и купить все необходимое. Я думала о другом. В мельчайших подробностях представляла я себе, как вхожу в комнату с ребенком на руках, а Кондрат поднимается мне навстречу. Я видела кресло в углу, и как он сидит в этом кресле, и как он поднимается с изумленным, смятым лицом, но чем-то меня не устраивала такая встреча, и я, как режиссер, меняла мизансцену: лучше я позвоню, а он откроет дверь, и я сразу, ничего не объясняя, отдам ему ребенка: «Подержи», а сама на кухню пойду, как ни в чем не бывало, а он пойдет следом с изумленным и смятым лицом. Все это я видела воочию, только на ребенка при этом не смотрела. Это была не девочка с рыжей, невесомой челкой — Верочка, а ребенок вообще.
Я брела вдоль домов, меняя направление, не глядя на названия улиц. На углу подле табачного киоска выпила воды из автомата, потом купила пачку сигарет и пошла в какой-то сквер над обрывом. Внизу растекались рельсы железной дороги. Я курю очень редко, только в минуты самых острых волнений, но сейчас я была совсем спокойна и, так же спокойно глядя на сигарету, подумала: «С этим надо кончать», — и с некоторым удивлением всмотрелась в свои руки — они будут держать ребенка. Опухоль на разбитом пальце спала, но сам он был сплошной синяк с черным ногтем. Ноготь наверняка сойдет, трудно будет пеленки стирать. Сигарета все время гасла, спички ломались. Зря заведующая сказала, что девочку зовут Вера. Имя мне не нравилось, но, конечно, его нельзя менять, Вера так Вера, дело не в имени. Кондрат наверняка скажет, что Вера замечательное имя, он вообще очень неприхотлив. По рельсам прошел неправдоподобно длинный, бесконечный товарняк, и я зачем-то стала считать вагоны.
Дело не в том, что меня это имя не устраивает, а в том, что ее уже назвали, если у девочки есть имя, значит, есть судьба, от меня словно независящая. Но это все вздор, я буду рядом, ее судьба станет моей судьбой, я буду заботиться об этой девочке и любить ее. Почему — буду? Разве я уже ее не люблю? Может, так и должно быть, любовь придет потом. И если у меня к ней нет пока никаких чувств, то у меня есть... Откуда пришло на ум это чудовищное слово — благорасположение? Не так надо думать, не так говорить! Не благорасположение должно быть в душе, а нежность, и я принялась искать ее в себе, расшевеливать, раскачивать, как маятник. В этом было что-то жалкое, как в детях, которые трут глаза, чтобы вызвать необходимые в данный момент слезы.
И зачем-то я вспомнила больничную палату и следователя, который спрашивал меня, шестилетнюю: «Тебе больно было?» — и я, зная, что надо ответить: «Больно», ведь на самом деле было очень больно, отвечала: «Нет... упала, и все».
К моей скамейке подошла женщина с коляской и села, укоризненно посмотрев на мою сигарету, как будто в этом дымном, прокуренном трубами городе моя сигарета могла как-то потревожить ее ребенка. Женщина была молоденькая, тихая, миловидная, ребенок в коляске — сплошное сияние белого и кружевного — воплощенное материнство. Я вспомнила западных мадонн и подумала, что в изображении материнства есть что-то необъяснимо пошлое. Женщина раскрыла книгу и стала читать, осторожно покачивая коляску. «Что она его трясет? — подумала я с неприязнью. — Спит — и пусть спит».
Я встала и пошла прочь. «Мне тоже надо купить коляску, чтобы трясти ее утром, днем, ночью — всю жизнь». Вот тут-то и пришла ко мне трезвость — холодная, родниковая: «Господи, что я делаю? Какой ребенок? Что я выдумала такое про ребенка? Разве можно брать в дом девочку только для того, чтобы поправить свои семейные дела?»
«Нет! Не только для этого, — завопила я себе в ответ. — Я хочу заботиться о ней, хочу любить, и если к этой девочке — Вере — я ничего не почувствовала, то ведь есть другие дети, надо поискать».
И опять разумное, опять бесстрастное — одумайся! Девять месяцев мать носит ребенка, а тебе понадобилась неделя — и вот она, готовая, трехмесячная. Вы ничем не связаны друг с другом, а скороспелые твои желания слишком тонкая пуповина. Ты же боишься ее, сознайся.
Да разве приспособлена я к тому, чтобы иметь ребенка? В сорок лет характер человека — это его привычки, его повседневная жизнь. А мои привычки — «поле», мои привычки — это копаться в керне день за днем, искать следы никеля и радоваться, какое богатое месторождение — три процента никелина! — вот мой характер. Послезавтра я увижу шефа...
Как только я вспомнила Протвина, то уже не пошла — побежала, не разбирая дороги. То, что в мой внутренний монолог вмешался шеф — я ясно представляла наш с ним разговор: буровые, ГОК, Госкомитет запасов — показалось мне чуть ли не постыдным. Мне о девочке думать надо, она меня в роддоме ждет. Скороспелые желания... тонкая пуповина... ах, как высокопарно! А разве не бывает так: утром познакомились, вечером поженились, не раздумывая, не размышляя, счастливо. А разве не бывает, что берут чужого ребенка в дом, а на раздумье и часа нет. Бывает, все бывает, но у каких-то других людей, я не такая.
А какая я? Можно, я в двух словах расскажу, в чем предмет нашего «научного» спора? Кондиционность залежи не вызывает сомнений, за два года мы это выяснили, и заниматься теперь надо не содержанием никелина, с ним все ясно, а ассоциацией рудных минералов в целом. Вся минералогическая экзотика гнездится в контактовых зонах, а там вольфрамит мелькнул. Мне надо преодолеть карьеристский напор Квасова, твердолобость буровщиков, им бы только поглубже, больше их ничего не интересует. А мне нужны не глубокие буровые, мне нужны мелкие и частые, чтобы охватить все месторождение в целом. Мельче и чаще, только и всего. Так все просто, но никто не может этого сделать, кроме меня.
Подожди, надо сосредоточиться. А как же заведующая? Она будет ждать меня в понедельник, в конце концов это просто непорядочно. И опять я поймала себя на том, что перед заведующей мне неловко, перед заведующей — не перед ребенком, который лежит в маленьком изоляторе. «Порченая я, — сказала я себе, — ненастоящая. Мне нельзя иметь детей».
Дальше пошло непонятное, потому что я совсем не помню, шла я или ехала мимо людных площадей, улиц и косых переулков. В памяти выстраивались только какие-то лавки на бульварах и скверах. Лавки стояли впритык и вытягивались в бесконечный диван, и на каждой я, видимо, курила, потому что пачка сигарет кончилась. Я целый день ничего не ела, но не в желудке, а в голове была пустота, и еще очень болели отбитые в босоножках пятки. А уже, оказывается, вечер, и я бреду по Скатертному, а вот и арка — вход в наш стар двор. Какие злые духи привели меня сюда?
Как мало изменилось кирпично-асфальтовое лоно моего детства! Первое движение к дому, к своему подъезду, взбежать бы вверх по лестнице, вонзиться пальцем в кнопку звонка: «Бабушка!» Нет, в дом я не пойду. Мне бы спрятаться где-нибудь, отдышаться. Я помнила здесь все закоулки и нашла себе пристанище в нише соседнего дома, отгороженной от мира штабелем фруктовых ящиков. Вон они — наши окна, из второго, освещенного закатным солнцем, я упала. Все вспомнилось: толчок спину — и я лечу, планирую раскинутыми руками, словно желая поймать поток встречного воздуха, который подхватит меня и не даст упасть — как страшно!
Я плакала от жалости к Кондрату, бедный, никуда он от меня не уйдет, разве сможет он меня бросить — сироту? Плакала по девочке, которую не смела больше называть по имени, зная уже твердо, что не возьму ее из родильного дома. Плакала по умершей матери, которая так и не станет бабушкой. Собранные с таким трудом справки — о жилплощади, зарплате, здоровье — я разорвала на мелкие клочки и осыпала ими фруктовые ящики. «Больно мне, больно», — кричала я мысленно следователю, как будто могла что-то изменить этим запоздалым признанием.
Первым человеком, кого я встретила в институте в понедельник, был Протвин. «Надежда Петровна, друг мой, простите за неувязку. Я до последней минуты не был уверен, что полечу на этот конгресс. Знаете, как бывает?» Дальнейший разговор с шефом был скор, деловит. Я правильно все рассчитала. Шеф умел понимать с полуслова, недаром он председатель Госкомитета запасов. «Но одного звонка мало, — уговаривала я Протвина, — необходимо обстоятельное письмо со всеми выкладками, без письма я не могу возвращаться».
Обстоятельное письмо к вечеру было написано, на следующий день я получила деньги по авансовому расчету и в среду утром улетела в Норильск.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





