ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

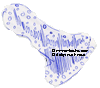

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Орлова Раиса 1985
Вот моя книга
(Из речи Р. Орловой в Гамбурге
на презентации книги
«Воспоминания о непрошедшем времени
в 1985 году)
Вот моя книга. Что я могу еще сегодня сказать о ней? Получается, будто я догоняю поезд, который уже ушел.
Но вопросы, которые мне задавали двадцать пять лет назад, относятся не только к прошлому. И сегодня, так же, как раньше, я с жгучим интересом читаю, как другие люди отвечают на эти и подобные вопросы, и сегодня, так же как и раньше, я не нахожу окончательных ответов. Для меня важнее то, что с нами сделала жизнь, что на нас влияло, нас формировало и деформировало, а прежде всего то, что сохраняется в нас, остается нашим личным, то, что оказывает сопротивление.
Я не хочу оправдываться, не хочу ссылаться на внешние обстоятельства. Я одна несу ответственность за свою жизнь, за то, что я сделала и что упустила. Мне было бы больно, если бы мое раскаяние использовалось политически, если бы этим злоупотребляли те люди, которые служили другим кумирам.
Строки Данте «иди своим путем, и пусть люди говорят, что хотят» и слова Лютера «на этом стою я и не могу иначе» я часто повторяла в юности, однако едва ли понимала их подлинный глубокий смысл. Сегодня эти слова для меня повеление: стой на чем стоишь, иди своим путем.
Для того, чтобы решить, на чем нужно стоять и какой путь именно твой, необходимо быть внутренне свободным. Борис Пастернак говорил: «Никто не может даровать мне свободу, если ее нет во мне самом». Найти свой путь и по нему идти — на моей родине очень трудно. Это и здесь нелегко, хотя здесь совсем иные трудности...
Эта книга с любовью посвящена первым читателям первых написанных страниц. Моя привязанность и моя любовь к тем, с кем меня разлучили, за эти пять лет изгнания стали еще сильнее...
Двадцать пять лет тому назад в Москве на моем письменном столе лежали несколько разрозненных листов, предназначенных для самых близких. Тогда я точно знала, кому я дам их прочесть, и могла снова и снова что-то изменить. А сегодня вышла книга — вышла по-русски, по-английски и по-немецки, и сегодня я уже не могу ничего с ней поделать [Первое русское издание книги вышло в издательстве «Ардис» в 1983 году.].
Мне страшно, однако поезд уже отошел.
Введение
Эта рукопись началась в 1961 году.
— Во что ты верила?
— Как ты могла в ЭТО верить?
— Во что ты веришь сегодня?
Вопросы звучали неотступно, звучали вокруг, звучали в моей душе.
И я спрашивала, допрашивала себя. До 1953 года я верила во все, вплоть до «заговора врачей-убийц». Горько оплакивала смерть Сталина.
В 1961 году признаваться в этом себе и другим было не только стыдно, но уже и странно. Росли новые поколения. Для них едва ли не бесспорной истиной было: «Верить в такое было невозможно».
А я верила. И не я одна.
Стремление понять вело, естественно, прежде всего к покаянию. Но сама исповедь стала и путем в мое прошлое, в детство, в юность, к людям, мыслям, событиям, которые уже и не имели прямого отношения к Сталину, к идеологии, к коммунизму.
Верования, убеждения тянутся из прошлого, их не изменишь по самому страстному желанию. У них своя логика, своя алогичность, свое органическое существование, свой ритм развития.
Эти воспоминания начались в год XXII съезда КПСС, принявшего решение (сразу же забытое) — поставить памятник жертвам «культа личности». В год, когда я прочитала повесть «Один день Ивана Денисовича».
Мне тогда казалось, что и моя страна, и партия, членом которой я была два десятилетия, тоже пытается очнуться, разобраться в том, что происходило с ней, что с ней сделали, что она сама сделала с собой. Верила я в то время в «коммунизм с человеческим лицом», еще не зная этого словосочетания.
То, что я писала, еще не противоречило ни тому, как я жила, ни тому, как жили все вокруг меня. Но со временем я все больше отстранялась от общей «генеральной» линии.
Воспоминания, возникшие внезапно, высыпались угловатыми, отрывистыми, разной формы, не связанными одно с другим. Они возникли не в отстраненности, не на покое, а тогда, когда я жила в самой гуще времени, пронизанная его страстями. В 1961—1962 годах был торопливо записан первый пласт этой рукописи.
Она продолжала расти без плана, отчасти и вопреки первоначальному замыслу.
Позже я стала пристраивать один кусок к другому, стараясь расположить события в приблизительной хронологической связи (но не в последовательности их осмысления). Однако внутри многих глав снова и снова прокручивались разные временные пласты.
В конце каждой главы поставлена дата написания. Сегодня я многое осмыслила — так мне кажется — глубже, чем вчера и позавчера. Но не хочу менять окраску, не хочу «задним умом», задним числом переписывать прошлый опыт. Потому во многих случаях оставляю документальность записи, синхронность времени — строительные леса.
Получилось, что здесь запечатлен не только поворот — переход от позавчера к вчера, но и от вчера к сегодня.
Оглядываться назад (в тридцатые, да и в шестидесятые годы) трудно, но я заставляю себя оглядываться.
Некоторые из окружающих меня людей не сочувствуют тому, что я не могу отделаться от своего прошлого, что оно меня мучает, что ко многим его страницам я испытываю и отвращение.
Они говорят:
— Ты же действительно искренне верила, не ведала, что творила, в чем участвовала, значит на тебе и нет вины.
Как соблазнительно согласиться. Но нельзя. Я обязана жить со своим прошлым, не забывать, совладать с ним. Изменить его не дано, но чтобы преодолеть его — стараюсь увидеть его таким, каково оно было.
Долго я не думала о публикации. Слишком все обнажено. То, что я пишу о себе, — дело мое. Но пишу и о других, а это не только мое дело. Потому некоторые главы о живых вовсе изъяла, либо сократила, либо не называю фамилий.
И когда я начинала, сомневалась — под силу ли мне хотя бы приоткрыть механизм прошлой веры? Могу ли понять смысл пережитого?
Зачем я пришла в мир?
Сомнения лишь усилились. Начала с вопроса и кончаю вопросом.
Для меня прошлое не пройдет никогда. Не проходит оно и для других, для живущих в мире, созданном нами, так верившими, так заблуждавшимися.
В моих воспоминаниях, в опыте одной судьбы читатель, быть может, найдет тропку, ведущую к пониманию времени: и прошедшего, и — что важнее — не прошедшего.
1.
Поезд Киев-Варшава
Ничего, до ужаса ничего не знаю. Какие там корни, какая генеалогия, не знаю даже имени-отчества своей бабушки, маминой мамы, той бабушки, которая долго жила с нами, умерла, когда я сама уже была замужем.
А сейчас стало необходимо узнать. Представить себе, увидеть поезд Киев — Варшава, в котором мои родители отправились в свадебное путешествие. Март 1915 года. Медовый месяц.
Летом 1937 года мне исполнилось девятнадцать лет, и мы с Леней пошли в ЗАГС. Моя свадьба. Считали это пустой формальностью.
Мы — муж и жена почти два года, но не объявлены, живем каждый у своих родителей. А хотим вместе. Всегда. Вот и надо регистрироваться. Надо еще и для прописки.
Отпраздновали и отправились в свое свадебное путешествие. Военно-Сухумская дорога, Клухорский перевал. В тяжелых башмаках, в нескладной одежде, — как далеко было до изящного обмундирования нынешних туристов, — с тяжелыми рюкзаками за спиной.
Разве у моих родителей могло быть хоть что-то отдаленно похожее? Они мне казались старыми. В 1937 году моему отцу было 49, маме — 47 лет. Сейчас мне исполнилось пятьдесят семь.
Дядя Сея — Моисей Михайлович Авербух — познакомил студента Киевского коммерческого института Давида Либерзона со своей сестрой Сусанной, слушательницей зубоврачебных курсов. Теперь они четверо — мама с папой и дядя с женой — в одной могиле.
В медицинский, куда мама стремилась, ее не приняли — процентная норма. А маме на роду было написано стать врачом.
Ее фотография, сделанная в Киеве в том же 1915 году. Длинное платье, почти сегодняшнее макси, высокие ботинки на пуговках, волосы ниже талии, распущены. Все круглое — глаза, щеки, подбородок.
Фотография стилизована, тогда надо было долго смотреть в аппарат, «делать лицо». Волосы так не носили. Никогда у мамы не было такого искусственного выражения. Впрочем, она вообще плохо выходила на снимках. Но и по этой фотографии видно — добрая. Наивная. Уверена, что все вокруг тоже добрые, что мир открыт для добра.
О чем они говорили в купе, что ей обещал тот юноша в очках — лицо тонкое, нос с горбинкой, руки аристократические?
Они ехали в Варшаву. Шла война, но до тылов не докатилась. Можно было еще проводить в Варшаве медовый месяц.
В маминой семье денег не было; платья ей переходили от старшей сестры, а от мамы — к младшей. Так же и у нас. Первое ненадеванное платье у моей младшей сестры Люси появилось, когда ей исполнилось лет двадцать.
Богатой была только свекровь, наверно она и дала папе деньги на поездку — чтобы все было как у людей.
В поездке мамины длинные волосы были заплетены в косы, косы уложены короной вокруг головы. В моей памяти она всегда с пучком. Долго-долго сохранялось это главное богатство — волосы. Я ее остригла месяца за два до смерти.
Мама очень любила ездить, может быть, с тех пор и полюбила, с того поезда Киев — Варшава, с того ощущения счастья?
У них чемоданы и дорожный сак. Моды во всем повторяются, теперь опять начали делать такие саквояжи. У папы, конечно, все завернуто, все аккуратно упаковано, все предусмотрено. И он очень любил ездить. Это у них общее.
Куда они ходили в Варшаве? Папа хотел в концерт или в оперу, но мама не понимала музыки. И не делала вид, что понимает.
Должно быть, просто бродили по городу.
Остановились в гостинице. Я видела подобную гостиницу в Каунасе: старый дом, вишневые плюшевые занавеси, такое же покрывало. Умывальник мраморный, тяжелый белый таз, белый кувшин.
А нам с Леней заработанных денег хватило лишь на общий вагон — две верхние полки. В вагоне очень душно. Едва ли не впервые не могу уснуть.
Доехали автобусом в город Ежово-Черкесск. Отсюда — в Теберду.
Я ни на мгновение не подумала про тот, другой поезд, Киев — Варшава. Как сейчас меня в него тянет. А тогда, в тридцать седьмом, до него и было-то рукой подать: всего двадцать два года. Сколько живых свидетелей, кроме мамы с папой. Собирай, прислушивайся. Но какая могла быть история — общая ли, частная ли, если мир начинался с нас, для нас, для нашего счастья и был сотворен?!
Вот и обрывалась нить за нитью, а связывать теперь гораздо трудней; не знаю — возможно ли...
В начале сорок пятого года я видела обугленные развалины, называемые Варшава, в артиллерийский бинокль с другого берега Вислы.
В 1956 году я ходила по улицам восстанавливаемой Варшавы, но и тогда не вспомнила, что сюда в свадебное путешествие приехали мои родители.
В 1916 году у них родился сын, назвали Мишей в честь маминого отца. С врожденным пороком сердца. Умер восьми месяцев. Осталась фотография — мальчик в гробу. Первый черновик моей судьбы — если бы не он, то я... Мама почти никогда о нем не говорила.
Все ей стало страшно — и любимый Киев, самый любимый город на свете. Родители переехали в Москву.
Уж и не помню, почему мы решили идти в ЗАГС в день моего рождения. Двойной праздник отмечали потом еще три мирных года... А в сорок первом Леня, служивший в армии, получил на несколько часов увольнительную. Только сели за стол — тревога. Бомбежка — первая бомбежка Москвы. Пошли в метро, далеко, тяжело тащить одеяло, маленькую Светку. Потом, до отправки моих родных в эвакуацию, я спускалась с дочкой в бомбоубежище в нашем дворе — в ресторан «Арагви».
В сорок втором я 23 июля поехала в Монино, там был штаб АДД — авиации дальнего действия; туда Леня возвращался после полетов. А в сорок третьем я уже стала военной вдовой. Опять поехала в Монино, на кладбище. Вернулась — дома полно цветов, собрались мои друзья, мама испекла пироги.
Наверно, и у нее в поезде Киев — Варшава были с собой пирожки, испеченные бабушкой. Все традиции на мне кончились, даже такая вечная, такая всем нужная — печь пироги к праздникам. Дочки, слава Богу, пекут. Не я их научила.
Январь 75-го года. Захожу, как всегда, к маме, и, как всегда, тороплюсь. Она не смотрит телевизор.
— Раек, посиди со мной, почитай мне Пушкина.
Сколько раз она хотела, чтобы я с ней просто посидела, но обычную эту фразу произнесла только один раз.
И я этого хотела (вероятно реже, чем она, но хотела). Однако в постоянной занятости, затырканности, разорванности — не получалось. Часто, очень часто расходовала я себя на людей чужих, даже чуждых, а для мамы — единственной, любимой, любящей меня — не хватало. Всегда хватало сил и возможностей, когда она болела, вызывать врачей, хватало денег, хватало еды. Не хватало времени, свободного пространства души — «только для мамы». Того самого, чем столь щедро одаряла нас она, одаряла своих детей и многих других людей.
Читаю Пушкина. Она подхватывает строки, строфы. Эти стихи она знает с детства, от своего отца. Как и все, что у нее было, отдавала, и стихи отдавала, одаряла ими других. Своих племянников — она была им нянькой. Потом нас. Потом внуков. Может быть, и в свадебном путешествии она читала папе Пушкина?
Теперь я читала ей. И еще не знала, как мало осталось до тех страшных предсмертных мартовских дней, когда внучки будут петь ей:
Котик серенький присел
На печурочке
И тихонечко запел
Песню Юрочке.
У мороза-старика
Есть дочурочка.
Полюбился ей слегка
Мальчик Юрочка.
Эта колыбельная у нас в семье передавалась из поколения в поколение:
Но не слышит и лежит
На печурочке,
Сном спокойным сладко спит
Мальчик Юрочка.
Мама боялась рожать после смерти первенца. Тем более в чужой Москве, где еще ни кола ни двора. Шла война. Родила девочку двадцать третьего июля 1918 года, на Садово-Черногрязской улице. И вскоре вернулась с девочкой в Киев — там сытнее, там родина.
Узнав о том, что папа ей изменил, взяла девочку и ушла из дому. Он долго выпрашивал прощение. И она простила.
Мои подруги часто делились с мамой своими сердечными тайнами. И моя бесконечно терпимая мама, почти не признававшая уходов, любовников, любовниц, — «семья есть семья», — не понимала, как можно сосуществовать втроем...
Вернувшись из Сухуми из свадебного путешествия, мы с Леней разъехались по родительским домам. Отчасти и по безденежью — последние три дня пути нам уже и на хлеб не хватало, нас кормили соседи. А до стипендии, до разных заработков надо еще просуществовать две недели.
И как же тепло было мне в родном доме, как вкусны мамины котлеты, мамины пироги — опять же праздник возвращения.
Папа уже был без работы после ареста своего начальника, да и раньше не было у нас полной чаши. Но у мамы железный закон: праздник есть праздник.
Папа называл маму «Су!» — это сначала или потом пришло, не знаю.
Стучат колеса, движется этот вагон в поезде Киев — Варшава, и два счастливых пассажира не знают, что впереди. Я не слышала раньше стука колес того поезда. А сейчас слышу все громче.
1975
2.
На берегу пруда
В Зеленоградской у небольшого пруда сидит девочка. Ей исполнилось пятнадцать лет. Она пришла из дому сюда на берег помечтать.
Слова, которые были всем понятны сорок лет тому назад, сегодня надо объяснять — девочка надела самое свое нарядное платье, оно называлось «татьянка» — сарафан с маленькими рукавчиками-буфами. Платье светлое, с цветочками, из шелковистой материи — сатина-либерти. Для девочки это платье ничуть не отличается от нарядов сказочных принцесс. Она ходит босиком. Она перешла в восьмой класс, но еще не перестала играть в куклы, только теперь скрывает своих кукол ото всех.
Утром на столе стояли букеты цветов, потом цветы начали ставить в ведра, а к вечеру вытащили детскую ванночку — в ней купают девочкиного брата. Так и запомнился этот день рождения — ванночкой с цветами.
Она сидит на берегу пруда, смотрит в воду, загадывает три желания: прыгнуть с парашютом, вступить в комсомол, поехать на Гавайские острова. Если загадаешь в день рождения, все исполнится!
Преодолевая страх, она прыгнет с парашютом, она вступит в комсомол, она никогда не поедет на Гавайские острова.
Среди трех ее желаний нет любви, потому что она влюблена и любима. Его все называют Точка — он часто повторяет «точка». Он перешел в ее школу из какой-то санаторной; она при всей наивности ощущает, что не надо спрашивать, почему. У Вити голубые глаза и светлые-светлые волосы, а девочка смуглая, лица почти не видно, все закрыто копной темных кудрявых волос.
Сначала Витя был мальчиком ее лучшей подруги, которая и привезла Витю на дачу в Зеленоградскую, а он влюбляется в девочку.
— Не смей. Она же моя подруга.
Девочка запретила Вите приезжать на дачу, но увидела в окно, что он бродит около дома. А она лежала с флюсом, щеку раздуло, завязали: похожа на зайца, пахнет шалфеем. Разве в таких влюбляются?
Мальчик вошел, присел на краешек стула, потом придвинулся поближе и не уходил до самого вечера, до последнего поезда. Безобразная повязка сползла, про зуб она забыла.
Мальчик говорил ей, что нельзя заставить себя любить или не любить — это падает на нас откуда-то сверху.
Витя потом ненадолго влюбится в другую; ей будет очень больно, но она ничего ему не скажет, она ведь запомнила, что нельзя заставить любить или разлюбить.
Он вернется к девочке, но все будет не так, как в то единственное лето.
В августе тридцать третьего года родители увезут Витю под Ростов, и он будет каждый день писать письма: «Я люблю тебя до самой березки» — это в «Хождении по мукам» сказано, что у каждого человека есть дорога, а в конце дороги свой холмик с березкой...»
Девочка ничего не знает про могилы. За этот месяц разлуки она вспоминает Витю, но вовсе не думает о нем все время. Вокруг нее много мальчиков. Она кокетничает, радуется, что на нее смотрят.
Радуется. Так и положено людям — радоваться. Много-много лет спустя слова о мире как юдоли скорби промелькнут мимо, она их не запомнит.
Зимой 34-го года Витя сидел в комнате с матерью и сестрой, читал Лермонтова; оставил раскрытую книгу, ушел в ванную и повесился.
Девочку вызвали с урока в учительскую, она слушала и не слышала, она не понимала слов «умер», «покончил с собой». О ком это? Самоубийством кончали герои книг... но не на самом же деле?
Я так и не узнала, почему он покончил с собой. Любые «потому что» неточны, недостаточны. Скорее всего это был приступ болезни. Психической. Тогда я в них не верила; пришлось поверить много лет спустя.
Витя жил на Мясницкой, 21, напротив того места, где станция метро «Кировская», тогда надо было от нас долго ехать на трамвае. Он лежал на диване, не он, а то, что осталось от него. Такие черные кожаные диваны стояли во многих кабинетах, потом кожа стала трескаться, вылезала «начинка» — вата; во время войны их сожгли или они как-то сразу канули в никуда вместе с «татьянками» и сатином-либерти.
Девочка тяжело заболела, родители не пустили ее на похороны, около нее дежурили друзья. На панихиде отчим Вити сказал, что советский юноша не должен так поступать. И помянул съезд партии.
Девочку вызывали к следователю на Петровку, 38. Почти все изменилось, а Петровка, 38 осталась. Ее допрашивали, ей было страшно и стыдно, что чужой человек дотрагивается до личного, тайного. Она больше плакала, чем отвечала на вопросы.
Она была защищена от зла, потому что не подозревала о его существовании. Следователь спрашивал: «О чем вы разговаривали? А не высказывал ли он враждебных взглядов?» И ей не надо было тогда твердить себе: «О мертвых — только хорошее, о тех, о ком спрашивают в таких местах, — только хорошее». Ведь это естественно, как дыхание. И она была совершенно беззащитна перед злом из-за этой самой наивности.
Несколько лет спустя ей без особого труда внушили, что зло — это добро.
Она одна пошла на кладбище. Ходила несколько лет. И перестала. Забыла эту могилу.
Но это я знаю, что впереди, а девочка сидит на берегу пруда и улыбается. Скоро она побежит на станцию встречать Витю, ей не хочется, чтобы скорее, ей хорошо сидеть так, то опуская ноги в пруд, то поджимая.
Все люди созданы для радости, и никто никогда не умирает...
1973-1974
3.
Юность
Я родилась и выросла в доме, где было много людей, где всегда кто-то ночевал, кто-то обедал, кого-то лечили, женили, устраивали на работу, провожали или встречали. Наша семья никогда не существовала замкнуто.
В дурное не верилось, хотелось прежде всего как-то от него отделаться, если можно — обойти, если нет — закрыть на него глаза. Трезвость отца, видящего людей такими, каковы они были на самом деле, скорее отталкивала. Да и он был так всегда занят работой, что до моих лет двадцати я немного о нем знала и общались мы редко.
Мама не допускала существования зла, особенно в ее мире, среди ее друзей, родных. Мир для нее отчетливо делился на «своих», где возможно только хорошее, и «чужих» — там, конечно, возможно всякое.
Я была председателем совета отряда, принимала красное знамя района, меня торжественно «передавали» в комсомол. А через два месяца я узнала, что меня не приняли, как дочь служащего. Это называлось «регулирование роста».
Тогда укрепилось, видимо, свойственное и раньше ощущение: есть что-то во мне неполноценное, недостаточно твердое. «Интеллигентка». И надо с этим обязательно бороться, вытравлять.
Мне было горько, что меня не приняли в комсомол. Но я не только убеждена была, что так и надо, но даже и вопросов не задавала — а почему, собственно говоря, так надо? Когда мою сестру Люсю тоже не приняли в комсомол, и по тем же причинам, она все же спросила меня сквозь слезы — а за что?
Переломным был семнадцатый год моей жизни — после самоубийства Вити. В 9-м классе меня во второй раз не приняли в комсомол. Я стала читать еще больше, чем прежде, на хорах Ленинки — Румянцевского музея, — один из самых любимых московских домов до сих пор. Читала Достоевского, Сологуба, Писарева, Леонида Андреева, Фрейда, Бергсона, Шопенгауэра, Ницше... Все это глоталось кусками, образуя немыслимую окрошку. Именно тогда в мою жизнь вошел Блок, чтобы уже никогда не уходить.
Читала я и учебники психиатрии, собиралась стать врачом-психиатром. В какой-то момент почувствовала, что сама начинаю терять грань между реальностью и бредом. Вот тогда, собственно говоря, и появились первые вопросы о смысле жизни — еще наивные, детские. Но семена эти долго не давали всходов. Институт (где меня, наконец, приняли в комсомол), снова собрания и походы, снова красное знамя, вечера, и газета, и спектакли — все это заменило внутреннюю жизнь.
Неуемная жажда деятельности, прежде всего участвовать, участвовать во всем. Все наше, мое кровное, какие тут могут быть думы, какие сомнения? Я жадно училась, читала все, что требовалось по программе, занималась общественной работой в институте, почти всеми видами спорта. Но этого было мало: мы с друзьями собрались писать историю советской школы, ходили на прием к наркому просвещения Бубнову (впоследствии расстрелянному), к секретарю ЦК ВЛКСМ Косареву (тоже расстрелянному), в «Комсомольскую правду» и в «Литгазету». Писали о взаимоотношениях профессоров и студентов; ездили в подшефный колхоз.
Надо было зарабатывать, и мы составляли сборник высказываний Марата; подбирали цитаты для книги «Ленин и Сталин о технике»; писали внутренние рецензии на стихи графоманов.
Студенткой третьего курса я начала преподавать в школе в девятых классах.
И все казалось мало, надо было больше, надо было уехать из Москвы — здесь слишком обычное существование. А нам необходимо было необычное — перелет, полюс, Комсомольск. Бежать, торопиться, не затеряться в тылу. Ни времени, ни сил не оставалось на вопросы, на жизнь духа. Да и нужна ли она?
И душа, едва-едва пробуждавшаяся, крепко и надолго уснула.
Между тем отсутствие вопросов вовсе не означало отсутствие ответов. Ответы были — категоричные, решительные, однозначные. Не мною выношенные, не мною выстраданные. Полученные из вторых рук, как готовые формулировки, выводы, законы, заклинания.
Однажды на комсомольском собрании в институте я сказала, что нужно изучать враждебную идеологию, иначе как же мы можем всерьез сражаться против нее? Но это были эпизоды, идущие наперекор основному течению жизни и мысли.
По характеру и по воспитанию и по самой обстановке домашней я совсем не была подготовлена к длительным, одиноким размышлениям, даже к самому пребыванию наедине. Прошло много лет, прежде чем я поняла, как это необходимо каждому человеку.
Я не отворачиваюсь от своей юности. Тогда возникло доверие к миру, ощущение добрых и ясных человеческих связей, то чувство локтя, без которого мне невозможно существовать.
Вероятно, тогда и родилась моя вера в бескрайность человеческих возможностей. Если эта вера не родилась со мной... Человек может все.
Я была очень счастлива в юности, я прошла университет счастья, не пройдя школы несчастья. Первая настоящая любовь — счастливая, брак — счастливый. Снова и снова укреплялось во мне — так надо, так нормально, человек рожден для счастья. А несчастье, горе — это отклонение, аномалия. В юности я не могла ни понять, ни принять мудрости «Крыжовника»: «Надо, чтобы у двери всякого счастливого человека стучал бы кто-то с молоточком, напоминая, что есть несчастные». А самой моей героиней была переполненная жизненной радостью Наташа Ростова. И все плохое, что происходило в моей жизни потом, казалось случайностью, отклонением. Я ждала счастья и была неколебимо уверена: все еще впереди.
Моя юность не была штюрмерской. Не было потребности протестовать; норма — это когда тебя все любят. В «диких криках озлобленья» я так и не научилась находить радость. Человек, казалось мне, должен жить в мире с собой и со всеми окружающими.
Никогда я не готовилась к лютеровскому «здесь я стою и не могу иначе». Я стояла там, где все. Там и была правда.
Потребность в успехе, в общественном одобрении — от ранних детских мечтаний — балерина, которой рукоплещут зрители, и дальше, дальше, через всю жизнь, преподавание, лекции, чтоб я нравилась, чтобы ко мне хорошо относились.
В семнадцать лет я прочитала «Капитал» Маркса, но не поняла эпиграфа: «Иди своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно».
1961
4.
Отец
Я уже почти не могу вспомнить его молодым и сильным. Я помню его старым, выбитым из седла, мягким, нежным. После тридцать седьмого года, после ареста Артемия Халатова, с которым мой отец работал с первых лет революции, он прожил еще двадцать три года. Его не арестовали, не выслали. Однако его первая и главная жизнь в 37-м году кончилась.
Мой отец, Давид Григорьевич Либерзон, учился в Киевском коммерческом институте, был из передовых студентов десятых годов, читал Ибсена и Плеханова, Ницше и «Коммунистический манифест» — я находила потом книги с его пометками на полях. Читал Горького и участвовал в студенческих сходках.
Самой большой любовью его была музыка, опера. Вот он на старой фотографии в костюме Мефистофеля. Он постоянно напевал оперные мотивы, он знал наизусть целые оперы, ему самому хотелось на сцену. Еще больше — за дирижерский пульт.
В последние годы он наслаждался проигрывателем. Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского у меня навсегда неразрывно связан с отцом так, будто я впервые услышала аккорды в его исполнении.
Он мечтал и нам привить любовь к музыке, меня учили пять лет играть на рояле. Водил меня отец в консерваторию, но то ли слишком рано, то ли из-за моей бездарности — не привилось.
С детства застрял в памяти семейный анекдот о том, как Мишель, младший брат отца, поехал за границу и привез оттуда два цилиндра — один себе, а другой капельдинеру Киевского оперного театра.
Мишель для меня существовал сначала в старом альбоме: красавец в театральном костюме, широкая лента через плечо. Вглядевшись, можно с трудом обнаружить черты семейного сходства. Он был партнером Анны Павловой, танцевал в балетной труппе Дягилева в Париже; во время Второй мировой войны перебрался в Америку. Постарев, учил танцоров, ставил ревю. Все мне было в нем неприятно — и то, что уехал за границу (правда, еще в 13-м году, потому что не хотел служить в царской армии; но ведь не пошел же в большевистское подполье, не стал борцом против империалистической войны — просто бежал!). Неприятно было и то, что избрал себе такую странную, не мужскую профессию. И хотя он для нас совершенно нереален, но жизнь он нам портит: папа с какого-то года перестал писать в анкетах, что у него брат за границей, а я писала везде — как это я могу сказать неправду в анкете? И никакими доводами меня не переубедишь.
В 1937 году в ИФЛИ — Институт философии, литературы, истории, где я училась, — отобрали несколько студентов, которые лучше других знали французский язык, и начали готовить для поездки в Париж на международную выставку. Работать гидами в советском павильоне. Наш преподаватель твердил нам: «Le premiere phrase doit etre brillante!» (первая фраза должна быть блестящей).
Мы учили по-французски речь Сталина о конституции.
Не пришлось мне произнести первую блестящую фразу, не послали в Париж на выставку. Быть может, и потому, что на вопрос, есть ли родственники за границей, я ответила: «Есть дядя в Париже».
В 1959 году Мишель приехал в Москву с труппой балета на льду. Они с отцом очень нежно встретились после сорока пяти лет разлуки.
Мишель воплотил часть отцовской мечты о музыке, аплодисментах, кулисах.
Но папино честолюбие простиралось дальше дирижерского пульта — ему хотелось управлять.
В двадцатые годы он быстро продвинулся. Иногда мне кажется, что честолюбие, которое и помогало ему, вместе с тем помешало с самого начала твердо определиться, выбрать дело, которому отдашь жизнь.
Сначала он был честолюбив за себя, а потом — за нас. Как настойчиво он просил, требовал, чтобы его сын поступил в аспирантуру.
Отец был человек очень способный и наделенный истинным талантом труда. Он начал работать мальчиком восьми лет на мельнице. А в тот день, который стал последним, он вышел из дома, направляясь к столяру заказывать нам новые книжные полки. Ему было почти 73 года. Став пенсионером, он томился без дела, раздражался, становился придирчив, нетерпим. Впрочем, совсем без работы он и не был никогда. Только после его смерти я поняла, как много домашних незаметных обязанностей он взял на себя. И работал он всегда красиво, все вокруг него было организовано разумно, аккуратно — его комната, письменный стол, его почерк — ровный, разборчивый, почерк с уважением к тому, кто должен прочесть.
Теперь я могу понять (и то, наверно, не до конца), до чего ему было отвратительно наше разгильдяйство.
Он входил в комнату к моей сестре, когда у нее собирались друзья, и брезгливо, ни к кому не обращаясь, говорил: «С ногами!» То есть на кровати сидите в ботинках! Она — как и я — обижалась, сердилась, грубила. Я чаще плакала. Смотрела я спектакль Товстоногова «Мещане» и, слушая Бессеменова (Лебедева), вспоминала своего отца.
Моя сестра Люся, выйдя замуж, ушла из дому к свекрови, хотя ее муж еще год служил в армии на Дальнем Востоке. Ушла и потому, что хотела быть самостоятельной, но и потому, что устала от нравоучений.
А ведь любовь и уважение к работе он всем нам передал. Но передал не проповедями, а примером.
Сам он вырос в странной семье, под перекрестным огнем двух прямо противоположных влияний. Своих бабушку и деда с отцовской стороны я никогда не видела, но слышала о них, особенно о бабушке, много. Она была властной женщиной, красивой, хотя мужеподобной. Родила четырнадцать детей. Мать-тигрица. Хищная, работящая, энергичная. Отправила старших отдыхать к морю, испугалась: а вдруг ее дети голодают? Выехала вслед, привезла сотню яиц, самовар ставила прямо на пляже.
Для нее существовали только свои дети. Помню такой рассказ.
— Кто это кашляет? — спрашивает бабушка.
— Не беспокойтесь, мадам Либерзон, это я, — отвечает товарищ детских игр отца, оставшийся другом до смерти.
Бабушка была хозяйкой бельевого магазина, управляла домом, трудилась от зари и до зари — этакая еврейская Васса Железнова. А муж ее маленький, незаметный, истово религиозный (он отмаливал грехи своей богохульницы жены) и пьющий. Она — все в дом, он — из дому.
Мой отец стеснялся своей семьи, своих родных. Устраивал родственников на работу: к нам они шли со всеми бедами. Попеременно у нас жили, ели, пили. Но при этом ни капли того, что называется родственным теплом, в его отношениях с ними не помню.
Мама за себя и за него горевала, радовалась, поздравляла, выражала соболезнования.
Когда у нас собирались гости, я слышала неизменные споры: мама всегда пыталась пригласить еще кого-нибудь из родственников, а отец был против. Уважал он только своего старшего брата Якова, одним из первых начавшего заниматься рентгенологией в России.
Кто это придумал, что эгоистами растут только единственные дети? В семье отца их было четырнадцать. И у всех множество разнообразных оттенков эгоизма.
Абраша — младший, самый больной, самый избалованный, самый незадачливый. В детстве у него обнаружили туберкулез (семейная болезнь), и сколько я его помню, его главная забота была — охранять себя.
В памяти шумная сцена — Абраша мечется по огромной нашей квартире, гонится за женой, он хочет ее ударить, а она забивается в угол. Кричат мои родители, кричу я, меня уводят. Оказывается, он приревновал жену к кому-то. Засыпая, я шепчу няне, что никогда, никогда не выйду замуж..
Вернувшись из эвакуации 30 апреля 1942 года, мы встретились с Леней после первой и единственной долгой разлуки. Мы вдвоем в нашей комнате в Москве. Мы забыли войну, мы не знали, что жить Лене осталось четыре месяца. Но мы твердо знаем, что у нас всего несколько часов, что после этого он должен возвращаться в часть.
Звонок в дверь, и на пороге появляется дядя Абраша. И как всегда требует много внимания, причем сию же минуту. Я возражаю сначала спокойно, а потом все больше распаляясь:
— Я потом с тобой обо всем поговорю, у нас с мужем считанное время.
Он не слушает никаких резонов. Его заботы, его просьбы всегда важнее всего на свете.
Отец тащил его на себе всю жизнь. Со всеми его болезнями, невзгодами. Ругал, но тащил.
Для папы было важно, как выглядит — дом, комната, семья, работа, он сам. Он и заботился часто больше всего о внешнем выражении, о результате, о том, что можно показать другим.
По профессии экономист, папа первую и главную пору жизни был помощником начальника — в Наркомпроде, в НКПС, в Госиздате, снова в НКПС — переходя из учреждения в учреждение вместе с Халатовым.
Должности его совсем не соответствовали его стремлениям: он писал статьи, а подписывал их Халатов. Тем больше росло честолюбие отца. Иногда это честолюбие удовлетворялось. В годы работы в Госиздате он знакомился с известными тогда писателями, снимался с ними (он вообще любил фотографироваться и хорошо выходил на снимках), участвовал в съездах, конференциях, совещаниях. Любил бывать в командировках. Несколько раз ездил за границу. Вершиной его успехов была поездка к Горькому на Капри в 1932 году. Горький знал отца еще с 1920 года, когда действовала созданная Горьким Центральная комиссия по улучшению быта ученых — Цекубу. Отец работал тогда в Наркомпроде, помогал Горькому, выполнял многочисленные его поручения. Потом он работал с Горьким в журнале «Наши достижения». У папы хранились книги Горького с надписями. Я совсем не ценила этого в юности. В одном из писем Горького Халатову есть такая строка: «...Передайте привет товарищу Сталину и Либерзону и Проскурякову...»
Как счастлив был папа, когда после посмертной реабилитации Халатова снова можно было достать это письмо и показывать его.
Знакомиться, сближаться с отцом я начала очень поздно. Я говорю не о дочерней любви, а о начале дружбы. Так, о поездке к Горькому папа впервые рассказал уже нам двоим — мне и Лене. Раньше я знала только, что он был в Италии.
Папа дома бывал редко, не помню в отрочестве сколько-нибудь серьезных разговоров с ним. Когда же он захотел со мной разговаривать, то я вовсе не поспешила ему навстречу. Установить отношения со мной, взрослой, отец не сумел. И спроси меня тогда, кто мне ближе, отец или подруги, я ответила бы: конечно, подруги.
Папа считал, что еще не родился тот человек, который был бы достоин его дочери, ревновал к Лене и не скрывал этого. К тому же мое замужество совпало с тяжелейшим периодом его жизни. А тут уж я оказалась глухой и слепой, не понимала его тревог, не разделила его горя.
Дружба наша началась во время войны. Отец очень гордился моей ответственной работой в ВОКСе — Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей. Ему импонировало все: иностранцы, приемы, встречи со знаменитостями... Может быть, ему казалось, что я хоть отчасти воплотила его не вполне сбывшиеся мечты об успехе.
В эвакуацию они с мамой увезли мою маленькую дочку Свету, писали мне прекрасные подробные ободряющие письма (куда бы отец ни уезжал, он писал нам ежедневно). Родители были рядом со мной в горе, когда Леня погиб. Меня с отцом сблизило мое вдовство.
Продвижение отца кончилось, но признать этого он не хотел, не мог. Его натура требовала беспрерывных действий.
Он искал другую службу, чтобы использовались его способности и опыт. Впрочем, везде, где он работал, его ценили и любили. Хоть он и был очень требователен, но при этом справедлив, от других требовал того же, что и от себя. Последние годы, перед уходом на пенсию, он заведовал корректорской в большой типографии. Он спускался вниз по лестнице должностей, и все повторялось: раньше он писал доклады Халатову, теперь писал все праздничные речи директору типографии, неплохому, но малограмотному человеку. И в этом отец находил крохи удовлетворения. Туда, в типографию, привезли гроб из больницы Склифосовского, там остался последний кусок его души, вложенной в дело, оттуда его провожали в последний путь.
Он не только искал новую службу, он пытался изменить профессию: он писал и настойчиво пытался печататься. Папа был бы великолепным архивариусом, библиографом, сотрудником энциклопедии.
Его попыткам печататься я сочувствовала мало, и он очень обижался. Мне не нравилось то, что и как он писал.
Я тогда еще не понимала, как важны воспоминания, документы, любой вид закрепленной памяти. Впрочем, папины воспоминания были настолько «отобраны», настолько «отредактированы» им самим, что и фактов оставалось немного. Если бы он действительно написал все, что увидел на Капри в доме Горького!.. Но он понимал или ощущал подсознательно, что об этом писать нельзя. И писал «как положено». Рукопись его воспоминаний о Горьком хранится в архиве, ею пользуются те, кто исследует историю журнала «Наши достижения». Другая рукопись его воспоминаний посвящена Вышинскому, с которым он работал в Наркомпроде, и исполнена похвал.
Его влюбленность в Горького я могла понять, тем более могу понять теперь. Но Вышинский... Разве мог он не знать, какую кровавую, страшную роль играл Вышинский?
...Ноябрьские праздники 1941 года. Куйбышев. Мы на торжественном собрании вместе с работниками Наркоминдела. Доклад делает Вышинский — в то время заместитель министра. И он вскользь упоминает свое меньшевистское прошлое, конечно, отрицательно. И он выражает надежду, что скоро, очень скоро все мы вновь увидим Москву белокаменную. И я вместе со всем залом хлопаю. И тому, что мне казалось мужеством, самокритичностью. И надеждам — все мы этим живем. Хлопаю. А это было после тридцать седьмого... Так что не мне осуждать отца...
В 1944 году отец вступил в партию. Ему было 56 лет. Я не совсем понимаю, почему он не вступил раньше, в молодости. Может быть, мешало социальное происхождение, боялся вопросов — ведь у матери был магазин?
А может быть, отец вступил и потому, что ему казалось — так кончатся неудачи и он снова займет место в общей жизни. Место — вовсе не блага, он не думал о благах во время войны, а место рабочее, трудовое. Может быть, и я тому причиной — я уже два года была членом партии.
Сколько я его помню, он боялся. Что же, он человек своего времени, у него было немало оснований для страхов.
В его шкафу лежал пистолет. Когда-то давно, в период хлебозаготовок, куда его постоянно посылали, он получил право на владение оружием. Но потом этот пистолет стал источником постоянных страхов. Он боялся, что пистолет отнимут. Он боялся, что спросят, кто дал разрешение.
Всех тех людей, всех тех, чьи письма, снимки и автографы он хранил, чьей дружбой он гордился, — их всех постепенно сажали, уничтожали; он выжидал некоторое время, а потом уничтожал письма и фотографии...
Он не поверил, будто врачи, лечившие Горького, хотели его убить. Этих людей он знал лично, знал П. Крючкова, секретаря Горького. Вряд ли он верил в какую-либо вину Халатова. Но запретил себе не только говорить об этом, но, вероятно, и думать.
Его привлекала сила и власть. Сила была в руках Сталина. И он хотел быть частью этой силы. Власть и сила Сталина привлекла таких людей, как Горький (а папа боготворил Горького) и Эйзенштейн.
Многие в те годы в нашей стране и за ее пределами испытали этот магнетизм. По натуре своей отец был вовсе не бунтарем, а примиренцем — и мне передал это по наследству.
Конечно, сомнения у него были, то усиливались, то ослабевали. Но он старался подавлять это в себе. Вероятно, и я этому способствовала. А потом, не зная, в значительной степени повторила его путь.
Я начала писать эту свою книгу через полгода после его смерти. Вряд ли он бы это одобрил. И не только по осторожности. Ведь и мне, и тем, кто проделывает тот же путь, мучительно трудно вылезать из старого. А ему, который уже не раз перекраивал себя, ему, который просто был на тридцать лет старше?
Отец умел не только хорошо, ладно работать, но и отдыхать. Отдыхать со вкусом, весело, выбросив из головы все мысли о неприятностях, о семье, о службе. Всегда привозил из санаториев и домов отдыха новых приятелей, вокруг него образовывалась компания, он был «душою общества».
Ухаживал за дамами — до конца не потерял к этому вкуса, не превратился в «старца», выпивал, праздничал. Умел и любил принимать гостей, преображался на людях, острил, смеялся, пел, танцевал.
Второго октября 1960 года мы решили отпраздновать издание первой Левиной [Лев Копелев, с которым мы поженились в 1956 году.] книги «Сердце всегда слева». Был накрыт стол, приглашены гости. Папе стало плохо днем, но он решительно потребовал: праздника не отменять.
Там, в столовой, сидели собравшиеся друзья, а я почти все время была в его комнате, вызывала врачей, «неотложку». ...Отец стонет на кровати. А ведь мы привыкли к его стонам, к тому, что он невероятно мнителен, не выносит боли. Чуть что заболит, сразу кричит: «Умираю!» В этот раз он не кричит «умираю!». Он просто стонет. А нам все страшнее и страшнее. Леша [Брат Р. Орловой (прим. ред.)] на руках носит его в уборную. Он вдруг стал совсем маленький, сухой старичок. А потом наступил коллапс, его велели срочно везти в больницу. И я повезла на рассвете. Лицо у папы было серое. Я сидела в коридоре с его вещами. Они были завернуты в коричневый купальный халат. Врачи мне не велели ждать, я вернулась домой, подремала и едва доехала до работы, туда уже позвонили: папа скончался. И я вернулась, не раздеваясь. Дальше все мысли были быстрые и пустые. Главное — о маме; она в Ростове, уехала отдыхать. Брат за ней полетел.
После похорон папы, дня через два, мы поехали за город. Просто погулять, прийти в себя. Нас вез на машине наш друг. И он сказал тогда: «Какое счастье, что последние годы папе было хорошо». Да, последние годы было хорошо. Мои друзья хорошо к нему относились, родители принимали участие в наших праздниках.
Прошло время, и я стала жалеть себя — кто еще так беззаветно меня любил, так властно, нетерпимо, ревниво желал мне добра, так радовался моим радостям, так горевал моими горестями. С ним ушло детство.
Я чаще думаю о нем после его смерти. И потому, что виновата перед ним и он уже никогда не узнает, что я не прощу себе тех долгих месяцев, когда я проходила мимо него, как чужая. Подойдет и мой черед, предстану и я перед той дверью, где спрашивают о грехах: грешна, Господи, отвернулась от отца своего... Не знаю, отпустят ли этот грех. Там. Здесь я себе не отпустила его и не отпущу.
Теперь лучше, глубже понимаю его заботы, поступки, даже раздражения. Понимаю его ответственность за семью и многое из того, что влечет за собой бремя ответственности, что означает «быть старшей».
Думаю о нем не только там, на скамейке крематория, у могилы, где ровная зеленая трава, а в те нечастые минуты, когда остаюсь одна, в бессонные ночи, едва отойдет, отодвинется повседневная засасывающая суета.
Как я его любила, какой невосполнимо взаимной силы была эта любовь и как это уже никогда не повторится.
1967
5.
Квартира
(После фильма Феллини «Восемь с половиной»)
Адрес дома, в котором я родилась и прожила полвека, раньше был Тверская, 24, квартира 12. Теперь — улица Горького, 6, квартира 201. По Тверской до Охотного ряда стояло двенадцать домов, теперь — три. Сняли трамвай, вместо булыжника появился асфальт, вдоль тротуара посадили липы. Менялся облик улицы, а квартира наша оставалась.
Она большая — сто квадратных метров. По официальным подсчетам — «полезной» площади 75 метров, на самом деле — меньше. Много коридоров. Правая часть квартиры раньше была сорокаметровой залой. И одно из первых моих воспоминаний — стол. Раздвинутый, прямоугольный стол с резными толстыми ножками, тот самый, под который мы, дети, ходили пешком.
Стол накрыт, много гостей, шумно: мне, наверное, впервые в жизни разрешили побыть со взрослыми. Меня сажают на колени, дают апельсин — не обыкновенный, оранжевый апельсин, как апельсины последующих лет, а красный, под названием королек.
Празднуется возвращение из Соловков мужа моей тетки. Нет, он не был ни врагом советской власти, ни ее невинной жертвой. Он действительно нарушал уголовный кодекс и порою попадался. Но об этом я узнала позже. От того вечера осталось слитное ощущение: «праздник» — это накрытый стол, многолюдье, все нарядные, шум, красный апельсин — необыкновенное.
Жила я с няней в самой удаленной от входа комнате, в детской. Там сейчас живет мой внук Леня. Когда появились младшие сестра и брат, я постепенно передвигалась все ближе и ближе к выходу. То выгороженное из большой комнаты шкафом пространство, которое продолжали называть «Машин закуток» — по имени последней обитательницы, младшей дочери Маши, — высоко ценилось нами в детстве: рядом с передней, можно прийти и уйти так, что родители и не заметят. А шумы с лестницы нам тогда не мешали. Я несколько раз проделала по нашей квартире полный круг; вернулась в детскую с первым мужем, потом много лет спустя и мы с Левой там начинали свою жизнь.
На меня гораздо реже, чем на мою сестру Люсю, папа кричал «квартирантка!», но и я, конечно, была квартиранткой. Здесь я спала, ела, переодевалась, готовила уроки, читала книги, но жила я вне дома — в школе, в пионеротряде, в институте, на работе.
Вне дома — и вне своей души.
Я была неколебимо уверена: здесь, в этих старых стенах, лишь подготовка к жизни. А сама жизнь начнется в новом, сверкающем белом доме; там я буду по утрам делать зарядку, там будет идеальный порядок, там и начнутся героические свершения.
Большинство моих сверстников — в палатках ли, в землянках, в коммуналках или в хороших по тем понятиям отдельных квартирах — все равно жили начерно, временно, наспех. Скорее, скорее к великой цели, а там все и начнется по-настоящему.
Все должно и можно изменять: улицы, дома, города, социальный строй, человеческие души. И все это несложно: сначала бескорыстные энтузиасты на бумаге чертят план. Потом ломают старое (при этом «лес рубят — щепки летят»!), потом очищают землю от обломков и на расчищенной площадке воздвигают фаланстер. Именно так ведь и пытались поступить с огромной Россией. Так можно и с отдельными жизнями и с отдельными людьми.
В витринах на улице Горького каждый праздник выставлялись планы новой Москвы. Планы эти превращались на наших глазах в новые дома.
В нашем доме до революции было Саввинское подворье, гостиница для приезжающих монахов. Странные формы окон — маленькие, сводчатые, из-за которых комнаты темные, похожи на кельи.
По плану генеральной реконструкции Москвы (1935 г.) было решено сломать и наш пряничный разноцветный дом с башенками. Но дом воспротивился. И устоял. Несколько жильцов-инженеров сделали расчеты, пошли в Моссовет и доказали, что дом еще крепкий и дешевле его передвинуть, чем ломать.
В те годы, когда ломали дома, каждому из проживающих давали 2500 рублей. И уж больше никого не интересовало, что будет с выселенными людьми. Переселять было некуда (кооперативного строительства не существовало). Что же тут такого, лишился крыши — уезжай из Москвы. Везде нужны рабочие руки. Да и вообще, какая разница, где жить?
Шел тридцать седьмой год. И как это ни странно, на фоне безумия тех лет группу инженеров не обвинили ни во вредительстве, ни в связях с иностранными разведками. Более того — их послушали. И дом начали передвигать в глубь двора по миллиметру в день. Малый островок разумного изменения посреди тысяч бессмысленных.
Все вокруг было перекопано, два года мы жили как на стройке. Но отопление и канализация действовали (газ нам провели в 1947 году).
Жители остались в своих квартирах. По тем временам — прекрасных. Можно, оказывается, и не ломать... Разумеется, о передвижении нашего дома говорили по радио, писали в газетах.
Я не то чтобы не любила этот дом, просто я всегда хотела из него уехать. Уехать туда, где сам собой возникнет настоящий мой. Зачем же заниматься устройством, украшением, просто уборкой этого, ненастоящего? Да и не умела я устраивать дом. В школах тогда не было предмета «домоводство». На уроках труда мы пилили, строгали; узнали разницу между драчовыми и бархатными напильниками. Какое там домоводство в эпоху войн и пролетарских революций! Какое домоводство, когда женщина во всем равна мужчине? А между тем люди продолжали есть, пить, одеваться, рожать детей. И кто-то должен был готовить пищу, убирать дом, воспитывать детей. Кто-то, но не я.
Детство проходило во дворе. Слева, в доме № 22, была студия МХАТа, летом декорации стояли на улице, и мы играли среди них. Во дворе был фонтан. Дворов, собственно, было несколько — широкие возможности для казаков-разбойников и других игр.
Важную роль играло наше роскошное парадное с громадными пролетами. Я останавливалась в парадном по дороге в школу, снимала шапку и «закатывала» чулки: высшей доблестью считалось всю зиму проходить с голыми коленками.
До парадного меня стали провожать мальчишки.
Наша лестница словно специально приспособлена для того, чтобы выяснять отношения. Сначала снаружи, стоя. Потом «ну, я пошла», но он идет за мной, и мы садимся в нише на первой площадке. В этой нише, видимо, раньше была статуя. Однако долго сидеть опасно, могут увидеть соседи, а то и родители. И мы движемся выше, устраиваемся на большой площадке первого этажа, на подоконнике. Страсти разгораются, тут не до осторожности. Еще выше, тоже на подоконнике, на площадке второго этажа. И, наконец, наша площадка. Сейчас здесь тесновато, а раньше было совсем просторно (до того, как наш тогдашний управдом не построил себе квартиры). В пору того малого строительства на площадке ночевали беспризорники.
Главная резиденция — окно справа от нашей входной двери, сколько часов я на нем просидела!..
Тот же путь потом проделывали и моя сестра и мои дочери.
Здесь выяснялись отношений с возлюбленными и с подругами. Здесь, на этих лестничных маршах, обсуждались все великие проблемы — революция, любовь, дружба, книги, выбор профессии, — обо всем было говорено, все много раз «решалось» навсегда.
В нашем парадном внизу открылось первое в Москве кафе-мороженое — предок нынешних многочисленных «Арктик» и «Космосов». Странно, но сегодняшних очередей не было, хотя кафе долго оставалось единственным на всю Москву. Когда я теперь с удивлением смотрю на длинные очереди и думаю, кто же стоит днем и вечером, в жару и в стужу и в слякоть, стоит, чтобы войти в мороженный рай, мне отвечают: люди, у которых нет крыши над головой. Которым негде больше видеться. Но ведь тогда, в пору моей молодости, бездомных было гораздо больше. А очередей на улицах не было. Быть может, и потому, что москвичи еще не умели, не хотели ходить в кафе, денег не хватало даже и на мороженое. И для многих со словом «кафе» были связаны представления о буржуазности.
Я стремилась прочь из этого дома, из этой квартиры и из этого парадного. Нельзя даже это назвать мечтой — это был план, такой же конкретный, как и планы в витринах на улице Горького.
Есть на карте дальняя дорога
В дальний город, самый молодой,
Дорогая, скоро, очень скоро
Мы с тобой поедем в этот город,
Обязательно поедем мы с тобой, —
писал мой муж. Сомнений никаких не было: просто уедем в город Комсомольск.
Но мы не уехали в Комсомольск. В этой квартире шла не подготовка к жизни, а сама жизнь.
Квартира понемногу изменялась. В правом углу кухни, где сейчас газовый счетчик, стояла высокая колонка, трещали дрова, топилась железная доисторическая ванна. В ней нас купали, а потом я купала своих дочерей.
На кухне была дровяная плита, в духовке мама пекла пироги. Запах свежеиспеченного теста — один из первых запахов моего детства. Пироги у нас пекли к 7 Ноября, 1 Мая, к Новому году, на Рождество, ко всем семейным праздникам. На Пасху пекли куличи, и нам, детям, каждому по маленькому куличу. У бабушки на еврейскую Пасху была маца. Потом мацу покупала мама. Со смертью мамы исчезли и куличи, и маца.
Квартира перестраивалась, ставились перегородки, то вдоль большой комнаты, то поперек. Вешались тяжелые плюшевые портьеры — они казались мне верхом роскоши, признаком того самого богатства, которого я очень стеснялась в годы аскетической молодости. Много лет спустя остатками этой «роскоши» латали дыры всех кресел и диванов.
Как в любом жилье, и в нашем оседала часть старых вещей, никому не нужных, но и выбросить почему-то нельзя. В хламе еще и материализуется прошлое. Вот, например, красный сундук. Когда он, юный, явился в 1931 году из Италии, из Сорренто, его величали «кофр». Там были диковинные, неслыханные вещи, для меня туфли на каучуке. Туфли на каучуке в раздетой, разутой тогдашней Москве...
В кофре перевозили вещи на дачу. В 1941 году на боку появилась надпись: «Либерзон. Багаряк» (это поселок между Свердловском и Челябинском, куда эвакуировали моих родителей с дочкой). Бывший заграничный кофр превратился в развалину и уже не удостоился чести переехать с нами на новую квартиру на Аэропортовской улице.
Однажды мы с подругой решили обжить антресоли над кухней. Дня три мыли, чистили, скребли, все-таки выбросили часть старья. Устроили там комнату для своих кукол.
Там, на антресолях, мы прочитали послание, написанное симпатическими чернилами. Все было, впрочем, ясно и без посланий. Но существовал обряд, по которому надо было объясниться. Мальчик из нашего класса шепнул мне: «Подержи у огня, тогда прочтешь». Мы зажгли свечку на антресолях, стали держать свечу над письмом, капал воск, эпистола чуть не сгорела. Наконец, буквы все-таки проступили. I love you. На каком это языке? Меня учили французскому. Добыли английский словарь и не без труда перевели этот текст.
Про антресоли мы забыли так же быстро, как и про другие увлечения.
В квартире жили сны, бредовые видения (я часто болела) и легенды моего детства. Здесь я летала по ночам. Здесь мы играли в сказочные королевства, здесь ждали сказочных принцев, которые должны были сразу же после коленопреклоненного объяснения в любви, бросив принцессу в седло, умчать за тридевять земель. Прочь из этого дома.
Принц появился. Но тридевяти земель не было. Родилась дочь. И по той самой лестнице я таскала коляску (больше напоминавшую сегодняшние холодильники, чем сегодняшние коляски), а потом тяжелую Светку в тяжеленной шубе. А принц служил в армии.
В октябре 41-го года я впервые уехала из нашей квартиры в эвакуацию, в Куйбышев. На пять месяцев. В те времена многие дома были разорены, многие уничтожены. Холодный, сановный военный Куйбышев совсем не был похож ни на королевства из детских фантазий, ни на строительство Комсомольска.
Я вернулась в апреле 42-го года, папа с сестрой были уже в Москве, вскоре приехала мама с братом и моей дочкой.
Мы стали жить в двух меньших комнатах, а большая, бывшая праздничная, называлась «холодильником» — здесь гуляли ветры. Отопление, как и везде, не работало, поставили две дымящие и коптящие «буржуйки». На них, прямо на железных верхах, мама пекла лепешки, несравнимые с довоенными пирогами, но по голодному времени тоже вкусные. И еще мама кормила нас противными, но полезными дрожжами.
Мой муж погиб на войне. И я опять рвалась из этого дома, писала одно заявление за другим. Меня не взяли на фронт, и сама я не убежала.
Попытки уехать не прекращались. После моего второго замужества мы год прожили в Бухаресте. Вот и тридевять земель. Только дома не было, жили мы в гостинице, и вернулись в Москву в те же самые стены.
Мы стали искать другой дом. А что такое дом? Крепость, говорят англичане. Но у нас ни один дом не был крепостью. Из квартиры номер двенадцать никого не увезли в «черном вороне», но не из-за толщины стен. Нам повезло, вот и все.
Конечно, дом — это и определенное расположение дверей и окон. Вещи. Например, мамино зубоврачебное кресло в проходной комнате. Сначала в нем сидели пациенты, потом друзья и родственники, которым мама лечила зубы. Потом около него курили во время вечеринок, сообщались тайны, объяснялись в любви. Или резной буфет, который, вероятно, развалится при любом передвижении [Переехал на новую квартиру Светы. Ничего, стоит.].
Но в большей степени дом — люди, его населяющие, люди, сюда приходящие, те, кто может сказать: это как мой родной дом. Сменилось несколько поколений. Вот уже и Светина подруга ходит сюда двадцать лет.
В годы моего второго замужества квартира разделилась на два вражеских лагеря, соединенных общими коридорами. Тогда я уже действительно возненавидела эти стены, считала, что от них исходит злая сила, и верила, что стоит уехать и все наладится. Коля, мой второй муж, бросит пить, семья станет семьей.
Но другого жилья не было. И все, что во мне было хорошего, уменьшалось, исчезало или, может быть, тоже оседало на этих стенах вместе с детскими фантазиями, кто его знает.
Воздух нашей квартиры стал отравленным. Часто в те годы я с трудом, тяжело поднималась по лестнице — нет, тогда я еще не задыхалась, как теперь, просто я шла со страхом, что там меня ждет какой-то новый скандал Коли с моими родителями.
Была последняя попытка бежать в «настоящую» жизнь: в 1951 году мы уехали в Таллин. Там мы поселились в новой светлой квартире. Только было все это уже поздно. Тот дом, который не в стенах, тот главный дом давно развалился. Недаром, вновь приехав в 58-м в Таллин погостить, я даже не нашла квартиры, в которой прожила два с половиной года, так и не вспомнила — налево или направо от входа. Нет, в той хорошей квартире от меня почти ничего не осталось. Я, таллинская, осталась в институте, в моих студентках, а не в опрятных комнатах на улице Ломоносова.
В 1953 году я опять вернулась в родительский дом и прожила в нем еще четырнадцать лет.
С того первого праздника, который я, маленькая девочка, запомнила, их в нашем доме было несчетно много. Дни рождения, именины наши, родственников, друзей, крестины, свадьбы, окончания школ, институтов, защиты диссертаций, публикации книг! Шумные, многолюдные, веселые.
У большой комнаты два выхода, и она тогда напоминала сцену; люди входили в одну дверь, появлялись из другой. Многие злословили, что мы и сами не знали, кто к нам ходит.
Было здесь свое и чужое горе. Сначала пили за «счастье с первой попытки», а потом запивали разводы. Когда аборты были запрещены, здесь же, в бывшей праздничной комнате, старый врач «выручал» меня и моих подруг. За большие деньги. И под страхом уголовного преследования.
Отсюда в 1960 году увезли умирать папу. Он когда-то получил эту квартиру, любил ее, берег.
...Через три года, в декабре 1963-го, на стол, на котором одевали дочерей — громко кричащую Светку, всхлипывающую Машку, бьющую ногами племянницу Маришку, — внесли сверток — внука Леню. В квартире возникло пятое поколение.
И вот я в 1967 году переехала — всего за четыре остановки метро. Хорошо на новой квартире, тихо, спокойно, легче работать, отдыхать; болеть и то легче. Я делаю зарядку и принимаю душ. Здесь нам лучше настолько, насколько нам мешали другие. Но ведь больше всего мы сами себе мешаем. Это нигде не оставишь, от этого никуда не уедешь.
В той квартире, где прошли мои полвека, катятся сегодня другие жизни. А я уже не верю в то, что можно все изменить, переехав в другое жилье.
Хорошо на новом месте. Но сколько осталось жизни, которую можно было бы прожить по-новому?
1967
6.
Леня
Моего внука назвали Леонид, в память моего первого мужа, отца старшей дочери, погибшего на фронте Леонида Шершера. Мертвые остаются молодыми, поэтому Леню трудно, почти невозможно представить себе дедом, когда он и отцом побыл недолго — два с половиной года.
Он погиб 30 августа 1942 года. Его и тех, кто погиб вместе с ним, хоронили в Монино на кладбище летчиков. Предупредили, что на территорию военной части пустят только родных. Запаянные железные коробки — их так и привезли с границы — опускали в большие ямы. Ком земли — кусок сердца, еще ком земли — кусок сердца. Размеренно и будто никогда не кончится.
А через несколько дней выяснилось, что к могилам по специальным пропускам пройти можно, и мы поехали в Монино, близкие друзья, кто был в Москве в сентябре 1942 года.
Мы возвращались с кладбища и смеялись. Смех был со слезами, а все-таки смеялись. Это почти невероятно, но, вспоминая Ленины бесчисленные остроты, любимые словечки, занятные истории, мы и тогда смеялись.
Он говорил с вполне серьезным лицом, чтобы его не просили стать пятым классиком марксизма — его фамилия не подойдет. На улице останавливал прохожих вопросом, нет ли лишнего билетика на вечер Шершера? Звонил куда-нибудь в театр и просил оставить «билеты для Шершера, — говорит его помощник». Иногда действовало.
«Памятник неизвестной чернильнице» — так он называл массивные письменные приборы.
С Мухой Ивановой они тысячу раз разыгрывали неизменный диалог:
— Вас вызывает товарищ Алексеевских.
— Каких? — хохотали сами, и все вокруг смеялись.
Домашний юмор очень трудно передать. Но без этой атмосферы юмора не представить себе нашей юности. Я была только потребительницей — смеялась.
Леня смеялся реже меня, но вызывал смех он.
* * *
С Леней мы учились в одной школе, в одном классе, но словно бы впервые я увидела его так: в 1930 году в Радиотеатре в помещении Центрального телеграфа был пионерский слет. «Слово имеет ученик 27-й школы Леонид Шершер». Он читает стихи с эпиграфом из Сталина: «Мы должны пробежать это расстояние в десять лет, иначе нас сомнут».
Нас не сомнут, если сотни мартенов
себе вожаков найдут.
Нас не сомнут, если стали на смену
станет ударный труд.
Понятия не имела, что он пишет стихи. Мне вообще трудно было представить себе, что стихи кто-то пишет, а тем более знакомый мальчик из моего класса. Стихи сами собой рождаются. И теперь, много лет спустя, зная, что и на сборники стихов заключаются договоры, что и эти книги редактируют, что бывают верстки, я все равно непоколебима в своей детской вере: создание истинного стихотворения — чудо...
Леня читал стихи не так, как обычно разговаривал. Читал, растягивая слова, удлиняя гласные, каким-то чужим голосом.
Он был высокий, немного сутулился, очень худой. Разлетные брови, умные серые глаза, большой нос, лицо как-то книзу неожиданно, раньше положенного кончалось. Напоминал то хищную птицу, то обиженного нахохлившегося цыпленка.
В Радиотеатре я услышала посредственные вирши, многие писали такие; в них не было признаков поэтической одаренности, но я вспоминаю именно эти стихи, потому что в них была часть нашей общей жизни.
Лето 1935 года я жила под Москвой, на Клязьме.
Тем летом мы смотрели немецкий фильм «Петер» — одну из первых иностранных картин.
Heute fühl ich mich so wunderbar
(Как я счастлива сегодня), —
напевали мы вслед за Франческой Гааль.
Случайно там на Клязьме я встретила Леню. И мы решили не учиться в десятом классе, а попробовать сдать экзамены в институт — тогда это еще разрешали, аттестаты зрелости ввели год спустя.
На той даче, где жил Леня, было много хозяек. Казалось, что все они — Ленина мать среди них — не отходили от примусов, готовили обед. Я их очень осуждала за низменное это занятие.
Его отец напоминал карикатуры на буржуев, которые печатались тогда в наших журналах: толстый, обжора. С того времени я и невзлюбила отца моего будущего мужа. Причем личная неприязнь сочеталась с «классовой». И даже когда Леня погиб, на похоронах в Монино, где уж горевать-то можно было вместе, отец рыдал в одном углу, а я, каменная, без единой слезинки, стояла в другом углу. Но до этого прошла еще целая полоса жизни.
Той весной 35-го года у меня начался «роман» с Колей Рыжичкиным: он был на класс старше, крупный, медвежеватый, капитан волейбольной команды. Жил он на Столешниковом, в том дворе, где делают ключи и чинят застежки-«молнии». В тридцать пятом году еще не было никаких «молний».
Коля раза два приезжал на Клязьму, несколькими взмахами переплывал узкую речку Учу. Смотреть, как он плывет, было приятно, плыть рядом с ним — надежно. К тому же он был секретарем комсомольской ячейки.
После многократных просьб я разрешила Коле поцеловать меня. Тогда я не понимала, что единственная причина отчаянного моего сопротивления была в том, что я его нисколько не любила. Придумала влюбленность: широкие плечи, мускулы, твердое знание — так надо, так не надо. Колю вскоре забрали в армию, и он погиб в боях на Хасане.
В то время, как я выясняла отношения с Колей Рыжичкиным, Леня ухаживал за нашей одноклассницей, хорошенькой блондинкой, посвящал ей стихи. Мы делились друг с другом своими «любовными переживаниями».
У меня на даче подолгу жила подруга, она не одобряла Колю. Мы могли часов по десять подряд обсуждать ее и мои «романы». Веру раздражало именно то, что меня привлекало (или я сама убедила себя, что привлекало), — он настоящий потомственный пролетарий.
Я тогда прочитала роман Вересаева «Сестры», — вот она, книга про меня. Про кающуюся интеллигентку, которая успешно «переваривается в рабочем котле». Книгу Вересаева я и сейчас помню — не содержание, а запах. Героиня работала на заводе «Каучук», и все было пропитано сладко-тошнотворным запахом горячей резины.
...Стойкая вещь запах. 1939 год. Я на пятом месяце беременности. Мы в Крыму, едем на машине осматривать какие-то достопримечательности. Я сержусь на Леню, что повез меня, сержусь на себя, что не сумела отказаться: красоты мне не милы, Леня останавливает машину и покупает чайные розы. Я усыпана розами, их запах дурманит, но тошнота проходит.
Я пишу в ереванской гостинице, в вазе — чайные розы, а я нспоминаю те, которые Леня тогда бросил в окно машины, — не чинный букет, а буйная охапка, — на сиденье, на моем платье, на полу.
Только утром мы подсчитывали скудные наши студенческие деньги, выяснили, что дотянем до Москвы лишь при строжайшей экономии. Вот тебе и экономия. Перешли на щи суточные, да и то за них платил наш приятель.
Мы вместе ездили подавать документы на Пироговскую улицу, где тогда находился Институт философии, литературы, истории — ИФЛИ. Все проходившие мимо меня юноши и девушки казались мне гениями. Без Лени я вряд ли решилась бы на отважный этот шаг.
Кончились экзамены, и вот Леня пришел вечером к нам на дачу непривычно мрачный.
— Хочешь почитаю стихи?
— Конечно.
Когда ветры уносят последние вспышки июля,
Когда ветры, как псы, замирая, ложатся у ног,
Я сижу у окна, сентябрясь и тоскуя,
Ни улыбок, ни встреч, я как ты — одинок.
….......................................................
Я не знаю, не видел тебя, дорогая,
Но я встречусь с тобой на распутии дальних дорог.
Ты узнаешь меня, и тебя я, конечно, узнаю,
Но до встречи с тобой я, как ты, одинок.
«Дальние дороги» прошли через все Ленины стихи. Семь лет спустя, в одном из последних и лучших своих стихотворений, он написал:
Ты поверь мне, что это не просто красивая фраза,
Ты поверь, что я жить бы, пожалуй, на свете не мог,
Если б знал, что сумею забыть до последнего часа
Ветер юности нашей, тревожных и дальних дорог.
В первом стихотворении мне понравилось слово «сентябрясь», и я спросила:
— Это кому посвящено, Зинке?
— Нет, тебе.
...Меньше всех — Леня. Леня, с которым я сидела на одной парте. Леня — нескладный, неспортивный, а я твердо знала, что полюблю только хорошего волейболиста. Его, одессита, я учила плавать. И сколько раз он описывал, какой должна быть его жена: блондинка, не будет работать, может, только если балерина, всецело посвятит себя дому, мужу, детям... Нисколько не похоже на меня.
Вскоре мы целовались под березой напротив нашей дачи и очень удивлялись, как все это произошло. А потом много дней подряд по утрам Леня появлялся у забора; и когда его долговязая фигура наконец удалялась, я пулей бросалась в уборную. Терпела с утра. Как же такая низкая проза может врываться в немыслимо высокую нашу поэзию?!
Медовую неделю мы провели в Ясной Поляне, где работал бывший наш школьный учитель.
В институте меня называли «маленькая Райка» — младше всех на курсе, ниже всех ростом. Мне казалось, что талия недостаточно туго затянута, — «Хочешь, чтобы лопнула», — ворчала наша портниха, перешивая мне в очередной раз какое-нибудь из маминых старых платьев.
Ленина жена должна быть очень хорошо одета. Потом он, упрямо пробиваясь в печать, зарабатывая, действительно начал мне покупать платья и туфли. Но в то лето тридцать пятого года я, как и большинство московских девушек, ходила в парусиновых лодочках, белых с голубым кантиком.
В предсонных грезах в тех случаях, когда я не поднималась на трибуны всех форумов мира и не въезжала на коне в города, освобождавшиеся вихрем мировой революции, я облачалась в платья неслыханной красоты. Не знаю своей сверстницы, которая не мечтала бы о длинном черном бархатном платье, не знаю ни одной, у которой было бы такое платье. Вместо воображаемого бархата (после войны прибавилась приставка «пан бархат») у нас верхом роскоши была белая кофточка с черными горошками.
По утрам я вскакивала, обо всем забыв, и радостно начинался новый день. Были беды в мире? Были, наверно. Я читала о них в книгах, в газетах — впрочем, в газеты я заглядывала редко. Были где-то в других местах, не здесь. А я — там, где только дружба, радость, теперь вот и любовь.
Мама болела временами, но мамам так и положено — болеть. Буду ли я когда-нибудь мамой?! Не думала об этом. Когда мои сокурсницы говорили о беременностях, об абортах, я изумлялась, полагая, что такое бывает только у взрослых, а от меня это отделено почти непроходимыми рвами.
Heute fühl ich mich so wunderbar.
Сегодня и завтра. И всегда.
Мама иногда жаловалась на мою невнимательность. «Мам, ты скажи мне, я все что надо сделаю». «Нет, я не буду говорить, ты взрослая, ты сама должна знать».
Взрослой я была только в одном — я хотела скорее зарабатывать. В Ясной Поляне мы записывали воспоминания крестьян, знавших Толстого. Прошло всего 25 лет со дня его смерти.
Каждый вечер мы проделывали один и тот же путь — Тверская, Столешников переулок, Большая Дмитровка, Петровский переулок. Теперь улица Горького, Пушкинская, улица Москвина, а Столешников остался.
— Поздно, Линь, надо возвращаться.
— Еще самый последний разок.
— Ну, давай малым кругом.
Мы делились воспоминаниями. Нам казалось, что мы прожили долгие раздельные жизни и надо поделиться каждым днем, каждым часом. Как нам удавалось набрать рассказов на шестнадцать часов в сутки? Удавалось.
Первого сентября 1935 года мы благоговейно переступили порог института. На кафедру вышел профессор Радциг, маленький старичок (вероятно, ему было лет пятьдесят), и неожиданно высоким фальцетом начал рассказывать о Троянской войне. Он и сам казался нам вышедшим оттуда, из античности.
Прошлое. Троя. Там и Ахилл, и русские цари, и Радциг, и наши собственные родители. У нас нет ничего общего с прошлым. В 1917 году подвели черту. Некоторым это прошлое интересно — историкам, например, — а мне так нисколько не интересно. Все главное — в настоящем, отсчет идет от нас.
Не я одна так ощущала. Елена Ржевская в книге «Ближние подступы» пишет: «Сколько себя помню, всегда было общее дело. Сейчас это война. До нее общим делом было все то, что называлось «наше время». Его любили, романтизировали. Быть в такой чести у современников — редкая удача для времени. Время, «когда все сбывается». Время, «когда все начинается с нас». А все, что до, — потоп, вывернувший, унесший культурный пласт предшественников, и родовые корни, и само представление о них» («Новый мир», 1980, № 5).
Я пытаюсь погрузиться в то лето, но меня выталкивает на поверхность, в сегодня, даже не потому, что я многое забыла. А потому, что я не нахожу слов, — я ведь хотела дотронуться до завязей счастья, а это мне недоступно.
В 1939 году я с трудом довела урок, выскочила на улицу к Малокаменному и едва не потеряла сознание. Это была первая весть о Светке, о нашем с Леней продолжении.
Heute fühl ich mich so wunderbar.
Сегодня и вечно.
* * *
«Ничто на свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес», — писал Герцен. Чем-чем, а сильно возбужденным общечеловеческим интересом нас не обделило ни детство, ни отрочество, ни юность.
Прошли годы, прежде чем я поняла, что те партийно-классовые интересы, которыми питалась наша юность, во многом противоречили общечеловеческому, вели к бесчеловечной практике.
Лени лично касалось — сомнут нас или не сомнут, касалось с детства, а потом он и был среди тех, кто не дал нас смять.
Мы все знали назубок — 518 и 1040: 518 новых предприятий и 1040 машинно-тракторных станций — священные цифры первой пятилетки.
Война подтвердила: все верно, наши личные судьбы неразрывно связаны с общей судьбой.
Леня писал мне: «У меня новостей много, но все они так или иначе до тебя доходят, ибо они связаны с общими новостями» (10.11.41); «Самое радующее — это газетные новости и подробности, которые я здесь смог узнать. Это действительно радует и искупает все горести, которые навеваются всякими мыслями личного порядка» (28 дек. 41 г.); «Настроение очень подняли новогодние подарки — накануне Крым, а к вечеру — Калуга» (2.1.42).
Для Лени это ощущение неразрывных и важных связей с миром воплощалось прежде всего в печати. Он покупал все газеты и журналы, уезжая куда-нибудь, очень волновался: ему все казалось, что именно в это время случится что-то самое главное, а он пропустит.
Он был прирожденным журналистом, журналистика была и призванием, и воплощением того, что характерно для поколения: все знать, быть со всеми связанным и участвовать, обязательно лично самому участвовать.
Профессиональная журналистика началась в стенной газете «Комсомолия». 1936 год. В коридоре старого институтского здания на Пироговской непривычно большая студенческая толпа. Крупными буквами выведен заголовок: «Любовь, дружба, ненависть». Роза и винтовка. Оформлял этот номер Иван Хмарский. И анкета: «Какие качества нужны человеку, которого вы могли бы полюбить?» Читать эту «Комсомолию» приезжали студенты со всей Москвы.
Еще до института Леня был деткором «Пионерской правды»; позже работал в «Иллюстрированной газете». Газета была самой большой любовью его жизни, ему все-было важно — темы, язык, заголовки, шрифт, рисунки.
Он оказался великолепным газетчиком. Он совсем не стеснялся, не боялся людей, вместе со своими друзьями брал интервью для «Комсомолии» у известных писателей — у Эренбурга, Маршака, Кассиля.
Когда специальным решением парткома института сменные редакции «Комсомолии» перевели в общеинститутскую газету, Леня мучительно, как нанесенную ему обиду, воспринял ее неуклюжее, штампованное название «За большевистские кадры» (которое быстро переименовали в жаргонное «забока»).
В студенческие годы он познакомился со старым журналистом Василием Регининым и приходил от него, пересказывая эпизоды — подлинные и выдуманные — из истории русской печати, радовался: «Старик Регинин нас заметил». Жадно читал неистового репортера Киша. Идеалом для него был Михаил Кольцов, «Испанский дневник».
Вероятно, страницы жизни, связанные с Испанией, самые высокие, светлые, в наибольшей степени проникнутые общечеловеческим интересом.
И это представление оказалось отчасти иллюзорным. Именно отчасти, потому что карты Испании на площадях наших городов, ощущение испанской трагедии как своей личной — реальность. И пароходы с испанскими детьми. Но корыстная политика наших властей, для которых испанцы стали разменной картой, и расколы в самой Испании — тоже реальность.
Однако и сегодня для меня «победивший звук» — в Испании 36-го года, пусть лишь на мгновение, — возможность человеческого братства «Интернациональные бригады».
Каким страшным сном тогда показалось бы: три-четыре десятилетия спустя чуть ли не о каждом будут спрашивать: а он кто? Русский? Венгр? Какой процент крови? Украинской, еврейской, французской?..
Наше тогдашнее отношение к Испании совпадало с отношением людей, от нас бесконечно далеких. Не буду ссылаться на Хемингуэя или на Мальро. Приведу слова Оруэлла из книги «Дань Каталонии»: «...быть может, это звучит как безумие, но единственное, чего мы оба хотели, — это вернуться в Испанию. Эта война, в которой я принял столь незначительное участие, оставила преимущественно дурные воспоминания, но я не хотел бы упустить ее... Результат всего — вовсе не обязательно разочарование и цинизм. Как это ни удивительно, после войны в Испании я стал больше, а не меньше верить в человеческое достоинство».
В сентябре 36-го года был вечер встречи с новым набором. Мы — второкурсники — ощущали себя убеленными сединами опыта. Но само собой получился вечер, посвященный Испании. Вдвоем с Инной Кулаковской Леня написал к этому вечеру приветствие — взволнованное, романтическое. В конце обращения, где шла тема «если завтра война», говорилось: «тогда народный комиссар обороны станет народным комиссаром наступления...» Кажется, за всю войну это ни одному пишущему так в голову и не пришло.
На факультете не любили штампы, боялись штампов, травили штампы. После обращений, резолюций, написанных как стихи, со строго отобранными словами, чтобы был ритм, главное, чтобы была свежая мысль, мы потом годы и годы слушали, читали, утверждали перелицованные, вчерашние, одинаковые резолюции со стандартным пафосом.
На испанском вечере Леня впервые прочел стихи, которые потом были включены в сборник «Мы с вами»:
...Пусть выходит сердце, как победа,
как весна к открытому окну,
к черноглазым девушкам Овьедо,
отстоявшим пулями весну.
И они, уверенны и ловки,
проходя сквозь пулеметный дым,
зарядят тяжелые винтовки
сердцем сокрушающим моим.
Эти стихи он читал в Колонном зале на испанском вечере. Гордилась я им необыкновенно.
Однажды утром, открыв «Известия», увидели резкую, ироническую статью Эренбурга о слабых стихах советских поэтов, посвященных Испании. Имена поэтов не назывались, только номера. Поэт № 6, издевался Эренбург, предлагает испанцам заряжать винтовки его сердцем. Друзья стали называть Леню «поэтом № 6». И долго у нас в семье был комплекс чеховского героя: «пропечатали».
Наш друг Витя Перов также поклонялся газете, также мечтал о журналистике. Он женился на Ханке Ганецкой, нашей студентке. Молодые, красивые, счастливые, уезжали они в первое путешествие. А летом 37-го года у Вити не распознали гнойный аппендицит, дали касторку, начался перитонит, он умер. Мы стояли в почетном карауле в клубе того дома на набережной, на улице Серафимовича, который все называли «дом правительства». Там в это время уже шли аресты, запечатывались двери одна за другой. Месяц спустя была запечатана и та, из которой вынесли Витин гроб. После ареста его тестя, старого большевика Ганецкого, кто-то сказал, будто Витю убили «враги народа». И мы не отвергли этого с негодованием, не назвали абсурдом. А скорее — поверили, я в большей, Леня — в меньшей степени. Верили же мы и гораздо более глупым и гораздо более страшным вещам.
На сцене театра Охлопкова шла тогда пьеса «Павел Греков». Помню наэлектризованный зал, наше с Леней волнение, помню, что борьба шла между доверчивостью и подозрительностью и побеждала доверчивость. Большинство из нас, даже вне зависимости от различий в характерах, были гораздо более склонны верить людям. Но воспитывали нас иначе.
У Лени был ум сильный, скептический. Он не хотел и не умел преклоняться. Он был человеком как раз того типа, который, казалось, и должен был заявить: это ложь, я не верю, чтобы во всех областях управления страной оказались враги народа. Этого просто быть не может.
Но Леня так не сказал и так законченно, бесповоротно не подумал. Еще, вероятно, и потому, что тогда встали бы, неизбежно встали бы новые грозные вопросы: кто же и для чего все это делает? Кому же все это нужно? А к таким вопросам он совсем не был подготовлен. Чтобы задавать вопросы, наверное, надо было хоть в какой-то степени смотреть со стороны. Извне. А Леня был внутри. Его не сразу пустили внутрь, его в школе один раз не приняли в комсомол, потому что отец его был кустарем. А когда он оказался уже внутри, он стал счастлив. Счастлив не только сознанием причастности, но и признанием причастности.
Ум находил разные выходы.
Он очень любил играть в занимательную игру «Разоблачили врага». Не он ли ее и придумал? Тогда во всех журналах печатались пьесы о «врагах народа». Суть игры состояла в том, чтобы, не читая пьесы, по списку действующих лиц определить, кто враг. И чаще всего это удавалось — драматурги-ремесленники наделяли отрицательных персонажей соответствующими фамилиями.
Ему отвратительны были фанатики, он не разделял моего поклонения Жанне д'Арк, он любил то место из предисловия к «Золотому теленку», где Ильф и Петров издеваются над хмурым господином, изрекающим: «Когда строят социализм, хочется молиться». Он безжалостно высмеивал глупость, подлость, приспособленчество.
Мне часто бывало жаль людей, над которыми он смеялся.
Как бы он поступал, как бы вел себя в сорок пятом и сорок девятом, в пятьдесят третьем и в пятьдесят шестом?
Как и многие наши современники, он облегченно вздохнул, когда началась война. И линия между друзьями и врагами стала линией фронта.
* * *
Лене была свойственна резкая смена настроений. Чаще всего состояние невероятной активности, которую даже трудно вообразить. А после этого — апатия, он мог целые дни просто лежать на диване. Сидеть за письменным столом день за днем, в определенные часы он не умел и так и не научился.
Впрочем, возникали тысячи планов — книг, статей, поездок, не все воплотились в жизнь, но очень многое было сделано.
Мне почти все время приходится говорить «мы». Потому что все было вместе — кусали от одной булки, жили на людях, все делили с друзьями; странной и подозрительной, во всяком случае ненормальной, показалась бы сама мысль об уединении. Как-то вполне естественно, что Леня и покоится вместе с погибшими на одном самолете, за общей оградой.
И творчество тоже мыслилось как нечто коллективное, хотя душой, началом, движущей силой всех творческих планов был именно он.
Собрались писать сценарий о Маяковском. Написали водевиль (вчетвером с Б. Кремневым и Л. Черной) «X через К» — ход через кухню, про обмен квартир. Задумали драму (что-то под влиянием пьесы Пристли «Время и семья Конвей»).
Писали втроем с Л. Черной сатирический роман про некоего гражданина Эванова.
Леня часто бывал недоволен собой. Он записывает в дневник: «Как мало я успел, как немного сделал. А возможностей было хоть отбавляй — терпения бы побольше, да трудолюбия, да уверенности в себе. В этом, конечно, очень трудно признаваться даже самому себе.
Все время думаю — теперь наверстаю, но снова проходит время, накапливаются уже нешуточные годы (24! — Р. О.), а сделано все же ненамного больше. Обидно!»
В 1939 году задумали делать сборник о замечательных людях. Пришли вчетвером вместе с Б. Кремневым и Л. Черной в издательство «Молодая гвардия», к редактору Ольге Зив. Она заключила с нами, людьми неопытными и никому не известными, договор, послала в командировки.
Как необходимо, чтобы первый человек, с кем ты сталкиваешься в жизни, поверил бы в тебя,— первый друг, первый любимый, первый начальник, первый редактор. Нам повезло, мы встретили такого редактора. Мне очень жаль, что я пишу это уже после смерти Ольги Максимовны...
Многие ли литераторы сегодня — и бывшие ифлийцы в их числе — поверят совсем молодым?
Мы с Леней поехали в Киев, где я осталась, а Леня полетел в Одессу — он писал об Эйзенштейне, о фильме «Броненосец «Потемкин». Полетел на обычном пассажирском самолете, вероятно, полет продолжался тогда час-полтора. Мне это время казалось вечностью. И Леня честно мне признавался, что очень боялся лететь, в тот же вечер звонил в Киев и торжественно сообщал, что все в порядке. А год спустя он как о чем-то само собой разумеющемся записывает в дневнике: «...я был в частях, работал много, да кроме того два дня подряд летал на боевое задание как полноправный член экипажа».
И он прекрасно знал, что ему грозит: «В штабе я видел, как подписывали письма, начинающиеся словами «уважаемая...». Содержание их понятно. Война. Я сосчитал, что каждую секунду гибнет человек. Каждую секунду!»
* * *
Он читал книги запоем. Еще в школе полюбил О'Генри, знал почти наизусть «12 стульев» и «Золотого теленка». Читал и перечитывал Чехова, Твена, Франса, открывал Шервуда Андерсона, Бирса, Дос Пассоса, Хемингуэя.
Летом 36-го года после первого курса мы были в военных лагерях за Тушином. Там вечером, уже после военных занятий, узнали — умер Горький. Собрались вместе в одной палатке. Люся Успенская читала вслух «Итальянские сказки». Не помню, чтобы Горький много места занимал раньше в наших мыслях, а тут почувствовали сиротство. Начальство не разрешило нам идти на похороны. Тогда мы без разрешения организовали самодеятельную колонну, отправились пешком, влились в общую траурную процессию.
Как мне объяснить моему младшему современнику, который много лет ходит (или не ходит, знает, что ходят другие) к столбу номер такой-то по заранее утвержденным спискам встречать, провожать, хоронить — кого угодно, безразлично — Тито, Каддафи, Амина; как объяснить, что мы это делали только по собственному желанию? Как это сочеталось?
Вот захотели идти хоронить Горького. И пошли.
Леня отлично знал и очень любил Маяковского. Маяковский был для нас не просто поэтом. Был всем — законодателем, судьей, наставником. Леня полюбил его, когда его очень мало печатали. Далеко не все в стихах Маяковского мы понимали, но очень старались понять, изучали, толковали каждую строку, росли, поднимались до него. И меряли им многое вокруг, ненавидели его врагов — всех тех, с кем ругался и не доругался Маяковский.
Порою нам приходило в голову — а может быть, и Маяковского убили? А потом инсценировали самоубийство? Нам тогда казалось, что Маяковский покончить самоубийством просто не может.
Слова Сталина в 1935 году о том, что Маяковский «лучший, талантливейший» и что «неуважение к его памяти — преступление», стали личной радостью. Нашего, самого нашего поэта признали.
Стоим мы на Советской площади у обелиска свободы поздно вечером. И Леня с дрожью произносит, глядя на развевающийся на Моссовете флаг:
«Октябрьское
руганое
и пропетое, Пробитое пулями знамя —
написать такие строки — и можно умереть от счастья».
Тема его курсовой работы — «Гейне и Маяковский».
В нашем отношении к Маяковскому большую роль сыграл Владимир Яхонтов, научивший слышать, понимать, различать не только крик, но и стон поэта.
Вот Яхонтов сидит в кресле, играет розой — это Настасья Филипповна. Или крадущейся кошачьей походкой идет по сцене, читая «Графа Нулина».
Яхонтов читал Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Некрасова, Достоевского. Его вечера были частью наших университетов, важнее, чем лекции, когда в небольшом зале клуба МГУ восторженная молодежная толпа, отбивая ладони, выкрикивала: «Я-хон-тав!!!»
Голосом Яхонтова говорил Димитров — человек, который превратился из подсудимого в судью. В композициях Яхонтова то, о чем мы читали в газетах, становилось искусством.
Леня очень любил театр, МХАТ в особенности, знал всех актеров. «Дни Турбиных» мы смотрели раз пятнадцать, не меньше. Долгие и отчаянно веселые ночи стояли в очередях, чтобы получить билет на «Анну Каренину».
Мы вместе смотрели фильмы «Мы из Кронштадта», «Великий гражданин», «Ленин в Октябре», «Ленин в 18-м году», трилогию о Максиме. «Новые времена», «Огни большого города» Чаплина. Он любил эти фильмы. И хронику. Хроника была похожа на газету.
От Лени я впервые услышала стихи Багрицкого, Асеева, Сельвинского, Киплинга. Часто читал он Багрицкого — «Человек из предместья», «Последняя ночь».
В литературном объединении при журнале «Огонек» (которым руководил Кассиль) он еще школьником познакомился с Ярославом Смеляковым. С тех пор с голоса Лени я и помню:
Только мы пока живые
и работаем пока,
и над нами дождевые
проплывают облака...
Пастернака мы знали плохо, хотя старались понять. Почти не знали стихов Ахматовой и вовсе не знали ни Цветаевой, ни Мандельштама.
* * *
Леня постоянно писал. У него не было никакой робости перед чистым листом бумаги. А читать стихи — даже друзьям — он стеснялся.
«Уже пятый месяц войны, а я все собираюсь записывать то, что вижу, слышу, думаю... А дни идут, все улетучивается из памяти, и потом никогда себе этого не простишь, если останешься жив, разумеется» (24.10.41).
«Известия» все время просят, прислали мне удостоверение, но писать просто некогда, буквально не можем сесть за стол. Сейчас газета у нас выходит на 4-х стр., скоро хотим переходить на выход каждый день. Материал, какой у меня есть сейчас (по собственным впечатлениям), исключительно интересен. Но сесть за него не могу. Если приеду к тебе, хоть чуть отдохну (посплю подряд больше чем 4,5 часа, — а это моя норма, кот. я сейчас установил), тогда, может, напишу».
Он очень не любил ныть, не любил ноющих людей, не любил неудачи и неудачников. Часто со вкусом повторял слова из записных книжек Ильфа: «Выпьем за тех, у кого получается». Он старался избегать неприятностей, горестей, дурного. Разумеется, никто к неприятному не стремится. Но есть люди, которые идут навстречу беде, погружаются в беду. А другие пытаются — если можно — обойти беду. Леня чаще хотел обойти.
Он был словно предназначен судьбой для легкой, приятной жизни. Очень любил вкусно, хорошо поесть, посидеть с друзьями в ресторане. У нас дома за чаем с неизменными сушками Леня с Мухой могли часами составлять меню необыкновенных обедов и ужинов.
Как-то на день рождения Лени пришел к нам в гости Эдик Падеревский, ифлиец, талантливый художник, погибший на фронте. Приняв участие в разговоре о еде, он заметил, что лично он съел бы целого гуся. А у нас и был гусь, правда на всех — на двадцать человек. Но спортивный интерес превыше всего. Мы заключили пари, и Эдик съел гуся, оставив гостей без ужина.
Леня был убежденным урбанистом, совсем не разделял моих наклонностей к сельской жизни: терпеть не мог пешего хождения, ему нужна была Москва, улицы Москвы, шум Москвы. Мне не удалось сделать из него спортсмена.
Большое — для тех лет необычно большое — значение придавал одежде. Никогда не был иждивенцем. Зарабатывать начал рано и легко. Любил поздно ложиться и поздно вставать, ходить в гости и принимать гостей.
После института в 1940 г. всех наших юношей призвали в армию. Никакого энтузиазма он, как и большинство его друзей, при этом не испытывал. Но надо — пошел! «Устал физически я сильно. Все-таки шестнадцатичасовой день физической работы (сейчас это земляные работы, погрузка камня и т. д.) в течение полутора месяцев без единого выходного — это нагрузка основательная даже для более подготовленного физически человека, чем я. Надо сказать, что у меня уже начинает вырабатываться привычка к физтруду — день я переношу безболезненно. А день этот строится так: встаем мы по зимнему распорядку в 6 ч. утра и прямо направляемся в конюшню. Едем с конями на водопой, чистка их до 8-ми; кормим и возвращаемся, чтобы позавтракать. В 9 часов утра строимся и идем на работу. До 3-х (т. е. полных 8 часов) работаем не разгибаясь. В 3 опять чистим лошадей. В 3.30 обед и сразу (мертвый час отменен) идем работать обратно. В 7.30 возвращаемся к лошадям для того, чтобы накормить и напоить их, а в 9.30 едим сами. После этого час-полтора свободны (ложимся мы в 11). В это время иногда бывают собрания, но каждую минуту ловишь себя на том, что вот-вот заснешь...»
Далее он пишет об окружающих, о бывших ифлийцах. «За какие-нибудь полтора месяца они уже успели потерять всякие — и внешние, и внутренние — признаки культуры». Этого Леня не терял.
Когда началась война, он был красноармейцем команды театра Красной Армии. Работая в литчасти, бывал дома. В армии — но не на фронте. С первого дня войны Леня начал рваться из театра.
Он бомбардировал все военные инстанции заявлениями. В армии перевестись труднее, чем просто попасть на фронт с гражданки. К августу 41-го допросился, попал в дивизионную газету «За правое дело», в авиацию дальнего действия. И здесь не успокоился, пока не стал летать как член экипажа. Во всем его поведении не было «ничего выдающегося», как называется один из его рассказов.
Моя приятельница Марийка Розанова — она сама ушла на фронт в 1942 году, — узнав о гибели Лени, писала мне: «Очень часто сейчас приходится жалеть о прошедшем потерянном годе; ведь все те, с которыми сейчас встретилась, год тому назад, в проклятые 15—16 окт., когда мы неожиданно ретировались на восток, пошли в армию, в те самые рабочие батальоны, куда пошел Шура Куликовский и др. За этот год они столько пережили, так сроднились, столько всего испытали. У всех столько воспоминаний. А я сижу и завидую. Это невозвратимо потеряно».
Через два года после этого письма, в 1944-м, Марийка погибла. Она работала радисткой, последние ее слова были: «Радиостанцию сжигаем, все уходим».
Война началась для нас еще до 22 июня. Мы все время жили под надвигающейся тенью войны.
Когда родилась наша дочь Светлана, в январе 1940 года уходил на фронт лыжный батальон ИФЛИ. Леня позвонил снизу в родильном доме (у Грауермана, на Молчановке, телефон у каждой кровати) и упавшим голосом сообщил, что его не взяли, взяли только хороших лыжников. Торопился, боялся, что не успеет. Успел. 12 сентября 41-го он записывает в дневнике: «И никто из нас не может сказать, встретимся ли мы снова все вместе. Сегодня мы с Мухой говорили о том, как мы будем праздновать победу. И она сказала, что нам наверно будет грустно. Многих не будет среди нас. А я думаю, что все равно будет очень весело. И если меня не будет, пусть кто-нибудь напомнит об этом Мухе».
Он верил в будущее. В стихах, посвященных еще не рожденной дочери (мы оба почему-то непоколебимо были уверены, что будет дочь), он писал:
Мы Светланой тебя назовем
И выпустим в мир.
Ты прими этот мир
Как подарок от нас.
И по детской привычке
Смотреть, что внутри,
Открой
и посмотри.
* * *
...Та, которая могла бы рассказать о нашей с тобой любви, та умерла той же осенью сорок второго года. А я, я прожила еще неправдоподобно много жизней, все меньше и меньше сопрягающихся с той, нашей.
За все, что было, я тебе благодарна.
1965-1969
7.
Вера
Слушаю вечернюю мессу в Каунасе, в базилике. Июль 1966 года. Впервые в жизни сижу в церкви. Скамьи высокие, ноги у меня не достают до полу. Можно поставить ноги на нижнюю широкую перекладину. Эта перекладина для того, чтобы опускаться на колени.
Костел обыкновенный, не принадлежит к выдающимся творениям архитектуры; и тем явственнее весь продуманный, освященный столетиями ритуал, — на тебя воздействуют звуки, краски, слова, переливы света...
Костел большой. Народу много, но места свободные есть. Преимущественно пожилые женщины. Сзади меня молодая пара. Он в синем пиджаке, голубая рубашка чуть расстегнута. Без галстука. Это форма — полупарадная. Другие мужчины — в парадной форме, в черном. Девушке явно скучно, она вертит головой, не слушает, дергает спутника за рукав. Он пытается слабо сопротивляться, однако вскоре сдается — уходят.
Движение тихое, но безостановочное. Входит старушка с маленьким мальчиком, опускается на колени. И мальчика толкнула на колени, с силой толкнула, будто хочет доказать кому-то, дочери или зятю.
Соседку с янтарными четками сердит мое присутствие. Почти не оборачиваюсь в ее сторону, чувствую, что раздражает. И наверно она права — здесь я чужеродная.
В 1956 году, десять лет тому назад, ехала я по Варшаве в автобусе, в первый день приезда в Польшу. Вдруг со всех мужчин словно сдуло шляпы. Я сначала не поняла, в чем дело. Мне показали — проезжаем костел. «Однако сильно еще в Польше влияние католицизма» — вот, пожалуй, и все, что я подумала тогда. А сегодня меня это затрагивает всерьез.
Бог вошел в мою жизнь рано. Его привела няня. Помню, как она появилась, закрыла дверь и мы остались наедине. Я заплакала от испуга: впервые кто-то другой, не мама. Няня быстро меня успокоила. Посадила на колени перед окном, тем самым окном, через которое смотрит на мир мой внук, и начала рассказывать. Тогда в окно видны были четыре острых шпиля кирхи, что на улице Станкевича. И няня говорила, что, когда я вырасту большая, мы с ней пойдем во все церкви.
Звали ее классическим именем Арина, но для всех в доме она была просто «няня». Сухая, подвижная, лицо круглое с мелкими морщинами, с крошечным пучком сзади, в белом платочке. Она прожила у нас двадцать лет. Помню я ее только старой. Она не стала дожидаться, пока я вырасту большая, она водила меня в церковь, я истово целовала Иверскую икону, подражала во всем няне. Нянин Бог был добрым, с ним легко было сговориться, он легко прощал, отпускал грехи.
Няня любила выпить. В субботу, в воскресенье она выпивала понемногу и мне предлагала, но мне водка не понравилась. По праздникам она ездила к своей сестре, куда-то в район Тверских-Ямских — тогда это представлялось целым путешествием — и часто брала меня с собой. Там пили много и шумно, ругались, а то и дрались. Возвращались мы с ней домой, заходили в нашу церковь на Столешниковом переулке, теперь там книгохранилище Библиотеки иностранной литературы. «Прогневила я тебя, раба Божия, жизнь веду неправедную», — громко начинала няня. И я тоже вслед за ней каялась перед Богом всемогущим. Не знала, почему каюсь, но над всеми моими детскими проступками, играми, фантазиями возвышался Бог.
Собственно говоря, в моем детстве был не один, а два Бога. У нас жила бабушка — мамина мама — очень старая. Она спала в маленькой проходной комнате, я помню ее только лежащей... Там было душно, и почему-то страшно. Бабушка рассказывала мне про своего Бога, рассказывала Библию. Бабушкин Бог — в отличие от няниного — был злой, швырял камни и все время воевал. Камни надолго остались для меня единственным ощущением Библии. Может быть, дело было еще и в том, что няня с бабушкой враждовали, а я всегда была на стороне няни.
Родители неверующие, во всяком случае ни одного разговора о религии я в детстве не помню. Детская вера подтачивалась, как именно, кем именно — не знаю. И наступил в моей жизни весенний день. Я, девятилетняя, возвращалась домой из школы. Как обычно, часто останавливалась. Там, где сейчас спесивый бронзовый всадник — Юрий Долгорукий, а тогда был обелиск Свободы, меня озарило: а ведь Бога нет. В первое мгновение даже холодным потом обдало, так стало страшно. Сейчас, сию минуту я должна провалиться под землю. Или Господь пошлет в меня молнию. Стою, все вокруг спокойно, идут люди, смеются, разговаривают.
Нет Бога. Захотелось крикнуть, испытать судьбу. Громко крикнуть — Бога нет! Все по-прежнему было спокойно.
Что же теперь делать? Как жить? Как сказать няне?.. Я еще продолжала какое-то время ходить с няней в церковь, но все больше и больше тяготилась этим.
А тем временем в жизнь входила иная религия.
Много позже, чем была написана эта глава, я прочитала в книге Бердяева «Самопознание»: «Тоталитарный коммунизм есть лжерелигия. И именно как лжерелигия коммунизм преследует все религии, преследует как конкурент» (т. 11, с. 265).
В заявлении из ссылки (май 1980 г.) Андрей Сахаров утверждает: «...Ведь коммунистическая идеология в Советском Союзе — идеологическом эпицентре... возникла из стремления к правде и справедливости, как и другие религиозные, этические и философские системы».
Самое раннее воспоминание об иной религии — январь двадцать четвертого года. Мне пять лет. Я смотрю в окно — идут толпы по Тверской, хоронят Ленина. Все взрослые там, на улице. Нас, детей — моей сестре полтора месяца, — нас оставили дома с няней. Слишком холодно. Напрасно я плакала, просила и меня взять. Я смотрю в окно, и больше всего на свете мне хочется быть там, со всеми, в этих строгих и торжественных колоннах.
В 1928 году меня принимали в пионеры. «Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира...» Помню с тех пор.
Я была уверена, что перестала верить в Бога. Пионерское детство, комсомольская юность.
Долой, долой монахов,
долой, долой попов,
мы на небо залезем,
разгоним всех богов! —
а на самом деле надолго вступила в новую церковь.
...В костеле продолжается движение. Моя соседка резко, неодобрительно оборачивается: вошли туристы, загорелые, с рюкзаками, девушки в брюках. Озираются, перешептываются, заглядывают в путеводители и быстро уходят.
Передо мной на скамье женщина, которую на улице я приняла бы за профсоюзную активистку: короткая стрижка, потрепанный портфель. Она перебирает четки, похожие на жемчуг. Перебирает в такт органу. Она сидит на скамье, но время от времени опускается на колени, потом так же неожиданно поднимается. Словно прислушивается к звонку, мне неслышному. По звонку идут в костел, по звонку жалуются Богу, по звонку доверяют ему свои тайны, исповедуются.
Вошла семья — отец, мать, двое детей. Одеты по-праздничному. Не эта ли семья обедала с нами в ресторане «Тульпе»? Расширенная праздничная программа — сначала ресторан, потом церковь.
В проходе усталая женщина, у ее ног две корзины. Видно, приехала издалека на завтрашний воскресный рынок, а сегодня — к Богу.
Когда окончилась месса, я вышла из костела вслед за тремя немолодыми мужчинами. Они перед иконой привычно сделали что-то вроде книксена, перекрестились, а на улице стали деловито сговариваться — как сообразить на троих. Богу — Богово, а жизнь идет своим чередом.
Когда отец начал водить меня в консерваторию, музыки я не слушала и от скуки считала трубы органа. Каждый раз получалось разное число. Так я и до сих пор не знаю, сколько труб у органа в Московской консерватории.
Но в костеле Каунаса во время мессы я уже не считала трубы органа. Торжественная музыка входила как воздух, а когда замолкал орган, тихим эхом отзывались стены, купол, алтарь, скульптуры. Костел звучал.
Как странно сидеть в церкви! Я об этом знала из английских, американских романов, из фильмов. Люди приходят к Богу регулярно, это часть быта, они хотят общаться с Ним со всеми удобствами.
В студенческие годы мы читали вслух журнал «Безбожник» в рабочих общежитиях. За каждую читку редакция почему-то платила баснословную сумму — 25 рублей. Я не помню ни одного вопроса, ни одного спора — скорее всего их не было. Нас либо слушали, либо делали вид, что слушают. Никаким испытаниям мой атеизм не подвергался.
В сентябре сорок второго года я после долгого перерыва опять вошла в церковь в Брюсовском переулке. На меня обрушилось горе. Погиб мой муж.
Мне хотелось остаться одной, но не давали. Трое суток кто-то сидел рядом, ходил вокруг. На четвертый день я просто сбежала и укрылась в церкви.
В прохладном полумраке молились женщины, они были в черном. И я была в черном. На меня никто не смотрел, никто ни о чем не спрашивал. Службы в тот день не было. Наконец-то я нашла убежище и тишину — то, к чему стремилась все эти семьдесят два часа. Здесь я могла тихо плакать, вспоминать, мечтать о чуде, возвращаться в нашу любовь.
Каждый день я выходила на час, на полтора раньше и по дороге на работу переступала церковный порог. Я смотрела на иконы, а думала о другом. О том, как гибнут люди, мои друзья, совсем молодые. Умирают в окопах, в медсанбатах, за колючей проволокой немецких лагерей.
Как умирал Леня? О чем он думал в те последние мгновения, когда загорелся самолет? Он очень хотел жить. А в одну из военных ночей, когда он еще был дома, сказал мне спокойно и просто: «Я не вернусь с этой войны». И не вернулся он, предназначенный для жизни.
От семнадцати до двадцати четырех я прожила, окруженная кольцом его любви, заговоренная ото всех бед. Кольцо распалось, и я очутилась перед жизнью одна, без защиты.
Но ведь я — как все. Мое горе — частица общего горя.
— Не смей жалеть себя, — так приказывала, но не всегда и не сразу могла выполнить этот приказ. В церкви и только в церкви было не стыдно жалеть себя.
— Не смей жалеть себя, тебе лучше, чем другим.
Мне, действительно, было лучше. У меня была работа, которая казалась нужной. Товарищи уважали меня, любили. Смерть мужа не повлекла бедности. Я зарабатывала достаточно.
Я могла позволить себе зайти в церковь до или после работы. Мне не надо было бежать в очередь отоваривать продовольственные карточки, суп варила мама, дочку из детского сада могли привести и без меня.
Тогда я еще не знала о другом горе — когда теряешь близких, но даже плакать о них смеешь только тайком.
Мне было лучше, чем многим вдовам. Но это сознание не утешало. Лени нет и не будет никогда. И это горе не сравнить ни с чем, и мне не легче от того, что разбилось не только мое счастье, не только моя жизнь.
Лица в церкви примелькались, я узнавала людей, меня узнавали. Недели через две женщина (мы часто стояли рядом) сказала мне: «Поплачешь здесь и вроде легче, верно?» Слова добрые, но делиться одиночеством, делиться убежищем я не хотела.
И в такой же солнечный, ясный, погожий день, как и тогда в детстве, я ушла из церкви.
Военная вдова, я пришла в Божий дом лечиться — лечиться темнотой, тишиной, одиночеством. Пришла зализывать раны. Если бы у меня была отдельная, запирающаяся на ключ комната и возможность не отвечать на вопрос: «Ну, как сегодня?», мне и в голову не пришло бы войти в церковь.
К тому же я испытывала смутное беспокойство — вот я, член партии, хожу в церковь.
Много лет мне не приходилось встречаться с верующими людьми. А сейчас все чаще и чаще я встречаю Бога в книгах и людях. Иногда — в близких.
Стоит перед глазами затопленная церковь в Калягине, высокая колокольня из белесого тумана. Церкви забитые, со снятыми крестами, полусгнившие и обновленные на Волге, на Севере и здесь, в Литве.
Кто-то из туристов на теплоходе на Волге презрительно заметил: «Все церкви, церкви — святых, что ли, из нас хотят сделать?» А мужчина номенклатурного вида сурово сказал: «Ни одного завода в программе, ни одной новостройки, все церкви и церкви — надо это проверить».
Пожалуй, так я не сказала бы и не подумала бы и в прежние годы. Но красоту церквей ощущать, понимать я начала поздно. Вероятно — непоправимо поздно.
Насколько легче стало бы мне сегодня, если бы я могла вновь поверить в Бога, в богочеловека, распятого, мучающегося на миллионах полотен и скульптур! Завидую тем, кто может. Завидую тем, у кого есть церковь, все равно какая — с Христом ли, с Магометом ли, с Буддой ли, с Марксом ли. Завидую вере и наивной, детски-крестьянской, и умудренной, как у Ахматовой или у Эйнштейна.
Смотрела фильм Пазолини «Евангелие от Матфея». Смотрела, и накапливалось раздражение. Не мой Христос, не тот, нянин, добрый мужицкий Бог, не похож и на князя Мышкина. Когда он говорит: «Подставь вторую щеку», эти слова противоречат его характеру. И Нагорную проповедь он выпаливает с пулеметной скоростью, деловито, сердито. А вот когда он говорит: «Я принес не мир, но меч», когда отрекается от матери — это ему под стать, по нраву. Если спасать мир — а он ощущает миссию, — то без меча, без жестокости это, наверно, невозможно.
У Пазолини он — вождь крестьянской революции, одержимый, нетерпимый фанатик. За другим — не пошли бы. Но такого Христа мне долго заменяли мученики, знаменосцы моей второй религии: Робеспьер, пока он еще не пролил крови, или Александр Ульянов.
Один раз — человеческая улыбка — детям. Только когда начинается Голгофа, он становится моим, близким Христу Достоевского, Христу Пастернака.
С верой в коммунизм я расставалась, вернее, расстаюсь иначе, чем с верой в Бога. Не было мгновенного озарения. Были, идут тяжкие годы; спрашиваю себя. И сколько раз за это время было желание вернуться. Вернуться из этой пустоты, где только вопросы без ответов, где обрушились кумиры и если не задавило обломками, то все равно холодно, запущенно...
Вернуться в романтичный мир, где поют старые революционные песни, в мир, где для кого-то все еще победоносно шествует революция.
А вернуться туда нельзя. Нет у мысли обратного хода, нет обратного хода у знания, у прозрения. Как нет и обратного пути в детство.
Герцен говорит о том, как соблазнительна мысль о свидании за гробом, но и прощаясь с Натальей Александровной, он не позволил себе этого утешения.
...Мне, девочке, мало что было доступно в проповедях. Но именно в церкви я услышала впервые, что люди равны. Что бедные лучше богатых.
Этому же меня потом учили в школе и в пионеротряде.
Девочка услышала в церкви, что лучший мир — царство Божие — впереди. Что к этому лучшему миру надо идти не в одиночку, а сообща, вместе. (Что само слово «религия» означает «связь», religare — связывать, я узнала много позже). Так же как и то, что «основное религиозное чувство» — по Толстому — есть «сознание равенства и братства людей» («Воскресение»). Жить надо добром и справедливостью для того, чтобы этот лучший мир наступил скорее и для всех.
В школе и пионеротряде меня тоже учили тому, что лучший мир впереди — только на земле, а не на небе и строить его надо всем вместе.
...Из трех священных понятий моей юности: Свобода, Равенство, Братство — два первых искажены. Братство зависит только от тебя — быть ли братом другим; этот идеал остался чистым.
Чем, как прельстила меня в детстве идея равенства?
...Мы играем в салки, в прятки, в «Трех мушкетеров» у нас в отдельной квартире. Мои подруги и друзья все живут в коммуналках. Значит, мы богатые? Это несправедливо, это стыдно, что мне лучше, чем другим.
Позднее я узнала, что мама никогда не дотягивала до очередной зарплаты, искала приработки, относила в ломбард тяжелые зимние пальто — иных драгоценностей не было. Когда узнала — испытала облегчение: значит, мы не такие уж богатые.
...Первый курс института. Я комсорг, иду к декану просить за нашу студентку-отличницу: ей отказали в стипендии.
— Правильно отказали. Ну и что ж, что отличница? Она в шелковых платьях на лекции ходит.
Он дурак, этот чиновник, присланный в деканат откуда-то из МТС. Но ведь она и впрямь хорошо одевается.
...Начало семидесятых годов. Лидия Чуковская просит известного поэта выступить в детской библиотеке, построенной Корнеем Ивановичем, перед школьниками окрестных деревень.
— Лидия Корнеевна, для вас я это сделаю. Но, по-моему, это никому не нужно: ни им, ни мне.
Лидия Корнеевна гневается: вспоминает, что Корнея Ивановича исключили из гимназии по пресловутому закону о «кухаркиных детях». И вот снова — поэт считает излишним читать стихи сегодняшним кухаркиным детям...
В юности я мечтала о равенстве. Сегодня у нас самое чудовищное неравенство. Царство привилегий: власти, номенклатуры, богатства, связей и еще чего угодно.
Что привело к этому? Неужели мечта о равенстве? Но ведь эта мечта была подавлена едва ли не сразу же, на заре революции.
Некоторых из тех, кто жил в хижинах, стали переселять во дворцы, а позже строили новые дворцы, роскошнее всех прежних. А тех, кто уцелел из былых обитателей дворцов, выбрасывали в лучшем случае в хижины, а то и в тюремные бараки.
Потом укрепилась каста. Одно неравенство сменилось другим, неизмеримо большим, неизмеримо более лицемерным.
Насильственное равенство тюрьмы, казармы, колхоза ужасно. Этого у нас сегодня никому не надо доказывать. А то, что отсутствие привилегий, отказ от них мог и может привлекать, — в этом убедить сегодня трудно, и во многих случаях это встречает отпор.
А мне и сегодня неловко перед теми, у кого меньше, чем у меня — денег ли, метров ли в квартире, свободы ли, книг, платьев. Мне чуждо распространенное сегодня поклонение элите, в частности — дворянству, а у этого мироощущения все больше сторонников, и не только среди правящих, но и среди оппозиционеров.
Понимаю, что в иных случаях можно и должно желать привилегий для других («он такой талантливый..», «он такой больной», «он такой незащищенный»). Но не для себя.
...Мы сидим в очередной раз на кухне у Сахаровых. Идет напряженный разговор. А надо мною мелькают руки Елены Боннер-Сахаровой: она вынимает из холодильника колбасы, банки с консервами, она делит академический паек. Родственники едут к ссыльным, надо везти еду.
Вот это стремление разделить мне понятно и близко.
Мало что на протяжении долгой и путаной жизни сохранилось, а стремление платить долг тем, у кого меньше, отвращение к привилегиям — сохранилось. От этой части наследия русской демократической интеллигенции я не отказываюсь.
* * *
...Девятое августа 1965 года. Возвращаемся с похорон Фриды Вигдоровой. Говорю:
— Его нет, раз Он позволил, чтобы Фрида умерла.
Лидия Корнеевна:
— Конечно, Его нет.
Елена Сергеевна:
— Я не знаю...
И я не знаю.
1966
рекомендуем читать:
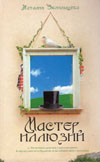
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





