ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
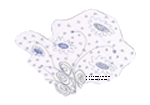


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
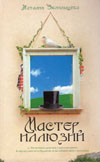
рекомендуем читать:

© Полякова Надежда 1989
Прошлое — это роскошь собственника.
Жан-Поль Сартр
Такой вопрос мне хочется задать своему отцу.
Но отца давно нет: он скончался, когда ему было около восьмидесяти лет. Мне тогда перевалило за тридцать. Я была вполне взрослой и так давно жила самостоятельно, отдельно и далеко от родителей, что меня чаще волновал не этот вопрос, а где приклонить голову и как добыть хлеб насущный.
Откуда берет начало отцовский род? Ведь было же когда-то начало? Или не было начала и жизнь бесконечна, а началом мы привыкли считать то, с чего начинается наша память? Жалею, что, когда была маленькой, не расспрашивала отца и его старших сестер, которые должны были что-то помнить и, конечно, помнили, потому что гордились своей фамилией, хотя причина гордости мне не понятна до сих пор.
Мой отец был девятым ребенком в семье, самым младшим. Старшие сестры, которых я хорошо помню, называли его Минькой даже тогда, когда он был седым и далеко не молодым человеком.
— Смотри у меня, Минька, дождешься, лопнет мое терпенье, — говорила папе его сестра, тетя Груша, когда он бывал под хмельком.
Водку в те времена называли «рыковка», достать ее можно было только в городе, но ездили в город за шестьдесят верст и доставали. Причем ездили не на машинах, автобусах или мотоциклах, о которых тогда и слыхом не слыхивали, а на лошадях.
Помню, как пили, вернее, смаковали эту самую «рыковку» в нашем доме — что бывало крайне редко — и приговаривали:
Эх, калѝна-кáлина.
Нет порток у Сталина.
А есть портки у Рыкова,
И то — Петра Великого.
Мама, не выпившая за свою жизнь ни капли спиртного, не любила, когда папа выпивал или даже когда от него пахло спиртным.
Она жаловалась тете Груше.
Приходила из деревни, — а я забыла сказать, что мы жили на хуторе, — тетя Груша, осанистая, в широкой юбке и широкой кофте навыпуск, скуластая, черноглазая и совершенно седая, как и папа. Волосы, густые и еще волнистые, она стригла под гребенку.
— Смотри, Минька...
— Не буду больше, Грунюшка, не сердись, сестрица, больше не буду, — заискивающе бормотал он, как провинившийся ребенок.
При этом он казался меньше ростом. Он и так был невысок, быстр в движениях, стремителен при ходьбе.
Не только я, но и мама знали его седым и никогда не видели его, когда у него седины не было, потому что поседел он рано, задолго до знакомства с мамой.
...Теперь, когда я вспоминаю отца в уже более поздние годы, он мне кажется серебряным: серебряная, коротко остриженная голова, серебряные усы, чуть пожелтевшие над верхней губой от табачного дыма, старая, серая, застиранная одежда, напоминающая ту, которая в конце восьмидесятых вошла в моду под названием «варенка».
С возрастом он все более предпочитал блуждание по лесам общению с людьми и все больше становился похожим на старичка-лесовичка, который сидит на серебряном пеньке, обросшем серебряным плоским мохом, и серебряные паутинки тянутся от его седой головы к серебряным веткам соснового подлеска...
Он не боялся лесных зверей, и, думаю, они принимали его за своего.
Как-то раз, когда он вот так сидел на пеньке, он услышал сзади тяжелые шаги, но не шелохнулся и не оглянулся. Затем услышал глубокий вздох за своей спиной. И кто-то большой и тяжелый надавил ему на плечо. Отец, продолжая сидеть неподвижно, скосил глаза влево, увидел большую морду лося, который оперся подбородком на его плечо. Постоял лось, подышал, поднял голову и, так же тяжело ступая, отправился назад.
Лось не хищное животное, но встреч с ним в лесу люди избегают, он может боднуть, ударить копытом...
...За год до смерти отец, перенесший инсульт, но бодрившийся и храбрившийся и отвергавший постороннюю помощь, решил рассказать и объяснить мне свою жизнь. Может быть, здесь было желание не только рассказать то, чего я не знала, но и оправдаться передо мной в том, что с десятилетнего возраста я была лишена родительского дома...
От рассказа отца — к нему я еще вернусь — в моей памяти осталось очень мало, я ничего, к сожалению, не записывала, никогда не думала, что может пригодиться.
...Были годы, когда лучше было вообще ничего не записывать.
Незадолго до смерти отца я сожгла свои дневники, которые вела с детства в продолжение двадцати лет. Были времена, когда неосторожной записью в дневнике можно было невольно испортить, исковеркать жизнь не только себе, но и своим близким, знакомым.
Теперь мне кажется, что все, что я знаю о нем и его родне, я знала всегда из тех отрывочных фраз, которые произносились дома.
— Когда мы жили на бешлоте... — начинала свой рассказ тетя Груша, самая близкая нашей семье и по месту жительства, и по душевному складу.
Я, девочка, представляла себе, где бешлот: вверх по течению Меты, далеко-далеко. Но что такое «бешлот» [Бейшлот — старинное название плотины, образующей в верховьях судоходной реки водохранилище.]— не понимала...
...В середине прошлого века семья моего деда жила в Вышнем Волочке. Дед работал на бейшлоте. Потом семья почему-то снялась с места и пошла вниз по Мете, пока не остановилась в деревне, окрестности которой особенно приглянулись деду. Что его привлекло здесь, кроме сосновых лесов с многочисленными тихими озерами и непроходимых болот, я не знаю. Семья не была крестьянской, качество земли ее не интересовало, земля здесь плохая. Родных не было.
— Мама, чем занимался папин отец?
— Он приписался к нашим местам, говорят, сапожничал... Они мещане были, к земле не привязывались...
— А что такое «приписались»?
— Тогда так говорили. Наверное, вроде теперешней прописки.
— Мама, а что они делали на бешлоте?
Но мама ничего не знала о том, чем занимался ее свекор на бейшлоте, потому что она его не знала, не знала, что выйдет замуж вторым браком за моего, к тому времени уже седого отца.
...Думаю, что и о бейшлоте она не имела никакого представления.
Семья, как мне представляется, жила жизнью, типичной для мещан того времени: земельных угодий не имели. Значит, каждому ребенку надо давать специальность, ремесло, куда-то посылать, чему-то учить.
Папины братья и сестры, подрастая, быстро становились на ноги, жили в городе, девушки шли в услужение или обучались швейному мастерству, тетя Тоня, тоненькая, изящная, пошла в танцорки.
— Когда я танцевала в малороссийской труппе... — вспоминала она самое светлое свое время.
Расставшись с семьей, разлетевшись из родительского гнезда, папа, его братья и сестры жили вольными птахами, то есть так, как бог на душу положит.
— Когда я жила с бароном... — начинала свой рассказ тетя Груша. — У меня была шляпа с полями из темно-зеленого бархата...
— Грунюшка, у тебя была шляпа из лилового бархата, — перебивала ее тетя Тоня.
— Мне лучше знать, какая у меня была шляпа. Из темно-зеленого бархата. Когда я переходила Дворцовую площадь, городовой брал под козырек: я была похожа на великую княгиню Ксению...
Я не видела портретов великой княгини Ксении, а большой тети Грушин портрет мне очень нравился. Увидев такую молодую даму, можно было взять под козырек, даже если она и не похожа на великую княгиню Ксению...
— Мы не из простых, — гордо говорила тетя Груша. — Наш дед был купцом...
Тетя Тоня, особенно склонная к иронии, перебивала:
— В Новгороде семечками торговал...
...Меня забавляла перепалка двух уже старых женщин...
После малороссийской труппы и после жизни с бароном, уехавшим за границу и оставившим на произвол судьбы свою красивую русскую подружку, пташки попались в клетки замужества...
...Но это потом, потом...
Отец мой, мальчиком окончив церковно-приходскую школу, послан был в Москву обучаться токарному делу.
Он выучился, полюбил свое ремесло, стал первоклассным токарем по дереву и, кроме того, — и вследствие того — старшим мастером модельного цеха на заводе, который нынче называется заводом имени Лихачева...
...Отец, скажи мне: кто я?
Думаю, что если бы он мог, он сказал бы:
— Ты моя последняя надежда, единственная и последняя любовь, кроме тебя, у меня ничего не осталось...
— Я всегда знала, что это так, папа. Но я ничего не знаю о твоих корнях, о прошлом твоей семьи, о твоих дедах и прадедах...
— Зачем тебе это знать? Они были и ушли. А ты появилась на свет, как росток от тех корней, которых ты не знаешь, как не знает молодой весенний листок о корнях, спрятанных глубоко в земле... Разве листок становится хуже от этого? Главное, чтобы его раньше времени не сбило ветром...
— Все это так, все это так... А все-таки... Ведь мы же не Иваны, не помнящие родства?
— Не столько Иванами, не помнящими родства, сколько сиротами времени полна земля наша...
...Мама пережила папу на восемнадцать лет...
...У нас с ней было время поговорить...
— Мама, а как ты познакомилась с папой?
— Это долгая история. Надо начинать с моего первого замужества, да нет, пожалуй, еще с девичества. Жили мы большой семьей — отец, мать, бабушка и пятеро детей. Пятого мама родила в сорок шесть лет и умерла от чахотки, оставив полугодовалого младенца на мои руки. Помню, я в поле была, сохой пахала. А соха — не плуг, соху надо все время на весу держать, а то в землю воткнется, так на животе рукоять и держишь. Ох, как это тяжело! Пашу, значит. Смотрю, бежит женщина, соседка: «Настя, Настя, мать помирает!» Бросила я и лошадь, и соху и домой бегом. Да уж поздно, померла... Осталась я сиротам и за мать, и за няньку. А было мне шестнадцать лет. Велика, чтоб сохой пахать, лен растить, обрабатывать — ничего труднее льна не знаю в крестьянстве, — прясть, ткать, а наткать-то надо и на верхнее, и на исподнее, обшить надо и обстирать всех... А для большого ума шестнадцати лет мало... Да от девушки большого ума и не требовалось. Главное — руки работящие, выносливость, терпеливость, молчаливость, хозяйственность... Был у меня в ту пору парень — жених не жених, не сватался, а так-то мы все переговорили, но не могла я думать о замужестве: как же без меня отец да сироты останутся?
Расстались мы. Годы мои за двадцать перевалили. Старший брат женился, отделился. Второго в солдаты взяли, а тут — война, убили его... Сваха приходит. Сватает из деревни на хутор. Хутор по нашим местам считается не так чтобы богатым, но вполне зажиточным. «Выходи, Настя, из нужды вырвешься. Жених-то не крестьянин, мещанин. Хорош больно. Красивый, высокий, да и не бедный. В Питере живет, а ты тут одна будешь, как барыня, одна в двухэтажном доме». Так мне все говорили. «Решай, дочка, — сказал отец, — не век в девках сидеть...» Я о богатстве не думала, я от нищеты решилась... Показали нас друг другу — меня, значит, и жениха. Правда, красивый и высокий. Молчаливый, суровый. Свадьбу сыграли. Да и не так, чтобы свадьбу, свадебка была бедненькая, в церковь съездили, из церкви вернулись, за стол сели, «горько» кричали, всё как полагается... А я была как деревянная, холодная какая-то, пустая, и сказать мне нечего, и любви никакой не чувствую, как будто что-то не то делаю... Но дело сделано, обратно не побежишь. А прибежишь к отцу — позора не оберешься. Отец, правда, добрый был, жалел меня. Но что он мог при его бедности? Годы-то уходили... Но самое страшное выяснилось в первую же ночь в мужнином доме...
И мама рассказала историю, похожую на историю Джейн Эйр. Только в английском романе сумасшедшей была первая жена хозяина дома, а в мамином варианте — мать мужа, свекровь.
Не знаю, сколько лет прожила эта безумная старуха, но маме до последних ее дней она виделась во сне. Старуха выходила из-за шкафа, вылезала из-под стола, согнувшись, подходила к маме, тянула руки к ее горлу...
Мама бредила, кричала...
— Господи помилуй, Господи помилуй, — шептала мама.
...— Ну вот, сынок родился, а через шесть лет — второй. Двухэтажный дом пересыпали, потому что нижние венцы подгнили, да и не нужен он стал после смерти свекрови, поставили одноэтажный, в котором ты родилась... Это уж потом, потом... А тогда-то, при первом муже, летом я жила на хуторе, муж летом приезжал из Питера, а осенью я к нему в Питер ездила. Он был одним из акционеров гвоздильного завода. Жили недалеко от Малого, на Васильевском. Там такая желтая церковь... Знаешь? В революцию землю и сосновую рощу отняли... Муж сошел с ума. На самом деле — сошел с ума — так переживал. Все разбогатеть собирался, а тут и последнее отняли. Он все свертывал газеты и прятал за пазуху. «Это, говорит, мои документы на землю и на лес. Это, говорит, законно куплено, по наследству мне досталось. Все законно». Умер он, когда младшенькому, Сереженьке, было всего полгодика. А Коле — шесть годков. Голод наступил. Тогда говорили, что разруха пришла. В доме кое-что было ценного. Продавать стала. Мало давали. И за шаль, и за пальто, и за часы мужа. Раз бабы деревенские говорят: «Поедем, Настя, на Украину, там на обручальные кольца больше муки выменяешь, чем здесь». Поехали. А куда поехали, не знаю. С поезда нас гонят. Тогда поезда-то с боем брали. А на остановках бегали, дрова да хворост собирали, чтобы паровоз топить. С поезда, значит, гонят. «Мешочники, — кричат, — расстрелять вас мало. Из-за вас в стране голод». Это из-за меня да из-за моих голодных сирот страна голодает... Из-за моих двух обручальных колец — с пальца покойного снятого да моего — страна без хлеба остается. Но кричат, расстрелом грозят. Сердце замирает. Только бы мешок с мукой не отобрали! Довезти бы, думаю, оставить детям, а там пусть стреляют. Привезла мешок муки. Слава Богу! Стали смешивать с лебедой, с размолотой сосновой корой. Коленьку посылала за лебедой да за вереском. Он, бедный, просит: «Мама, дай хоть маленький кусочек чистенького хлебца. Не могу я больше эту отраву есть, живот болит...» Выжили дети, не умерли, а уж не думала, что выживут. Так и перебивалась...
— А во время нэпа увидела твоего отца. Он в отпуск приехал, по берегу с удочкой ходил. Понравился мне. Такой самостоятельный, приветливый, пройдет, поклонится. Седой, усы красивые, глаза голубые...
...Коля, старший мамин сын от первого брака, — так мне всегда казалось — не любил моего отца и до конца своих дней не забыл обиду на мать за второй брак. Усмехаясь, он когда-то рассказывал мне:
— Знаешь, как мать твоего отца обихаживала? Меня посылала на реку: спроси у дачника, не поставить ли самоварчик? Не хочет ли дачник чайку?
Дачник от чая не отказывался...
...Через некоторое время поехали в церковь венчаться. Коля, любимый, послушный, двенадцатилетний подросток, перед которым мама всю свою жизнь чувствовала вину за свою слабость, нес икону перед «молодыми». Нес и опускал глаза, краснел, ему было стыдно, что мать, дороже которой он никого на свете не имел, променяла его и младшего брата на чужого седого человека, которому они, как он считал, были не нужны...
Отец съездил в Москву, рассчитался на заводе, а может, до этого еще съездил, скорее всего — до этого, потому что ему надо было уладить и другие дела...
В Москве у него была семья — это я уже позднее узнала из разговоров взрослых, которые разговаривали, не стесняясь меня и считая, что я маленькая и ничего не понимаю. Московская жена, по словам папы, «давно нашла себе комиссара и жила с ним открыто». Детей, двух мальчиков такого же возраста, как мамины сыновья, ему не отдала. А на детях особенно настаивала мама, чтобы быть в равном положении: у тебя двое, у меня двое, пусть вместе растут. «Места хватит, а я не обижу».
Он привез из Москвы инструмент, поставил рядом с маминым домом мастерскую, в мастерской установил токарный станок, заготовил деревянные болванки и приступил к делу.
Все это было до моего рождения.
Как я помню себя, у папы всегда была мастерская, где из его рук выходили детские игрушки, бесконечные матрешки или яйца — одно в другом — по одиннадцати штук, рюмки, блюда, тарелки, только нечем их было раскрашивать, о чем всегда жалел папа. Делал по заказу столы, кровати, диваны, которые у нас назывались канапельками, вероятно, от французского «канапе». До сих пор в окрестных деревнях нет-нет и встретишь у старых людей, не успевших или не имевших возможности обзавестись современной полированной мебелью, точеную деревянную кровать или канапельку, семьдесят лет назад сделанную моим отцом. Уже хозяева не помнят, когда и откуда появились эти вещи в их доме, а они стоят, живут, служат людям.
Я любила смотреть, как папа обрабатывает поверхность дерева осколком стекла, наждаком, сначала крупнозернистым, потом все более мелким и наконец — суконкой или куском старого валенка, чтобы дерево блестело и отчетливо просматривались узоры годовых колец или место бывшего сучка.
Он показывал мне, как надо это делать, скользить вдоль волокон, а не против, чтобы не было шершавинки, чтобы не нарушалось строение древесной основы. Дерево под рукой становилось теплым, живым...
...Все это было потом.
А в начале...
...Мама любила отца и была счастлива: она ждала ребенка.
В середине декабря, в суровую и снежную зиму, описанную многими писателями и историками, но отнюдь не по поводу моего появления на свет, в лютую стужу, когда «дочери не вышлешь в очередь», пришло маме время родить.
Пригласили повивальную бабку, бабушку Лушу, Лукерью, которую все называли Бабушкой, потому что в ту пору это слово было синонимом слова «акушерка».
Лукерья была великой мастерицей своего дела, которым занималась с юных лет. Она и мою мать принимала, и всех маминых братьев и сестер, и маминых сыновей. Теперь Лукерья была стара и слово «бабушка» относилось и прямо к ее возрасту.
Маленькая, круглолицая, с носом в виде небольшой картофелинки, она была подвижна без суетливости, говорлива без многословия.
Слова, которые она говорила, были по делу и к месту.
Для Лукерьи все было ясно, роды начались своевременно, проходили нормально, все, как полагается, шло своим чередом — воды, потуги и все такое прочее. Но было непонятно, почему же роженица не могла родить? И мальчишек рожала трудно — это хорошо помнила бабушка Луша, — от непосильной работы трудные роды или уж так устроены своды-проходы, но рожала и мальчишек трудно. А тут — третьи роды, а хоть караул кричи. Да что ж? И караул покричать можно, да ни к чему это, никто не услышит. А и услышит — да не поможет.
— Пойду в сарай, помолюсь Богородице, — сказал отец, никогда не отличавшийся большой набожностью.
— Иди, родимый, помолись, — разрешила Лукерья, — если что, я тебя покричу. А ты, сынок, — обратилась она к Коле, — беги-ка в Глиненец к батюшке, к отцу Николаю, пусть он царские врата в церкви откроет...
Считалось, что при трудных родах надо открыть царские врата в церкви — и тогда женщина родит...
Мальчик вышел из дома и сразу растаял, растворился в черной непроглядной ночи и крутящей, сбивающей с ног метели.
До Глиненца, где была приходская церковь — километрах в семи от нашего хутора, — он не дошел, а кое-как добрался до Семериц, это километра за два от дома, разбудил папину старшую сестру Грунюшку, рассказл ей, куда и зачем он послан.
— Раздевайся — и на печку. Никуда не пойдешь. С ума они сошли, что ли? Суждено родить — так родит. А тебя метель с ног собьет, заблудишься, замерзнешь, волки съедят. Вон их сколько бегает, в деревню заходят. Как до меня-то добрался в такую погоду — удивительно! Этого еще не хватало, чтобы мальчишку волки съели!
Тетя Груша, как и вся папина родня, была недовольна папиным браком, считала маму недостойной быть им родней, ровней, женой их любимого Миньки.
...Утром, когда метель утихла, к тете Груше, по пути к себе домой, зашла Лукерья:
— Грунюшка, Настя родила. Девочку. Чисто Грунюшку родила. Вся в тебя. Такая же курнопеля.
Показалась ли я бабушке Лукерье действительно похожей на тетю Грушу, или она была тонким дипломатом, знающим отношения во всех семьях, но с этих Лукерьиных слов тетя Груша примирилась с мыслью о том, что у ее брата — новая семья, а в семье родилась девочка, похожая на нее... Последнее обстоятельство особенно умилило ее.
Когда тетя Груша, пожилая, седая, осанистая, в просторных одеждах, укутанная шалью, и Коля, высокий, худой, длинноногий и длиннорукий подросток, выросший из одежек, пришли на хутор, с трудом одолев заметенную ночной метелью проселочную дорогу, в доме все уже было прибрано и, как всегда при появлении на свет ребенка, царил благостный дух перенесенных и благополучно окончившихся страданий во имя новой жизни.
Представляю себе, как тетя Груша, отряхнув снег с одежды и отогревшись у топящейся печки, посмотрела на меня с добрым любопытством — детей она не имела и впоследствии свою возможную любовь и нежность к возможным детям обратила на меня.
Коля, как я думаю, смотрел на меня с презрением и негодованием: ведь мое появление на свет могло стоить жизни и матери, и ему самому...
...И никто не слышал, как парки привязали к прялке новую кудель и стали прясть новую нить — нить моей жизни, покручивая веретено и полязгивая ножницами — пока впустую...
...В доме хозяйничал папа. Он топил русскую печь, ставил котлы с водой и овощами для коровы, варил картошку, потом жарил ее на большой чугунной сковороде, заливая яйцами, ставил самовар, заваривал земляничный или брусничный цвет — в те времена чай у нас был редок, а сахару не было совсем.
Или позднее не было чаю и сахару? Вот это не удержалось у меня в памяти, потому что, как помню себя, все у нас не было чаю и сахару, не говоря уже о конфетах, которые если мне и попадались, то по конфетке в год за что-нибудь. Например:
— Девочка, как тебя звать?
Я называла себя по имени, отчеству и фамилии, наученная отцом и не выговаривая «л». Я не выговаривала также и «р», но этой буквы не было в моем имени. У меня просили:
— Девочка, скажи: речка... девочка, скажи: рыбка...
Это почему-то развлекало взрослых, и я получала монетку или конфетку...
...Крестил меня в приходской церкви отец Николай. Первый раз после нового года послали к нему узнать, сколько стоит крестить ребенка.
— Шесть миллионов, — сказал он.
Таких денег не было.
Крещение отложили.
Накопили шесть миллионов.
Снова послали узнать, сколько стоит крещение.
— Двенадцать миллионов, — ответил священник.
Накопили двенадцать миллионов...
А крестили уже весной, когда было тепло и солнечно, за двадцать четыре миллиона.
...Боюсь утверждать, но, кажется, коробок спичек стоил миллион...
...Иногда мои знакомые утверждают, что в двадцать четвертом году миллионов уже не было. Но не могу же я не верить матери! Значит, в наших местах экономическое развитие шло замедленным ходом, новых денег там не было, а старые с каждым днем теряли цену... [Недавно где-то прочла, что миллионы были до мая 1924 года.]
...— Когда тебя крестили, ты в купель не помещалась. Над купелью тебя на руках держали, — рассказывала мама.
И улыбалась.
...Церковь, в которой меня крестили и в которую до пяти лет по большим престольным праздникам водили к причастию, в конце двадцатых была превращена в склад для колхозной картошки. Могилы в пределах ограды, окружавшей церковь, вытоптаны, а там покоились и мои предки, мне мама — в те далекие годы — показывала, где и кто похоронен.
Наконец, церковь, которой было лет двести, разрушили совсем.
От могил остались небольшие бугорки земли, по которым прыгают дети и козы.
О том, что было здесь недавно, в общем-то совсем недавно, на одном человеческом веку, никто не помнит, да и помнить не хочет.
Легче жить тому, кто ничего не помнит!
А что делать, если помнишь?
Если память делает время бессильным и приближает то один, то другой день твоей жизни и воскрешает лица, слова, голоса, поступки тех, кто стоял у твоей колыбели, кто встречался тебе в жизни, возбуждая любовь или неприязнь, радость или отвращение?
...— Мама, — говорю я, — мне кажется, что я помню, как я лежала в люльке. Помню, лежу на спине, мне очень плохо, от чего плохо — не знаю, я плачу, плачу все сильней, все сильней. Ко мне наклоняется папа, от него идет добро и тепло, мне на миг становится спокойнее, но вот опять плохо, и я кричу громче. Папа поворачивается ко мне спиной, я вижу его спину в сером пиджаке или в серой куртке, вижу седой, коротко стриженный затылок, у меня обида на него за то, что он повернулся ко мне спиной, но вот он поворачивается лицом, наклоняется ко мне, и мне становится хорошо.
Когда это было? Было ли это? Не знаю. Может, приснилось. У папы был серый костюм...
— Неужели ты это помнишь? — удивляется мама. — Я долго кормила тебя грудью. И в люльке ты долго спала. А пошла рано — в десять месяцев. И сразу — не ползала. Неужели ты помнишь, что было до десяти месяцев? А было вот что. Ушла я в магазин в Семерицы да и задержалась там. Прихожу, папа рассказывает, как ты плакала. И качал он тебя, и уговаривал, а ты все громче плачешь. Не знал, что делать, как успокоить. А потом сообразил: пожевал хлебный мякиш в тряпочку и сунул тебе в рот. Ты и успокоилась. Но неужели ты это помнишь? Не можешь ты этого помнить.
— А может быть, мне это приснилось?
— Может, и приснилось. Только как же приснится то, что было, но чего ты не помнишь?
— А может, и приснилось потому, что было. Независимо от того, помню я или не помню. Но ведь было же так?
— Было-то было...
— И разве мы властны над тем, что нам снится? А может быть, все-таки помню...
...Но зато как хорошо я помню бабушку, папину мать!
...Старшая папина сестра, по характеру самая суровая из папиных сестер, тетя Даша, написала своему младшему братцу Миньке:
«Минюшка, братец, приезжай, возьми маму. Совсем она слаба стала. Мне не справиться. Мои внуки-близнецы очень шумят, надоедают ей. Все время топают по полу и бьют в барабан...»
Не помню никаких обсуждений вопроса о бабушкиной судьбе. Все было так ясно, что и обсуждать было нечего.
Мне же не ясно было одно: в какой барабан бьют близнецы-внуки? В настоящий или не в настоящий? И где они взяли барабан?
Поехал отец в Ленинград, на Костромской проспект на Удельной, взял бабушку и привез к нам на хутор.
Я только теперь, по ее детям, высчитала, что родилась она в 1834 году. Была тощей, смуглой, черноглазой, с крючковатым носом и толстой нижней губой. Все время казалось, что она чем-то недовольна.
Может быть, в молодые годы она была миловидной и стройной, не случайно же полюбил ее дед, о котором вспоминали, как о голубоглазом красавце с волнистыми русыми волосами, спускавшимися почти до плеч и перехваченными узким ремешком.
...Тети говорили, что у меня русые волнистые волосы, как у дедушки... А мои глаза им не нравились: маленькие, светло-серые. Чудь белоглазая...
...Привезли бабушку в санях, укутанную клетчатыми шалями. Под руку ввели на высокое крыльцо.
Ввели в дом. Размотали шали. Помогли расстегнуть пуговицы. Сняли пальто.
...Привезли ее незадолго до ее смерти. Не помню, прожила ли она у нас год? А может, и года не прожила...
Когда она скончалась, ей было девяносто четыре года. Она была старше меня на девяносто лет!
...Бабушка в черных одеждах, украшенных узорами из черной же тесьмы, поворачивая голову то вправо, то влево, то одним глазом, то другим внимательно смотрела, как распаковывали ее вещи.
Вещей было не так много. Но вещи были интересные для меня. В большое полотенце завернута ручная кофейная мельница, деревянная, четырехугольная, с выдвижным ящиком внизу и медной воронкой вверху, куда следовало засыпать зерна. Красной меди плоский кофейник с внутренней трубой, как у самовара. Медная ступка с медным пестиком. Большое фарфоровое яйцо с изображением Иисуса Христа, нанесенным на фарфор масляной краской тончайшей кистью, медный или бронзовый трехстворчатый складень ручной чеканки с отбитой эмалью, подшивки журналов «Нива», «Вокруг света» за несколько лет, разрозненные приложения к «Ниве». Не знаю, была ли бабушка грамотной? Или подшивки журналов тетя Даша прислала для нас — Минькиных пасынков и меня? А может быть, чтобы багаж был пообъемнее и потяжелее. Не отправлять же совсем без багажа...
...Ни отца, ни матери нет, чтобы спросить у них, откуда взялась в нашем доме манера, привычка, традиция читать вслух в долгие зимние вечера? Когда была маленькая, думала, что так полагается, что так делают все и везде, поэтому не спрашивала.
Частенько на огонек приходили соседи: кроме нашего на хуторе было еще два дома.
Вся семья собиралась вместе. Мама шила, чинила белье, вязала носки или кружева, папа плел или чинил сеть для рыбной ловли, мастерил веревочные чуни — так называлась мягкая зимняя обувь, сплетенная из пеньковой веревки, подшивал старые валенки. Я что-нибудь рисовала или вырезала хороводы человечков из старой газеты. А старшие братья — один или другой — в основном другой, младший, Сережа, который еще жил в семье, читали вслух преимущественно романы: «Человек-Амфибия» Беляева, «Отравленный пояс» Конан Дойля, «Дети подземелья» Короленко, Лермонтова, Некрасова, рассказ об экспедиции к Южному полюсу капитана Скотта, о первых летчиках — «Мы учимся летать», о французской королеве Марии-Антуанетте, о любви и трагедии австрийского эрцгерцога...
Спасибо моим родителям за эти вечера!
Хорошо или нет, но все, что читалось в долгие зимние вечера, навсегда осталось у меня в памяти.
...С традицией читать вслух по вечерам я встретилась у поморов в деревне Гридино на берегу Белого моря в 1961 году. Эта деревня, как говорили жители, возникла при Иване Грозном. Создали ее два новгородских молодых мужика, убежавших от опричнины со своими женками в сафьяновых сапожках далеко на север. Откуда я знаю, что было два молодых мужика и что жены их носили сафьяновые сапожки? Да потому, что в деревне, в которой насчитывалась тысяча жителей, было всего две фамилии, и улицы в деревне были замощены распиленными вдоль бревнами — лесинами, укрепленными большими железными костылями. Зачем было мостить улицу, если бы они ходили в лаптях?
По двадцать человек собиралось в дом, чтобы слушать чтение вслух... Сохранились у них и былины шестнадцатого века, которые запоминались на слух и передавались из рода в род...
...До сих пор мне кажется, что бабушка долго не замечала моего существования или не придавала значения такой мелочи, как я. У нее росли правнуки моего возраста и старше. Может быть, она не могла понять, откуда взялась эта маленькая девочка и какое отношение может иметь к ней?
Каждый день папа молол кофейные зерна, дом благоухал, и мы все пили кофе с молоком. Не знаю, привез ли папа зерна из Ленинграда или ездил за кофе в Боровичи?
...Незадолго до кончины, может быть, всего за день, уже неподвижно лежа в постели, придвинутой к теплому боку русской печки, бабушка повернула голову в мою сторону и поманила меня сухим желтым пальцем.
Я подошла.
Глазами и едва заметным движением головы она велела подойти еще ближе.
Я подошла вплотную к кровати.
Бабушка протянула правую руку, прикоснулась к моей голове невесомо, как птица крылом, и прошептала:
— Храни тебя Господь!
И махнула рукой, сразу же опустившейся на постель вдоль ее тела.
— Иди!
По ее губам скользнула улыбка облегчения, как будто она совершила тяжелое для нее дело. Я рассказала об этом маме.
— Это хорошо, она благословила тебя, — сказала мама.
Бабушка скончалась тихо. Просто уснула и больше не проснулась.
Помню, как мама с какими-то женщинами моет бабушку. Это называлось не мытьем, а омовением усопшей.
Бабушка сидит на полу, длинноногая, сухая, беспомощная. Ее поддерживают под мышки, голова ее склоняется то к одному, то к другому плечу.
Омыв, бабушку одевают во все новое, хрустящее и укладывают в длинный ящик, сколоченный папой. Я уже знаю, что это гроб, хотя вижу его первый раз в жизни. Мне объяснили его назначение.
Я, не отводя глаз, слежу за всеми действиями взрослых.
— Тебе не страшно? — спрашивает кто-то у меня.
— Нет, не страшно. Чего бояться? Ведь бабушка мертвая, — отвечаю я и ловлю себя на том, что, пока она была жива, я побаивалась ее: ее худобы, ее черных, не видящих или не замечающих меня глаз, ее молчаливости, неподвижности, ее длинной желтой руки, которой она брала чашку с кофе.
Теперь ее руки сложены на груди. Тело покрыто белой простыней.
Гроб с телом установили на столе в большой, парадной комнате. Он стоял там три дня.
Приходит монашенка из Березовского Рядка.
Читает псалтырь над гробом.
Я знаю эту красивую бледную монашенку в черном, туго и низко стягивающем лоб платке, в длинном черном платье с запыленным мятым подолом.
Я не люблю ее.
Мы ходили с мамой к ней, видели, как она копирует маленькие иконки.
Мама просит ее посмотреть мои рисунки. Монашенка соглашается и приходит к нам на весь день с обедом.
Смотрит мои рисунки. Они ей не нравятся.
Она раскрывает «Ниву», находит там графический портрет красавицы с оголенными плечами и роскошными локонами на плече.
— Срисуй это, — говорит она.
Я долго и старательно срисовываю и показываю ей.
— Что же ты такое изобразила? Смотри, у тебя же получилась не красавица, а косоглазая уродина и не локон, а коровий хвост!
Этот коровий хвост я не могла ей простить!
Хотя она была права.
...Теперь она читает псалтырь над гробом...
...Настал день похорон.
Стали выносить открытый гроб. Около дверей мама, вспомнив что-то, делает выносящим знак рукой. Они останавливаются.
— Попрощайся с бабушкой, — говорит мне мама.
— Как же я с ней попрощаюсь? Ведь она мертвая и ничего не слышит.
Мама снимает с груди бабушки маленький образок и подносит к моим губам.
— Поцелуй образок...
Я прикасаюсь губами к холодной поверхности образка.
— Вот и хорошо. Вот и попращалась с бабушкой, — говорит мама.
Меня это удивляет. Ведь я прикоснулась к образку, а с бабушкой-то не прощалась!
Мама отходит от меня и снова кладет образок на грудь бабушки.
Ее застывшее желтое лицо кажется еще худее, а нос еще более крючковатым и горбатым.
Я понимаю, что бабушки не стало.
Я прижимаюсь к отцу, по его седым, опустившимся книзу усам текут слезы и капают мне на голову и на лицо.
Я никогда до сих пор не видела отца плачущим.
Он одной рукой прижимает меня к себе, другой вытирает мне лицо и гладит по голове. Мне кажется, он решил, что я плачу, и благодарен мне. Но я не плачу. Это его слезы потекли по моим щекам. Но я ничего не могу ему сказать. Я понимаю, что сказать: «А мне бабушку не жалко, я не плачу» — нельзя. Не знаю почему, но этого нельзя. А папу жалко. И мои глаза наполняются слезами. Папа крепче прижимает меня к себе.
— Все, что осталось, — шепчет он, — все, что осталось...
Я думаю, что он говорит о медной ступке, кофейной мельнице, о фарфоровом яйце.
--------
...— Вставай, доченька, пора, — каждый день рано утром, не позднее семи часов, будила меня мама. Мне очень хотелось спать. Утренний сон сладкий, глубокий, спокойный.
Я нехотя встаю, одеваюсь, умываюсь холодной водой, только что налитой в умывальник. Я знаю, что если я не умоюсь, то меня утащит «немытка», которая сидела за печкой и следила, умоюсь ли я. А если у меня портилось настроение, то этому была рада «пыхтелка», которая жила в подполе и тоже только и ждала случая схватить и утащить меня...
Поэтому я умываюсь, и настроение у меня становится хорошее, хотя только что я была недовольна: меня каждый день так рано поднимают с постели.
Смотрю, как топится русская печь. Из ее широкой огненной пасти выходит дым и, закругляясь, уходит в трубу, скользя по закопченному черному челу. Дрова, сложенные башенкой, разрушаются, пылают и сверкают яркие крупные угли.
Мама пригребает угли ближе к шестку кочергой, ставит на них большую сковородку, готовит завтрак. На завтрак — жареная картошка, иногда залитая яйцом, иногда запеканка из картошки, иногда оладьи из ячменной муки, которую называли житной мукой.
— Иди за папой.
Это моя обязанность — звать папу завтракать. Я одеваюсь, выхожу на улицу, хрущу синим предрассветным снегом, толкаю дверь в папину мастерскую. Там шумно: папа нажимает ногой на педаль, крутится приводной ремень, жужжит колесо. Как устроен токарный станок, я не понимаю, но на моих глазах деревянная болванка становится круглой и гладкой, папа подносит к ней линейку, делает толстым карандашом пометки, и из круглой гладкой болванка превращается в красивую резную ножку для стола, для стула, для скамьи.
— Сейчас, подожди немного, — говорит папа.
Жужжание колеса и приводного ремня укачивает меня. Я сажусь на огромную гору стружек, сметенных к стене. Пахнут смолой, деревом, чем-то необыкновенным эти длинные, тонкие, прозрачные на просвет, хрустящие стружки. Незаметно для себя я засыпаю.
Просыпаюсь уже дома. Папа приносит меня на руках.
— Смотри, — говорит он маме, — что я нашел...
— Ну, вот и хорошо, что нашел... — говорит мама.
В те утра, когда я не засыпаю на стружках, папа говорит:
— Забирайся на спину. Поехали.
Я забираюсь к нему на спину, обхватываю его за шею, утыкаюсь носом в ворот рубашки, пахнущий древесной пылью, он закрывает меня ватником, и мы входим в дом.
— А где наша дочь? — спрашивает папа.
— Не знаю, за тобой пошла, — отвечает мама.
— Я не видел ее. Наверно, потерялась. Не съели ли ее волки?
— Не дай Бог, — говорит мама. — Как же теперь без нее жить будем?
Мне становится жалко папу и маму. Я настолько еще мала и глупа, что не понимаю, что это игра, выбранная моими родителями, и что, конечно, мама прекрасно видит мои руки, обхватившие папину шею, и мои ноги в валенках, торчащие впереди.
— Я здесь! — кричу я, выкарабкиваясь из-под телогрейки, и вижу радость родителей, снова обретших свое чадо.
На душе у меня так хорошо!
Однажды, не дождавшись папы — он вытачивал что-то сложное, — я вышла из его мастерской, подождала на крылечке, не дождалась и решила пошутить: закрыла дверь на металлическую задвижку снаружи. Поиграв и попрыгав возле мастерской, ожидая, когда он дернет дверь, потом постучит, а я спрошу: «Кто там?», забыла о закрытой двери и вернулась домой.
— А папа?
— Он там что-то сложное вытачивает.
Подождали.
Папа не приходил.
Мама пошла узнать, не случилось ли чего?
Вернулись они быстро.
Но это были другие люди, я такими никогда не видела моих родителей. У мамы округлились глаза и побледнели губы. У отца лицо потемнело.
— Если ты еще раз подойдешь к моей мастерской, я топором отрублю тебе руки, — медленно и раздельно произнес он. — Не попадайся мне на глаза...
— Ты закрыла дверь на задвижку, и папа не мог выйти, — быстро шепнула мне мама и подтолкнула меня, чтобы я спряталась в другой комнате.
Я забралась под кровать и затихла, как мышь под метлой.
Недели две я не попадалась на глаза отцу.
Я боялась его.
Думаю, что боялась его и мама.
Примерно в это время он, не снимая со стены, изрубил топором икону Богородицы за то, что она равнодушно смотрела на его неудачу в исполнении какой-то работы, требовавшей особой точности.
Он работал по чертежам, которые присылали ему с ленинградского и московского заводов, изготовлял модели для отливок каких-то важных деталей и был недоволен качеством дерева, из которого ему приходилось вытачивать заказ.
— Ах, если бы оно полежало немного, всего несколько лет, на дне реки, вот тогда было бы дерево...
Но на дне реки дерево держать не было времени, заказы были срочные. Он выполнял их, упаковывал вместе с чертежами в ящики, перекладывал стружками, чтобы предметы не терлись один о другой, не портились.
Не помню, приезжали к нему за заказом или он сам заколачивал ящики и отвозил на станцию Мсту за тридцать верст, отправлял багажом, а в Ленинграде и в Москве этот багаж получали те, кому он предназначался.
Отец гордился тем, что старые заводские знакомые помнили его, лучшего мастера, и сложные заказы присылали ему, на хутор, за сотни верст, а не поручали неопытным и неуверенным работникам.
Недели через две после истории с закрытой на задвижку дверью, когда я, как обычно в эти дни, скорчившись, сжавшись в комок, сидела под кроватью, пока папа завтракал или обедал, я услышала его голос:
— Что это я нашу доченьку не вижу. Где она?
— Дома... — сказала мама.
— Что это она — от меня прячется, что ли?
— Не знаю... — сказала мама. — Ты же грозился...
— Скажи ей, пусть не прячется...
У меня отлегло от сердца, вернее, в сердце что-то гулко стукнуло и замолчало. Но я не вылезла из-под кровати и не подошла к папе.
На второй день пошла жизнь так, как она шла до этого.
И никто — ни папа, ни мама, ни я никогда не вспоминали о моем поступке и папиной угрозе.
Но этот случай, столкнув, проявил наши характеры.
Отец понял, что был очень жесток. Я поняла, что никогда больше не подойду к отцу, если он сам не пожелает этого. Лучше убегу из дому, буду жить в лесу, пусть меня волки съедят... Мама поняла, что трудно нас примирить, если того не захотим мы сами.
Несмотря на такой, казалось бы, затянувшийся конфликт, в доме не было ни оскорбительных ссор, ни криков, ни разговоров на повышенных тонах.
Такого в нашем доме вообще никогда не было.
...В святки мы ездили в гости на розвальнях на нашей резвой белой лошадке Динке, из-под копыт которой вылетали острые комки слежавшегося, укатанного снега, выбитого подковами. Папа сказал, чтобы мы с мамой сидели назад лицом, а то в лицо могут попасть острые комки заледенелого снега.
На поворотах розвальни заносило, мама ойкала, папа смеялся, мне было радостно, и у меня замирало сердце от восторга.
Один раз мы съездили за пятнадцать верст в село Межозерье к старинному папиному приятелю Нилу Ивановичу, с которым он семь лет служил на флоте, участвовал в революционных событиях 1905 года, сидел в Ревельской крепости.
У Нила Ивановича был большой чистый дом, большая семья, были и сыновья примерно моего возраста — постарше и помладше, но мы не подружились. Они были молчаливы. На мои вопросы, знают ли они наизусть стихи или есть ли у них какие-нибудь книжки с картинками, рисуют ли они сами, они смотрели на меня с недоумением, переглядывались, ничего не отвечали. Мне было скучно с ними. Скучно было и со взрослыми, которые все время отсылали меня к детям.
Наконец мы уехали поздно вечером, когда ярко светила луна, сверкали звезды, искрился снег, переливался разноцветными огоньками.
— Папа, что это блестит на снегу?
— Снег блестит.
— Я хочу собрать то, что блестит.
— Собирай, — он останавливает лошаль.
Я вылезаю из розвальней, из-под попоны, в которую укутана, снимаю шерстяные, связанные мамой рукавицы, или варежки, или, как их называли в той местности, дянки, сгребаю верхний слой сверкающего снега, он меркнет в моих руках, подтаивает, протекает между пальцами, и никакой красоты не оказывается в нем, кроме мокрого холода.
Мне обидно до слез, как будто меня обманули, посмеялись надо мной.
— Оботри руки платком, надень варежки, а то руки отморозишь, — говорит мама, — всех блесток не соберешь. Это издалека все блестит, все кажется красивым, все хочется в руки взять. А когда возьмешь в руки, все оказывается по-другому...
Мама говорит это мне и в то же время не мне и не папе, а как будто самой себе, той, которая тоже когда-то потянулась к заманчивым блесткам, а в руках оказался некрасивый талый снег.
А может быть, она говорила только то, что говорила, и только мне за ее словами почудился другой смысл, о котором она совсем не думала...
Помню поездку к папиной сестре тете Тоне также за пятнадцать верст, но уже вниз по течению Мсты, в деревню Горбино. Думаю, что мне тогда было лет пять. И поэтому поездку в Горбино я помню подробно. Мамы с нами не было.
Тети Тонин дом стоял не в самой деревне, а на отшибе, среди высоких деревьев. В доме было несколько маленьких комнат, сообщающихся между собой. Я впервые увидела зеркала в золоченых рамах, мягкие кресла, обитые бордовым бархатом, темную старинную мебель.
Помню, что это не вызвало во мне никакого особенного чувства — ни удивления, ни восхищения, ни растерянности. Ну — мебель, ну — рамы, ну — бархат... Ну — они живут так, а мы — по-другому.
Напившись чаю с ватрушкой, я ходила из комнаты в комнату, рассматривала диковинные вещи и несколько раз встречала высокого седого бородатого старика.
Первый раз, встретившись с ним, я сказала:
— Здравствуйте.
— Здравствуй, девочка, — сказал старик. — Кто ты и как тебя зовут?
Я сказала. Он покивал головой и пошел дальше.
Поскольку комнаты сообщались одна с другой, мы ходили со стариком по кругу, навстречу друг другу.
Встретившись во второй раз, я не поздоровалась с ним. Но он при виде меня удивился и спросил:
— Девочка, кто ты и как тебя зовут?
Я ответила, удивившись в свою очередь его забывчивости.
Встретив его, уже кажется, в пятый раз и в пятый раз повторив, кто я и как меня зовут, я уселась в мягкое кресло и решила не двигаться.
В это время тетя Тоня и папа сидели в маленькой кухне за столом и тихо вспоминали свою молодость.
— Когда мы жили в бешлоте, помнишь...
— Когда я танцевала в малороссийской труппе...
— Когда мы стояли в Гельсингфорсе...
Может быть, они пропустили по рюмочке. Я поняла, что тетя Тоня была не против того, чтобы составить папе компанию.
Старик время от времени проходил мимо меня и говорил:
— Здравствуйте!
Через некоторое время в комнату, где я сидела, вошла возбужденная тетя Тоня. Теперь я хорошо рассмотрела ее.
Она была тоненькая, легкая, черноглазая, очень похожая на бабушку. То есть в ее возрасте бабушка, наверно, была такой же.
Тетя Тоня сказала:
— Хочешь, пойдем в кино?
Я не знала, что такое кино. Но меня звала тетя Тоня, которую я видела первый раз в жизни. Тетя Тоня стояла перед невысоким комодом с зеркалом над ним и пудрила себе лицо, потом положила на щеки розовую краску и растерла ее легким прикосновением пальцев.
— Природе надо помогать, не правда ли? — улыбнулась она мне. — Ведь на всех нас у нее не хватит красок, не правда ли?
Я кивала, соглашалась. Мне нравилась тетя Тоня.
Она была немного старше папы, но, поскольку меня окружала вообще немолодая родня, тетя Тоня с ее еще не полностью поседевшими волосами, черными, прямыми, блестящими, с серебряными нитями, с длинной челкой, с манерой так необыкновенно говорить, казалась мне если и не молодой, то, во всяком случае, нестарой.
Поразило меня и то, что она курила папиросы.
— А кто этот, с белой бородой, все ходит и спрашивает: девочка, кто ты? Пять раз спросил. Я боюсь его.
— А, это... — она то ли смутилась, то ли так, замялась, чтобы лучше и понятнее объяснить мне. — Это Михаил Васильевич. Он спросит и забудет, спросит и забудет. Ты его не бойся, он добрый...
Михаилу Васильевичу было много лет. Тетя Тоня вышла за него замуж после того, как, танцуя «в малороссийской труппе», сломала ногу в лодыжке. Михаил Васильевич был вдовцом, его старшая дочь была старше тети Тони.
Михаил Васильевич занимался когда-то лесным хозяйством, был чем-то вроде лесничего, но после революции надобность в его знаниях и опыте отпала, красный террор его не коснулся, о нем как бы все забыли, и сам по себе он стал потихоньку выживать из ума.
— Когда я была молодая, Михаил Васильевич меня очень любил. Мы тогда в городе жили. Прибегу с вечеринки, звоню. «Кто там?» — он спросит. «Мишенька, это я...» — «Иди туда, откуда пришла...» — «Мишенька, я пошла бы, да там никого уже нет». Откроет, сердиться перестанет. Лакированные туфельки снимет, в ладошках ноги греет. А теперь совсем выжил. Как малый ребенок. Ты его не бойся...
...Детей у них не было...
...Кино, в которое привела меня нарумяненная, смуглая, черноглазая тетя Тоня, находилось в каком-то маленьком темном помещении со скамейками. Ручку аппарата по очереди крутили зрители, которых, как сказала тетя Тоня шепотом, за это пропускали без билетов.
Мы опоздали. Я с трудом разбиралась в том, что происходит на экране. Мне было жалко мечущихся и страдающих людей, особенно старика и его молодую дочь...
И только много лет спустя в зале повторного фильма поняла, что первый кинофильм в моей жизни назывался «Человек из ресторана».
Прекрасный фильм!
--------
...Тетя Тоня пережила всех своих братьев и сестер. Последние годы она жила с тетей Грушей, вернее, последние тети Грушины годы. Умерла тетя Тоня, когда ей было за девяносто, в доме престарелых под Новгородом на пустынном берегу Волхова.
Я несколько раз навещала ее, удивлялась ее способности в казенном платье и казенном платке выглядеть не так, как другие приютские старухи. До последних дней она сохранила способность шутить, иронизировать, передразнивать, выискивать во всем что-нибудь смешное. Увидев на моем пальце кольцо, она хихикнула и запела, вернее — полузапела, подмигивая, как озорная девчонка:
Золото мое колечко,
Золотое с пробою.
Хоть я замуж не пойду.
Все равно попробую.
— Тетя Тоня, — сказала я, почувствовав, что во мне проклёпывается мамино целомудрие. — Как можно! Ведь я замужем!
— Я не хуже тебя знаю, что ты замужем! Но ведь должна же я тебе спеть частушку, а то умру, и ты не узнаешь ее!
Приют, в котором жила тетя Тоня свои последние годы, вонючий той особенной вонью нищеты и одиночества, с холодными каменными полами, с высокими потолками, которые не приближали к Богу, а страшили неизбежностью отделения души от тела и возможностью ее быстро рвануться вверх, комната на четыре человека, где, что-то шамкая, сидели подслеповатые и неприкаянные старухи, показался мне похожим на тот, который описан Ильфом и Петровым.
— Плохо здесь, тетя Тоня. Надо бы вам остаться с моей мамой.
— Нет, мы с твоей мамой не смогли бы ужиться... А что здесь плохо, так могло быть еще хуже...
...Могло быть хуже!
...Это — единственное, что утешает нас...
...У тети Груши мы бывали часто. Она жила в деревне, в маленьком чистеньком домике в два окна. В доме пахло волшебным теплом и уютом. Мебели, кроме стола, стульев и кровати, никакой не было. От этого маленький домик казался просторным. Весь пол застлан домоткаными половиками. Кровать застелена ситцевым белым покрывалом с воланом в бледно-розовых разводах. Таких покрывал в деревне не было. Не потому, что оно было дорогим, нет, оно было из выгоревшего ситца, но так никто не застилал кроватей.
На стене висели большие и маленькие портреты, фотоснимки — большой тети Груши и маленькие — ее братьев и сестер.
В тоненьких черных рамках под стеклом — литографии из Священного писания — Иисус совершает первое чудо в Кане Галилейской, когда он с матерью был приглашен на свадьбу и там вина не хватило гостям. Иисус превращает воду в вино. И другая — Иисус сидит с опущенной головой и что-то чертит на песке и перед ним — блудница Мария Магдалина...
Тетя Груша рассказывает мне содержание этих картин...
Мне больше всего нравится вышитый бисером пейзаж. Я очень хочу, чтобы тетя Груша подарила его мне.
Я смотрю на пейзаж, потом на тетю Грушу, потом опять на пейзаж. Она улыбается: поняла меня.
— Вот когда я умру, — говорит она, — я оставлю тебе эту вышивку бисером и полусапожки...
Полусапожки мне тоже нравятся. Особенно высокая шнуровка. Но очень большие для меня, и я не знаю, вырастет ли моя нога, чтобы они мне подошли. Да и зачем мне эти полусапожки? Я никогда не видела, чтобы в жизни — не на картинках в журналах — ходили в таких полусапожках с высокой шнуровкой, на высоких каблуках.
«Это у тети Груши от старинной жизни, — думаю я. — Это когда она жила с бароном...»
В маленьком домике, кроме нее, жил тогда ее муж, коренастый, краснолицый, с рыжей бородой. Он считал себя сельским активистом. А может быть, и был им...
...Мне кажется, что тетя Груша не любит его. Однажды я слышала, как она рассказывала маме:
— Приехали мы в деревню большой компанией погостить, покутить. Пошла я купить молока. Открыла дверь в одну избу. Там печка топится, дыму полно, дымоход неисправен. За столом сидит этот, с рыжей бородой. Я взглянула на него, он на меня. Мы встретились глазами. И мне стало не по себе. «Это моя судьба», — подумала я. Почему так подумала — не знаю. Никогда не собиралась выходить замуж за деревенского. Он, правда, не крестьянствовал, а лесником был. И вот — судьба...
Жили они маленьким огородиком. Кроме того, тетя Груша немножко шила. У нее была старая ножная машина «Зингер». Шила она неплохо, но заказов было мало. Не было, как тогда говорили, мануфактуры. Иногда приносили что-то переделывать, перелицовывать.
Ее муж Николай Стафеевич мне не нравился. Казался злым, бездушным. Оживлялся не по-доброму, когда говорил, что всех надо вывести на чистую воду. А мне пообещал березовой каши с ременным маслом.
— Ешьте сами, — ответила я дерзко.
— Маленькая язва, — прошипел он.
Наши отношения после этого были порваны окончательно. Он перестал меня замечать, о чем я не жалела.
...Выйдя за него замуж, тетя Груша оставила свою девичью фамилию, что в те времена случалось не часто. Не знаю, как он согласился на это. Но у тети Груши был сильный характер.
Мне, совсем еще маленькой, она внушала:
— Никогда не меняй своей фамилии. У нас очень хорошая фамилия.
Чем была хороша наша фамилия, я не знала. Но совет ее усвоила.
...Как-то к папе зашел мужичок из деревни, которая находилась далеко за лесом. Обыкновенный, маленький, неказистый какой-то, испуганный.
— Пришел поговорить, — сказал он папе. — Ты человек грамотный. Может, растолкуешь, ничего понять не могу.
— Иди, играй, не вертись около взрослых, — сказал мне папа.
Я ушла в спальню, занялась своими игрушками.
Из кухни доносились тихие голоса. Голос гостя был встревоженным, беспокойным. Голос папы — мягким, успокаивающим.
Папа и гость в чем-то убеждали друг друга, спорили.
Слов я не разбирала.
Мимо окон кто-то прошел.
Взглянула в окно: Николай Стафеевич. Он очень редко приходил к нам, даже не помню, приходил ли вообще? А тут пожаловал зачем-то.
— Папа, Николай Стафеевич...
— Спрячься, — сказал папа гостю. — Не хочу, чтобы он тебя видел в моем доме.
Гость шмыгнул в спальню и встал за печкой.
Николай Стафеевич долго разговаривал с папой. Говорил он громко, в чем-то убеждал папу. До меня доносились слова:
— Предстоящие перемены... Великие события... Планы... Свершения, которые в корне изменят жизнь... Разнарядка... Ты должен... Ты — пролетарий? Ты — пролетарий? — спрашивал он у папы.
Я ничего не понимала, о чем он говорил? Я первый раз слышала слово «пролетарий». Я думала, что пролетарий — это когда кто-то пролетает. Как, например, весной и осенью пролетают журавли над нашим домом. А скворцы, которые живут в скворечнике, те — прилетарии. Они прилетают, а не пролетают.
— Нет, ты мне прямо скажи: ты — пролетарий?
Ну, что он пристал? Папа и летать-то не умеет! И ничего ему не должен. Это я точно знала: наша семья никогда ни у кого ничего не занимала, следуя поговорке: по одежке тяни ножки.
Гость утомился за печкой, у него запершило в горле, он тихо, сдавленно откашлялся.
Я испугалась, что Николай Стафеевич услышит кашель и обнаружит папиного гостя. И выведет его на берег реки на чистую воду.
И тут на меня нашло.
Я начала громко кашлять, прыгать, кричать, петь. Такого буйства со мной никогда не было.
— Избаловали девчонку, — зло сказал Николай Стафеевич.
Встал и ушел.
— Папа, — подошла я к отцу, боясь его гнева, — это я нарочно. Он, — я кивнула в сторону вышедшего из-за печки гостя, — там начал кашлять. Николай Стафеевич мог услышать и рассердиться, что его обманули...
— Да, да, — сказал гость. — Смышленая девочка. Молодец.
...О чем они говорили с папой, я никогда не узнаю.
...Позднее папин гость, которого я видела всего один раз в жизни и не запомнила лица, а только почувствовала его растерянность и страх перед чем-то, попал в разнарядку, его, как и четверых его несчастных соседей, раскулачили, сослали, и он никогда не вернулся в родные места.
Не знаю, были ли у него дети? Помнят ли они что-нибудь? Были времена, когда об этом не только говорить, но и помнить было опасно. И если они живы и старательно забыли об этом, не я им судья...
Говорили, что причиной раскулачивания, кроме необходимости выполнить разнарядку, был пол, застланный чистыми половиками, и начищенный до солнечного блеска самовар, тогда как другие кипятили воду в закопченых чугунках. Был у него еще старый разъевшийся кот, который вызывал всеобщую ненависть своим пренебрежительным видом...
...Может, про кота говорили в шутку?
Но так говорили...
...Кулаков-мироедов в наших местах не было. Наделы земли были небольшие. Работников никто не нанимал. По две коровы и по две лошади никто не держал.
Но разнарядку, присланную свыше, надо было выполнять...
------
...Пo нашему хутору, мимо наших домов каждый день, утром и вечером на работу и с работы проходил высокий сухой сутулый человек со свернутым пополам истрепанным кожаным портфелем под мышкои и с кривой ухмылкой на недобром лице.
Кривая ухмылка не исчезала и тогда, когда я говорила ему «здравствуйте». В ответ он хмыкал, то есть издавал какой-то звук вроде выдохнутого «х», и кривился еще больше.
— Что отец-то, все точит? — иногда спрашивал он у меня.
— Все точит.
— Доточится...
— О чем спрашивал у тебя этот, который проходил? — интересовался отец, видя из окна наши общения. Я повторяла вопрос и свой ответ.
— Ходил бы со своим старым голенищем под мышкой, не совался бы в чужие дела...
— Мишенька, он же председатель сельсовета... Сказано — власть на местах...
— Где сказано? В Священном писании? По мне хоть председатель земного шара... Я сам по себе... — Отец был недоволен. — А ты не смей больше разговаривать с чужими людьми... Поняла?
Я кивнула. Нельзя — так не буду. Сам учил: будь вежливой, отвечай на вопросы старших, не дичись, не будь букой...
А теперь — нельзя...
Ну, что ж, нельзя — так нельзя.
...Кажется, весной было дело, когда папа пришел из Семериц и сказал маме, что записался в колхоз.
— В какой колхоз?
— В Семерицкий. Там у нас все будет общее — и коровы, и лошади, и телеги, и хомуты, дуги, плуги, вожжи тоже общие и чересседельники.
— И подойники? И колокольчик «дар Валдая»?
— И подойники, и колокольчики.
Папа был навеселе, доволен собой, своим поступком, солнечным весенним днем и вообще всей жизнью.
—А какую лошадь ты поведешь в колхоз? — спросила мама тихим голосом.
— Нашу, Динку.
— А корову какую?
— Нашу, Буренку.
— А ты их покупал? — тихо, но страшно спросила мама.
Страшно стало мне, потому что я такого голоса у мамы не слышала.
— Я не понимаю, о чем ты? — папа стал трезветь.
— Я вот о чем. Все это хозяйство — дом, корова, лошадь, телега, дуга, сани, чересседельник и, кстати, колокольчик «дар Валдая» — принадлежит моим сыновьям. Они больше ничего не имеют. Только это. На двоих. А ты пришел в этот дом в одних кальсонах, прости, Господи, можешь со своей мастерской и со своим инструментом вступать, куда хочешь. Я никому не отдам то, что принадлежит сыновьям, что досталось им от их отца. Я знаю, что этого мало, чтобы поднять и выучить их. Но у меня нет ничего другого...
Обо мне не было сказано ни слова.
Значит, я, как и папа, не имею права даже на медный колокольчик...
Папа совсем протрезвел.
— Ну, если так... — сказал он, накинул пиджак и ушел.
Мама долго смотрела в окно вслед ему, пока его фигура в сером пиджаке не слилась с серой дорогой, с серой пылью...
— Мама, а что, папа совсем ушел? — спросила я.
— Не знаю, — глухо отозвалась она неживым голосом. — Как хочет.
Но он вернулся, совершенно протрезвевший и притихший.
— Ты права, — сказал он маме. — Это сумасшедший дом какой-то. То есть сумасшедший день. Выпили, покричали, все родные братья. «Мы с тобой родные братья, я — рабочий, ты — мужик. Наши крепкие объятья смерть и гибель для других...» Знаешь такие стихи, дочка? Не знаешь? А что ты знаешь?
— «Белеет парус одинокий...»
— А еще?
— «Плакала Саша, как лес вырубали...»
— А еще?
— «Терек воет, дик и злобен...»
— А «мы с тобой родные братья» — не знаешь? Ну, в школу пойдешь — выучишь. Иди спать.
— Так что же с колхозом? — донесся до меня мамин голос.
— Сказал, чтобы вычеркнули из списка. Ну и вычеркнули. С чем я на самом деле пойду туда? Мой токарный станок там не нужен. Так и сказали... К вечеру люди протрезвели. Мужики матерятся, бабы в голос воют...
...Итак, в колхоз родители не пошли...
...Колесо в мастерской крутилось не каждый день: все меньше было заказов на выточенные из дерева кровати, столики, детские стульчики, канапельки...
...Денег не было... Не больших денег, а самых маленьких — на керосин, соль и спички. Неоткуда было их взять. За шестьдесят верст в Боровичи картошку не возили, наверно, потому, что там надо было платить за ночлег, кормить лошадь — а это тоже накладно. Не столько выручишь, сколько потеряешь. Надо еще там самому прожить не один день. Да и из чего продавать? Сажали ровно столько, чтобы хватило самим — для семьи и для коровы. Все было рассчитано. Картошка и молоко, овощи и грибы были основной едой.
Пашня наша и луга сокращались и сокращались. Не помню, кто их урезал и как это делалось, может быть, единоличники не имели права иметь землю? Не знаю. Мала была, не понимала, при мне эти вопросы не обсуждались. А может быть, и обсуждались, но были слишком сложными для меня.
Жить становилось все труднее и труднее. Экономили керосин, спички, соль. Не говоря уже о хлебе. За столом выдавался кусок хлеба. Надо было его доесть, кусочки оставлять не полагалось. Если оставишь кусочек, грозились, что подадут его во время другой еды...
Но еще по-прежнему пахали, сеяли, косили, сушили сено, возили зерно на мельницу, пекли в русской печке хлебы на неделю.
Помню, что все это делалось без надрыва, без натуги, без злобы. И теперь, когда пишу об этом, удивляюсь, как папа, значительную часть жизни проживший в городе и до женитьбы на маме не занимавшийся сельским хозяйством, быстро освоился, понял, что к чему и как надо делать на земле и с землей.
Весь инвентарь — сани, телеги, сбруи, пилы, топоры — был всегда в полном порядке. Не бегали, не суетились в поисках вожжей или иной какой мелочи. Все лежало и висело на своих местах. Можно было с закрытыми глазами в любое время года и суток протянуть руку в сенях или в сарае и взять, поднять или снять с гвоздя нужную вещь.
Меня к сельскому хозяйству не приучали. Но мне была сделана папой маленькая деревянная лопатка — копалка, и я вместе со взрослыми копала картошку. Без приказа и без принуждения. Никто никогда не выкапывал картошку из земли руками, как стали делать потом, после войны, полностью забыв, как это делали прежде...
Во время уборки на полосе разводили костер и пекли в золе свежевыкопанную картошку или вечером варили ее на берегу, укрепив закопченный котелок над костром.
Были у меня и маленькие грабельки, которыми я ворошила, то есть перевертывалала сено на берегу перед тем, как его убирать в сарай на зиму. Сено в сарае надо было утрамбовывать, и это было нашим, детским делом. Мы прыгали по ароматному сену с шутками и смехом. Не помню, чтобы после этого я чувствовала усталость или недовольство.
...Зимой отец все чаще уезжал на лесозаготовки, брал с собой Сережу, еще совсем мальчика. Иногда подряжался работать на лесоповале, гнал гонки, и хотя не был лоцманом, но удачно проводил гонки через опасные Боровичские пороги.
Каждый раз, возвращаясь, он привозил мне гостинцы: недоеденный, черствый, а зимой — подмороженный ломтик хлеба, обкусанный кусочек колотого сахара.
Он доставал из мешка или из кармана эти обычные вещи и преподносил мне как что-то особенное, редкостное, и я принимала из его рук бережно, как невиданную ценность, и кусочек хлеба и огрызок сахара мне казались необыкновенно вкусными.
Не хочу утверждать, что в нашей семье жизнь в ту пору была идиллической. Но мне, ребенку, которого любили, баловали и никогда не наказывали, если не считать страшных папиных угроз, она представляется светлой, может быть, именно потому, что я была окружена любовью и лаской.
Я не предполагала тогда, что жизнь могла быть другой — лучше или хуже.
Картинки в журналах, на которых изображены нарядные женщины и дети, казались мне нереальными.
...Летом, когда папа бывал дома, он каждый день ходил в лес за грибами и за ягодами, ловил во Мсте рыбу, чинил крышу дранкой, поправлял старые ступеньки крыльца.
Иногда брал меня с собой в лес. По мху на стволах деревьев учил определять, где север, где юг, по солнышку — время, прислушиваться к пенью птиц и различать их.
Собирание грибов и ягод мне плохо давалось. Папа то и дело говорил:
— Грибы на земле растут, а не на ветках, смотри под ножки и по сторонам. Вон белый грибок, вот еще и еще, не там, смотри внимательно, видишь? — и указывал палкой.
Я собирала те грибы, на которые указывал папа, радовалась, если находила гриб сама, но радость была какая-то неглубокая, не настоящая, просто было приятно, что я не совсем дурочка и вот тоже увидела грибок. А поскольку такие случаи были редки, мне не нравилось ходить за грибами. Просто нравилось гулять по лесу с отцом... Но он-то не гулял, он собирал грибы...
Иногда отец уходил в лес один, с охотничьим ружьем. Но никогда никого не убивал. Однако приходил не с пустыми руками, а приносил либо сосновых веток на помело, либо просто так — красивую веточку, лист папоротника или букетик земляники с первыми спелыми ягодами на нижних веточках и с маленькими белыми цветочками с желтой серединкой — на верхних.
— Это тебе от зайчика, — говорил он. И я верила, что он встретил зайчика, который передал мне гостинец.
Папа научил меня прислушиваться к голосу кукушки, смотреть, как тянутся от сосен длинные тени, как в голубом тумане, словно в седом дыму, тонет холмистая лесная местность. Я вздрагивала, когда из-под ног, из-под низкого лесного вереска с неожиданно громким треском вылетала куропатка. Сердце сначала замирало от страха и падало куда-то. Потом — глубоко вздохнешь, и снова становится спокойно и радостно, и в тишине слышно, как дятел долбит дерево, добывая пропитание.
— Знаешь, отчего умирает дятел? — спрашивает папа.
— От старости? Или ястреб его съедает?
— Нет, дятел умирает от сотрясения мозга. Представляешь, целый день трясет головой, клюет, долбит дерево... Тяжелая у него жизнь...
— И мозги сотрясаются?
— Конечно!
...— Сегодня вечером пойдем слушать соловьев...
...И мы выходим на закате, идем вдоль реки в тишине весеннего тихого вечера, когда трава уже начинает седеть от мелкой холодной росы, и за нами тянется темный след, это мы сбиваем ногами росу с травы, над рекой тянется, как пар, сначала легкий, затем более густой туман. Мы усаживаемся на еще теплые валуны или на ствол сваленного грозой и уже подгнившего дерева и замираем. Ждем.
И вот начинается.
Сначала невидимая птица как будто пробует голос, прочищает горло, но вот пошли высокие трели, бульканье, звуки поцелуев, откликается второй голос, третий, и весь воздух наполняется томящими звуками непонятного, пугающего и завораживающего чувства.
— Бог знает что такое! — папа вздыхает. — Как выглядит соловей, по-твоему?
— Яркий, как снегирь.
— Нет. Это маленькая серая птичка. Совсем некрасивая.
— Я хочу посмотреть соловья.
— Он редко подлетает близко к человеку.
Мне становится грустно, что я никогда не увижу соловья.
Когда мы возвращаемся, папа рассказывает мне сказку.
— Собрались птицы на общее собрание, решать, кто из них больше пользы приносит. «Я больше всех приношу пользы, — сказал дятел. — Я деревья лечу, червячков-древоточцев выклевываю». «Я новости разношу», — сказала сорока. «Я предсказываю, кому сколько лет жить осталось», — сказала кукушка. «Я беду предсказываю, — сказала ворона. — Прилечу к дому, сяду на крышу и каркаю». «Я погоду предсказываю, — сказала ласточка-береговушка. — Перед дождем низко-низко над землей и над рекой летаю». Все о своей пользе говорили. Хвастались. И только маленькая серая птичка сидела на ветке и молчала. «А ты что молчишь?» — спросили у нее. «А что мне говорить? Я лучше спою». И запела. Все птицы сразу замолчали. И все люди перестали ссориться. И ветер затих. Все слушали песню. А песня была о любви. А птичку звали соловей.
— И все-таки жалко, что я ее не видела.
— Радуйся тому, что ты ее слышала, что ты умела слушать. Не все люди умеют слушать...
...Как-то днем, когда папа работал в мастерской, а мама занималась своими делами, мы с братом Сережей играли на берегу. То ли пекли блины — бросали плоские камушки и считали, сколько раз подпрыгнет камушек, прежде чем пойдет ко дну, то ли искали под камнями невиданных чудес — была и такая игра. И увидели, что по реке, сверху, из-за поворота, плывет челн. Вроде бы пустой.
Челнами в нашей местности называли дощатые лодки, но не плоскодонки, с одним веслом. Гребец должен стоять, крепко расставив ноги, в кормовой части и управлять движением лодки, гребя веслом то справа, то слева. Слева гребли из-за спины. Хороший гребец легко управлялся с веслом, челн не раскачивался с борта на борт, а, как ткацкий челнок, нырял вверх и вниз, пересекая быстрое течение реки.
...На таком челне перевозит Харон души умерших через реки подземного царства...
...В плывущем по Мсте челне гребца не было.
Сережа быстро отвязал от колоды наш челн, столкнул его, прыгнул на корму и стал грести наперерез плывущему. Схватил цепь плывущего челна, привязал к нашему и подогнал к берегу. Я прыгнула в него. Осмотрела весло, лежавшее на дне. На весле не было метки, какие часто вырезали хозяева челнов.
— Сережа, смотри, бумажка... — я вытащила из-под ребра челна тщательно свернутую бумажку.
— Дай сюда, — сказал Сережа. Развернул бумажку и прочел:
«Прощай, жена,
прощайте, дети,
я погиб в глубокой яме
с тяжелым камнем на груди».
— Утонул, — сказал Сережа. — И еще с камнем на груди. Не достанешь, и не выплывет.
Мы знали, что утопленники сначала опускаются на дно, потом выплывают и плывут по течению.
Недалеко от нашего дома у таинственного места, которое называлось Черный Ручей и где время от времени нашей соседке являлись привидения, прибило однажды утопленницу.
Мы бегали смотреть на нее.
Она лежала на берегу, почему-то на правом боку, подогнув ноги. Совсем некрасивая, толстая, распухшая. Говорили, что она утопилась из-за несчастной любви и что ей восемнадцать лет. «А какая счастливая любовь могла быть у такой некрасивой?» — думала я, разглядывая без страха и отвращения толстые синие блестящие ноги и синее блестящее лицо.
Приезжали чужие люди, что-то записывали, измеряли, а она все лежала на берегу, и ее охраняли два деревенских мужика, крутили самокрутки из районной газеты и табака-самосада. В то время в газете печатались стихи Демьяна Бедного, Мужика Вредного:
Вот настали времена.
Что ни день, то чудо:
Спирт уж гонят из г..на.
Четвертную с пуда.
Мужики читали стихи, крякали, говорили, что неплохо бы самогончику принять по такому поводу, рвали газету и делали цигарки.
В челне, подогнанном Сережей к берегу, кроме весла и записки, ничего не было. Откуда он приплыл? Как же среди белого дня плыл этот челн вдоль двух, а может, трех, а может, пяти деревень и никто не соблазнился поймать его? Здесь была какая-то загадка.
Для прибрежных жителей челн всегда необходим и всегда дорого ценится. Почему же на этот никто не соблазнился, кроме нас, детей, играющих на берегу?
— Отнесем записку папе, — солидно заявил Сережа. — Это дело серьезное.
Папа прочитал записку, накинул пиджак и пошел в деревню, в сельсовет.
Несчастные дети! Зачем мы поймали этот челн? Бедный папа! Зачем он понес записку в сельсовет? Надо было положить записку туда, где она лежала, оттолкнуть челн, и пусть бы он плыл по течению.
Что нас удержало? Начитанность?
Прибежали в избу дети.
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца...»
Тот отец, из пушкинского стихотворения, оттолкнул утопленника, пустил плыть по течению, а потом утопленник стал стучаться по ночам, синий при лунном свете...
Папа вернулся быстро. С ним несколько мужчин. Кроме них из соседней деревни сверху спустились на челнах с баграми.
Верхние говорят в один голос, что не видели никакого челна и не знают, откуда он взялся и откуда может быть эта записка.
Шарили баграми в глубоком, как говорили — бездонном, омуте возле Черного Ручья. Ничего не нашли. Папу увели в сельсовет.
Вернулся он вечером сам не свой.
— Что там? — спросила мама.
— Говорят, Брашева пришли брать, а его уже нет, убежал. Говорят, и челн его. «Как он попал ко мне?» — спрашивали. Дети, говорю, на берегу играли, заметили. Врешь, говорят, ты помог Брашеву убежать, и с запиской, говорят, все ты подстроил, чтоб следы замести. Вот так без меня меня женили... Иди, говорят, пока отпускаем. Надо будет — вызовем.
— Господи, — взмолилась мама. — При чем тут Брашев и при чем ты? Ты его и в глаза-то не видывал, и слова-то никогда с ним не сказал... Да и с чего его брать-то? Ведь у него и так все отняли...
...А зимой произошло вот что...
...Но прежде, чем рассказать о зимнем происшествии, расскажу об одном папином знакомом.
Звали его Иларион Михайлович. Жил он в деревне, выше по Мсте, в длинном, приземистом барском доме. Папа говорил, что Иларион Михайлович, старый, седой, с немножко дрожащей головой сухой старик, когда-то где-то был управляющим имением. Потом оставил службу и купил дом у наследников проигравшегося в карты бедного помещика Еркина, который, не имея возможности заплатить карточный долг чести, повесился.
Дом был большой, с верандой, выходящей на запад, с тремя проходными залами и пятью небольшими комнатами, в которых можно было жить зимой, потому что в них были печи. Холодные летние комнаты пустовали.
У Илариона Михайловича был сын Иван и две дочери — Ольга и Вера. Это те, кого я знала. Может быть, еще были дети — не знаю.
Сын Иван в юности, задолго до революции, начал учиться живописи, но отец настоял, чтобы он оставил это, на его взгляд, бесполезное увлечение и занялся торговлей чаем. Ивану Иларионовичу торговля чаем не пришлась по душе, да и недуг помешал: у Ивана Иларионовича парализовало правую руку, она торчала, как палка, он ловил ее левой рукой и засовывал за широкий кожаный ремень. Иван Иларионович не был любимым сыном то ли потому, что не хотел стать негоциантом, то ли потому, что все свободное время занимался красками и книгами.
В живописи ничего большого и значительного он не создал. Так, все по мелочам.
Женился он на дочери приходского священника отца Николая Зинаиде Николаевне, тихой, доброй бесприданнице. Родилась у них дочь, девочка с каким-то физическим изъяном, умерла она в отрочестве, не дожив до полной нищеты и разорения своих родителей, когда они были вынуждены жить в бане при доме Ольги Иларионовны.
Ольга Иларионовна, красивая, черноглазая, в начале века вышла замуж за учителя музыки, пианиста Илью Николаевича. Это было в Петербурге. В качестве свадебного подарка отец преподнес дочери холм за рекой напротив его дома.
Холм был лыс, как коленка, и земля, глинистая, сухая, обошлась дешево.
Дочь и зять поставили небольшой низкий сруб на хорошем каменном фундаменте, окружили этот сруб легкими просторными верандами, и получилась у них летняя дача. Теплыми были только те помещения, которые находились в срубе, — кухня и маленькая комната, которую называли кабинетом.
Молодожены дали волю своей фантазии, цветными стеклами — а это было невиданной роскошью в наших местах! — застеклили веранду. На глинистый холм с сухой короткой травой наносили в корзинах земли, разбили цветники, клумбы да еще стеклянные шары на палках воткнули в середину клумб.
Дочь Илариона Михайловича Веру я никогда не видела, не знаю, приезжала она к отцу или нет. Но если приезжала, то давным-давно и, разумеется, не одна, а со своей семьей, приятелями и приятельницами, которые музицировали в холодных полутемных залах и пили чай на веранде, освещенной красным закатным светом.
Для кого-то ведь покупал старик большой дом!
Летом, по словам мамы, там собиралось до пятнадцати человек гостей. На это время они нанимали горничную, нянек для маленьких детей, кухарку.
В двадцать девятом (или в тридцатом? — в нашей местности все шло несколько замедленнее, чем в других местах) Илариона Михайловича раскулачили.
Как это происходило, я не знаю. Знаю только, что его выгнали из дома зимой, он перешел по льду реку, поддерживая под руку свою старую жену, и поселился в доме дочери, Ольги Иларионовны. Зимой этот дом пустовал, дочь с мужем и двумя сыновьями жили в Ленинграде. Местная власть хотела и ее дом отобрать, то есть и учителя музыки раскулачить, но Илья Николаевич представил в сельский совет справку о том, что он работает на пользу Советской власти и что дом его является летней дачей, непригодной для зимнего жилья, кроме кухни и крохотной комнаты, и что на такую дачу по своему служебному положению он имеет право.
Председатель сельского совета с активистами ходили к дому, копали вокруг, ковыряли стены, устанавливали точность сведений, указанных в справке. Сведения подтвердились. Сруб был маленький.
Овладев старым домом Илариона Михайловича, воинственно настроенные колхозники первым делом вытащили на берег Мсты рояль.
Блестящий, огромный, на трех толстых ногах, он казался невиданным чудовищем на фоне уже истоптанного, но все еще белого снега. И казался многим причиной их плохой жизни.
Рояль был казнен, разбит со злобой, хохотом и неудержимым хмельным весельем.
Старик Иларион Михайлович стоял у окна маленького кабинета в дочкином доме и смотрел за реку, где казнили рояль.
Со стен из темных блестящих рамок улыбались его дети и внуки.
По седым усам старика текли слезы.
...Я хорошо помню Илариона Михайловича.
Летом он ходил с удочкой вдоль реки и, когда добирался до нашего дома, заходил к нам, разговаривал с папой, иногда приносил мне маленькие подарки. Помню голубую двухстороннюю атласную ленту и крошечного — можно спрятать в спичечный коробок — фарфорового зайчика в шляпе и с барабаном. В основании зайчика была дырочка, в которую можно подуть и посвистеть.
Иногда приносил книгу.
Но книга предназначалась для всех...
...С Ольгой Иларионовной и Ильей Николаевичем я подружилась во время войны и часто бывала в их доме на холме, окруженном березами, сиренью и с северной стороны — густой еловой стеной, все это было посажено в начале века и буйно разрослось.
...Теперь от их дома не осталось ни следа. Он после войны был продан на вывоз...
...Второй рояль повезли в район и разбили по дороге.
Вокруг старого длинного дома выкорчевали все кусты желтой акации, жасмина и других декоративных растений...
...В доме Илариона Михайловича устроили торги.
— Пойдем, посмотрим, что там делается, — сказала мама.
В большом холодном зале, где воздух загустел от табачного дыма и кисловатого запаха овчинных полушубков, толпилось много народу. Наверно, это были жители окрестных деревень.
Вокруг составленных в длинный ряд столов, на которых, вероятно, были разложены различные, предназначенные для продажи вещи — одежда, посуда, утварь, толкались и топтались мужчины и женщины, возбужденно-громко переговариваясь.
Мама становилась на цыпочки, вытягивала шею, пытаясь заглянуть через плечи мужчин и женщин, но это не удавалось ей, ее отталкивали более активные покупатели и просто любопытные, такие же, как она.
Я толкалась тоже, вернее, толкали меня, я путалась под ногами и видела только ноги в валенках, серых, белых, черных, с заплатками на задниках, с надрезами на узких голенищах, в которые заправлены мятые штаны, и в считавшихся щегольскими, с большими, опущенными вниз отворотами... Кое-где бойко топтались чуньки.
...Я маленькая, все никак не могу вырасти, хотя мне уже шесть лет...
...Мама ничего не купила.
Я не знаю почему.
Не было денег?
Или не оказалось на столах нужной нам вещи?
Или рука у моей мамы не поднялась на чужое добро, которое, отнятое у законных хозяев, продавалось по дешевке?
Расстроенная мама на папин вопрос: «Ну что там?» — отчаянно махнула рукой.
...Недели через две я проснулась от робкого стука в окно.
Мама вскочила с постели.
— Кто там?
Набросила на плечи платок, пошла в сени. Вернулась, зажгла керосиновую лампу.
— Мама, кто это?
— Закрой глаза и спи.
Поднялся папа. Мама вернулась в спальню. Но не легла.
Я слышала голоса.
— Мы вас очень просим, Михаил Федорович. На вас вся надежда. Это должно быть часа через два-три. Сейчас в старом доме идет собрание. Они придут после собрания... Нас предупредили.
— Ну, что ж, — сказал папа. — Попробую. Да нет, не уходите. На лошади быстрее. Вместе поедем...
Люди, которых я не видела, и папа ушли.
Мама погасила лампу. Легла в постель.
— Мама, кто это?
— От Илариона Михайловича. Его соседи. Просили отвезти на станцию его с женой, на поезд. Их предупредили, что сегодня ночью придут их арестовывать. В дом Ольги Иларионовны. А сейчас в старом доме идет собрание. Вот и пришли к папе. Ведь лошадь у нас своя. И все знают, какая она быстрая.
Не знаю, сколько прошло времени, но вернулся папа. Вместе с мамой они насухо обтерли запаренную лошадь, перевернули сани вверх полозьями, обтерли полозья. Шел снег, и полозья быстро запорошило тонким ровным слоем пушистого снега. Запорошило и след от саней. Кое-где на след от полозьев папа побросал клочки сена.
На меня не обращали внимания. И я все это видела, дрожа от холода и от страха перед таинственностью, непонятной мне.
Во второй половине ночи загрохотали в дверь.
— А ну, веди к лошади! А ну, показывай сани. А ну, где твой полушубок? А где дянки? А где валенки?
Поискали на печке, заглянули за заслонку в печку. С керосиновой лампой вышли в сени, затем во двор.
Сухая лошадь Динка, не переставая жевать, удивленно посмотрела на пришедших умными влажными глазами...
— А в чем дело? — спросил папа.
— А в том, что ты отвез на станцию старика и старуху и все их добро.
— Какого старика? Какую старуху?
— Спрашиваешь! А то — не знаешь?!
— Я никуда не выходил, — сказал папа, — вот с вечера за сеном съездил к стогу. Вот и сено, снежком его уже засыпало...
— Снежком... сено... А птички улетели, пока собрание шло. И некому, кроме тебя, их увезти. Лошади-то ни у кого нет. Только у тебя. Все знают, какая у тебя лошадь.
— Лошадь-то хорошая, да я-то здесь ни при чем...
«Ах, молодец папа, — думала я. — Не то что с челном и с запиской. Ни в чем не виноват, а растерялся. Рассказал всю правду, а ему не поверили. А теперь он им назло сделал. Да и как он не отвез бы Илариона Михайловича, старого знакомого, у которого и так все отобрали и выгнали из дома!»
...— Ну что, Михаил Федорович, в колхоз ты не пошел, не захотел трудиться вместе со всеми. Единоличник, значит. Середняк. Нэп-то давно закончился, как временное явление. Ярмарки запрещены. Куда ты свои игрушки повезешь? А лес рубить я тебе запрещаю. Свертываться придется. Не жить тебе здесь. Да и девчонке твоей здесь не жить. Ходу ей нигде не будет. В школу — и то не примут. Школы-то у нас для кого? Для колхозной молодежи. Понял? — так говорил папе мужчина с голенищем под мышкой.
Отец понял.
Заколотил досками окна в своей мастерской, навесил замок на дверь и уехал в Боровичи.
Остались мы с мамой и Сережей. Старший — Коля — был уже давно отправлен в Тверь к родственникам по отцу. Близился и Сережин отъезд или, вернее, уход из дома. Его тоже взяли родственники, сначала в Боровичи, потом в Ленинград...
...Как отправляли детей из дома, я имею в виду — из нашего дома? И не в войну, а в мирное, довоенное время...
Укладывали в мешок пару белья из домотканого холста, потому что мануфактуры не было и денег не было, немного сушеных грибов, сухарей, давали денег на проездной билет в общем вагоне, засовывали в углы мешка две сырые картофелины, затягивали углы веревочными петлями, делали из концов веревки лямки, надевали на спину мальчику...
Уходили мальчики в стареньких пиджачках с залатанными рукавами или в старых телогрейках, ноги их были обернуты портянками и всунуты либо в старые галоши, либо в опорки — нижнюю часть старых, разношенных сапог...
Эта обувь была не по ноге, приходилось привязывать ее к ноге веревкой...
Мама плакала, не скрывая слез, прижимала к себе своих сыновей — то одного, то другого — в другое время, неистово целовала и потом долго крестила вслед мальчиков, которые стеснительно отводили ее руки и сопели носами... Уходили, опустив голову, и не оглядывались...
...Куда уходили? На какую жизнь? Всем чужие, бездомные, неприкаянные...
------
...Сколько пробыл папа в Боровичах — не помню. Но помню — я уже ходила в школу в первый класс, — вернувшись из школы, я застала маму плачущей над распечатанным письмом. Письмо и конверт лежали на столе. Я прочла письмо от папы. Он писал, что посылает свидетельство о разводе. Тут же лежало свидетельство.
...Почему ты сделал это, отец?
...Некого спросить.
Под горячую руку?
Из каких-нибудь других соображений?
И почему ты после этого снова вернулся к нам и мама приняла тебя, как ни в чем не бывало, и ни я, ни мама никогда не напоминали тебе о твоем поступке?
Почему я, дожив до седых волос, задумываюсь над этими вопросами и не могу ответить на них?
Почему не исчезла моя любовь и нежность к тебе, хотя внешне они никак не проявлялись?
— Мама, почему папа прислал развод?
— Рассердился на меня. Я тогда ездила в Боровичи ненадолго, а он просил, чтобы я задержалась. Я не могла задержаться, в доме оставалась домаха, надо было платить ей, да и лошадь в дороге кормить было нечем. «Кто тебе дороже — я или лошадь?» — спросил он. «Миша, ты человек, ты все понимаешь, а лошадь — бессловесная тварь. А вдруг она сдохнет? Что я буду делать? Ведь сейчас у меня полоска под рожь, под овес, есть огород. Все это надо вспахать, заборонить, сам понимаешь, не будет лошади, не будет возможности даже огород обработать, с голоду помрем». Он рассердился на меня и решил развестись. Это под горячую руку, как когда-то икону топором покалечил...
...В то время разводы оформлялись просто: пришел в загс, сказал — развожусь, и дают бумажку, что мужу, что жене.
Разводись, сколько хочешь.
...— Как же ты простила, мама? Приняла его?
— Как же не принять? Он же муж мне.
— Какой же муж, если в разводе?
— Ну и что? Мы же в церкви венчались. Значит, муж и жена.
Вот какая была мамина логика.
— Мама, когда ты выходила замуж за папу, тебе было под сорок, ты была уже старая. Как же ты рискнула в этом возрасте завести ребенка?
— Что ты, доченька, — мама смущенно улыбается. — Мне еще не было сорока. Я была молодая женщина, очень хотела ребенка от твоего папы. Мы думали, что будет мальчик. А когда родилась девочка, очень обрадовались. И в честь моей мамы, твоей бабушки, и вообще в надежде на лучшую жизнь, назвали тебя Надеждой.
И тут на меня нисходит просветление: после своей трудной жизни, брака по сватовству, нескольких лет вдовства мама встретила и полюбила папу. Ей казалось, что она очень молодая.
Это любовь вернула ей ощущение молодости!
Я понимаю, какой жестокий вопрос я задала ей!
...Я подхожу к маме, обнимаю и целую ее...
...А может быть, чувствуя, что над ним сгущаются тучи, папа прислал развод, не желая портить жизнь маме и мне и чтобы не накликать на нас беду?
...Вскоре после папиного возвращения из Боровичей и ухода из дома подросшего Сережи лошадь продали: нечем было кормить, негде накосить сена.
Перед тем как передать свою любимицу, красивую белую легконогую Динку новому хозяину, отец обнял ее за шею и заплакал.
Лошадь немного опустила голову, стояла смирно, как будто понимала, что расстается с ним навсегда...
...Мы смотрели с мамой из окна...
...Вскоре после этого я проснулась однажды ночью от непонятного шума в доме и от необъяснимой тревоги, заполнившей мою детскую душу.
Я вылезла из-под одеяла и в одной короткой рубашонке, босая, вышла в большую комнату.
...В нашем доме были чужие люди.
Вывернуты ящики комода, выворочено содержимое старого черного шкафа. Ни сундуков, ни ларей с одеждой у нас не было. Не было даже обычных для деревни овчинных полушубков и тулупов, ни одной пары целых валенок... Из белья и одежды было самое необходимое, как говорили «рубаха да перемываха». Теперь это все валялось на полу, и чужие ноги в сапогах топтали льняные, вытканные мамой полотенца, сшитые на руках ситцевые рубашки...
...Люди лазят в подвал, на чердак, роются в старых драных ветошках в кладовке.
------
...В лампе кончается керосин, стекло закоптело. Мама молча плачет. Папа тяжело вздыхает, но молчит. Сидит, сложив руки на коленях. Он смотрит в одну точку, будто ничего не замечает вокруг.
— А это что? — спрашивает чужой мужчина и достает со шкафа только что замеченный им маленький, сделанный папой сундучок с блестящим медным замочком.
Это мой сундучок. Я храню в нем копилку, цветные стеклышки, яркие перышки, маленькие ракушки и еще — две медали. Одна желтой бронзы, другая — красной.
На одной — желтой — Петр Первый, на другой — царь.
Я знаю, что он — освободитель.
Однажды мы с мамой были у старой женщины в деревне, и она показала большую красивую бумагу. Крупными буквами наверху было написано «Манифест». Это был Манифест об отмене крепостного права.
— Я прячу его, а уж тебе, Настенька, покажу, — говорила женщина, придерживая рукой свертывающийся в трубочку большой лист.
Мне было непонятно, почему царь освободил народ, когда я уже знала, что народ освободила революция?
— Только никому не говори... — просила женщина. — И ты никому не говори, — обратилась она ко мне.
— Она не скажет, — успокила ее мама.
...И этот таинственный освободитель был изображен на красной медали. И говорить о нем было нельзя...
...Мужчина трясет сундучок. Копилка, медали, камушки громко стучат. Не знаю почему, я боюсь, что сломают замок, откроют сундучок, а там... «Зачем держите медали с царями? С царями — нельзя. За царей в тюрьму сажают». Это я уже знаю. Слышала. И боюсь, что отберут медали. Мне их жалко. Это моя драгоценность. За них накажут папу. И жалко копилку...
Я бросаюсь к мужчине, вцепляюсь в него и ору блажным голосом:
— Это мое, мое, там мои камушки, мои стеклышки, мои игрушки! Отдайте! Отдайте мне, это мое! Мое!
Мужчина дергается, стряхивает меня, от неожиданности выпускает из рук маленький сундучок. Я хватаю его, прижимаю к груди и забиваюсь в угол.
Меня не трогают.
Папу уводят.
------
...В другом измерении, в другом времени и пространстве я подхожу к книжным полкам, отодвигаю стекла и достаю медаль из желтой бронзы с выпуклым изображением — барельефом Петра Первого на коне во время Полтавской битвы. Мелкими буквами по кругу написано: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россия». На другой стороне — Петр Первый в профиль в лавровом венке.
«Эта медаль могла бы погубить моего отца...» — думаю я.
...Медаль из красной меди или из красной бронзы у меня украли...
— Мама, где папа?
— В Новгородской тюрьме.
...Я умею писать письма. Я пишу их охотно и часто. Пишу родственникам в Ленинград и в Калинин. Все письма начинаются одинаково. Мне сказали, что так надо:
«Здравствуйте, дорогие (перечисляю всех, кому предназначено письмо).
Низко кланяемся мы вам всем и желаем вам всего хорошего, а главное — здоровья. Сообщаем вам, что мы живы-здоровы. Зима нынче холодная». (Если пишу летом, то пишу, что лето нынче жаркое или дождливое. Если весной, то описываю, какой был ледоход, если осенью — сколько нынче рябины, какой был ледостав и когда стала Мста.)
На этот раз я пишу письмо так:
«Здравствуйте, дорогой дяденька, начальник Новгородской тюрьмы. Низко кланяемся мы вам, я и мама. Желаем вам всего хорошего, а главное — здоровья. Зима нынче холодная, много снегу. А дров мало, потому что приходится топить печку по два раза и все равно холодно. Дорогой дяденька, отпустите моего папу. Нам без него очень плохо. Мама все время болеет, не может наколоть дров, а я еще не умею, мне не поднять топор. Один раз попробовала, но ударила себя по коленке. Было много крови. Мама больше не разрешает брать топор. Дорогой дяденька, отпустите папу, он ничего плохого не сделал. А нам без него плохо. Затем до свиданья».
Ответа я не получила.
...Интересно, приложено ли письмо к папиному делу?
Или посмеялись и выбросили в мусорную корзинку?
...Яркий мартовский день. Белые сугробы. Синие тени. На крыше подтаивает снег, с крыши, все удлиняясь, свисают сосульки. В полдень с них капают капли. Они пробивают снег, и на снегу появляются глубокие круглые дырочки.
Я смотрю на снег, на серые стены дома, на дырочки на снегу, на все кругом — такое чистое и тихое, и у меня радостно на душе от ощущения этого светлого и чистого солнечного мира.
И вдруг вижу: от Черного Ручья по узкой тропинке между сугробами идет человек. Я всматриваюсь и узнаю папу.
— Мама! Папа идет!
Мама выходит из дома, смотрит на человека, который еще очень далеко и лица его не видно, и не узнает его.
— Мама! Папа идет!
Я бросаюсь навстречу человеку. Конечно, это мой папа! Он поднимает меня на руки, я обхватываю его шею, его небритый подбородок больно колет мне лицо, но я не хочу думать об этом, я целую его в небритые щеки, в белые обвислые усы, в голубые печальные глаза.
ПАПА!
...— Иди на улицу, погуляй, — говорит мама. Ей хочется побыть с папой наедине.
Я выхожу на улицу. Радость переполняет меня, не могу оставаться одна, мне хочется поделиться своей радостью с кем-нибудь. Но поделиться не с кем.
Иду к соседям.
— Что, никак отец вернулся? — спрашивает меня соседка.
Мне слышится в ее голосе неприязнь. Я не хочу делиться с нею.
— Не знаю, — говорю. — Не видела.
— До чего ты противная девчонка, — говорит соседка. — Я же видела, что твой отец вернулся...
— Пойду, посмотрю... — говорю я.
Выхожу на улицу.
Хожу по снегу. И жду, когда меня позовут домой.
ПАПА!
...Наконец мама выходит на крыльцо. Зовет меня.
На столе самовар. Собираются пить чай.
— Все время твердили: пропаганда, пропаганда, — рассказывал папа. — А я отвечаю, что такого противного слова не знаю. Заставляли несколько раз расписываться. Я распишусь, а мне говорят: «Нет, не так!» Показывают какую-то бумагу с другой подписью. «Вот, говорят, твоя подпись». — «Нет, говорю, это не моя подпись. Я так не умею... Это кто-то другой расписался. Другого и ищите». Ну, и отпустили. Говорят, вызовут в район. Здесь будут решать...
Я слушаю папины слова и пытаюсь понять их.
Слово «пропаганда» мне не нравится. Оно напоминает гада. При чем тут гад?
...Вспоминаю...
...У мамы развешено на заборе белье. Собирается дождь. Уже начало накрапывать. Мама говорит:
— Помоги мне собрать белье.
Я помогаю.
Вижу в разлапистом старом кусте черной смородины серую половую тряпку, тяну к ней руку, но не успела взять тряпку, отдергиваю руку: это не тряпка, а свернувшийся серый гад!
— Гад! — кричу я. — Папа, гад!
Папа выходит из мастерской с деревянным желтым метром в руках, подходит к кусту и метром убивает гада. Поддевает его этим же метром, несет на берег, мама выносит заступ, поднимает квадратный кусок дерна, углубляет ямку, и папа бросает в нее длинного, почти в метр, серого, беспомощного, как толстая веревка, висящего гада.
— Твое счастье, — говорит папа. — Взяла бы рукой — и все...
...О какой пропаганде говорил папа?
О какой подписи, которая не похожа на его подпись?
...Папа внимательно прочитывал две газеты, которые он получал. Иногда что-нибудь, по его мнению особенно интересное, читал вслух. Однажды я слышала, как он ворчал:
— С кличками все, с кличками, как уголовники. Что они, своих фамилий стыдятся, что ли?
Помню, как он прочитал заметку об убийстве героя-пионера Павлика Морозова. Не помню всю заметку, помню только суть ее.
Отважный пионер самоотверженно боролся против кулаков своей деревни в период коллективизации. Донес на своего отца. Зверски убит кулацкой бандой.
Павлик Морозов был провозглашен героем и примером для подражания.
...Забыв о времени, в котором он жил, а может быть, наоборот — особенно остро почувствовав его сложности и неожиданности, папа тогда сказал:
— Гаденыш! Что он в двенадцать лет понимал в делах отца? В отношениях его с другими людьми? Как он смел донести на отца? На отца?! Гаденыш!
И, уже обращаясь ко мне, отчетливо и строго:
— Если когда-нибудь кому-нибудь будешь рассказывать, о чем мы говорим дома, я своими руками отрублю тебе голову. Я стар, мне терять нечего. А гаденыша в доме не потерплю...
...Так что же такое пропаганда? — мучил меня вопрос.
Гад, гаденыш...
...Вскоре папу вызвали в Боровичи.
...Вернувшись, он сказал, что ему дали ссылку на три года. Предложили на выбор несколько городов и областей. Он выбрал Козлов. Он так и сказал: Козлов.
— Мичуринск? — переспросили его.
— Пусть Мичуринск, если вам так больше нравится, — сказал отец.
...Вот тут, я думаю, и сыграло свою роль свидетельство о разводе. Меня и маму не тронули...
...Для того чтобы из нашего хутора попасть в Козлов, или — если вам так больше нравится — в Мичуринск, нужны деньги.
О деньгах давно говорят, что деньги как красота: или они есть, или их нет.
У нас денег, таких денег, которые нужны на дорогу, конечно, не было. И взять их было неоткуда.
У мамы было припрятано, сэкономлено, отложено, затаено от всех несколько рублей на — не дай Бог! — несчастный случай с сыновьями.
Мама достала пакетик со дна ящика с мылом, развернула газету, потом тряпочку и бережно положила стопочкой на стол жалкие, грязные, но тщательно разглаженные бумажки, которые называются высоким словом «купюры». Пересчитала купюры. Хоть слово было и красивое, но купюры были мелкие и их было мало.
— Где взять еще? Только бы на дорогу набрать, чтобы по этапу не направили...
И я принесла и молча поставила на стол свою копилку.
Мельхиоровая блестящая копилка в виде бочонка с обручами была закрыта на ключик, а ключик потерялся.
Я уже говорила, что время от времени мама, папа, тети, знакомые люди за мое нравящееся им произношение слов с «л» и «р» давали мне монетки. Я крепко зажимала их в потной ладошке, приносила домой и опускала в копилку. Мама говорила, что я коплю на приданое... За мой накопительский век в копилке собралось порядочно монеток.
Папа и мама переглянулись.
— Вот, — сказала я. — Деньги. Там много.
Папа потряс копилку.
Внутри глухо звякнуло мое состояние.
— Вскрывать? — спросил папа.
Я кивнула.
— Не жалко?
— Нет, — твердо ответила я.
Он долго возился с ножом и напильником и наконец распилил верхнюю часть бочонка и высыпал монеты на стол. Сумма была невелика, но деньги есть деньги.
Распиленный бочонок мне больше не понадобился.
...Того, с кривой ухмылкой и голенищем под мышкой, который любил повторять, что «власть на местах», вскоре, как тогда говорили, «замели».
Удивительно точное слово придумал народ! Замели, как мусор в угол, как золу в печке, — всех в одну кучу!..
...Люди стали больше остерегаться друг друга. К нам уже не заходили «по пути».
Появились новые, горластые, напористые представители власти, более молодые, более уверенные в себе.
Один из таких «деятелей» уже после войны отнял у мамы огород, потому что, объяснил он, мама не имеет права пользоваться колхозной землей. Он не хотел и слышать о том, что у мамы во время войны на фронте были два сына и дочь, что один сын — Сережа — погиб и за него мама получала пенсию — тридцать рублей...
И только после моего вмешательства, после моего обращения в областные организации огород был возвращен. Но своим обращением я на всю жизнь нажила себе врагов на своей родине...
...В старом господском доме проигравшегося самоубийцы Еркина, в доме, отнятом у раскулаченного мещанина Илариона Михайловича, в доме, пустом и гулком и практически никому не нужном, открыли начальную школу.
В первую же осень, как школа открылась, я пошла в первый класс. Меня не хотели отдавать в школу, я была мала ростом, мне было еще семь лет, а в школу тогда принимали с восьми, но я, узнав, что школа открылась и занятия уже начались, пришла сама и уселась за парту.
До уроков и на переменах мы носились по всему дому, забирались в две пустые пыльные холодные комнаты второго этажа, лазали на чердак, находили всякую забавную мелочь, ломали и разрушали все, что еще оставалось не сломанным и не разрушенным. Найдя маленькие подсвечники для рождественской елки, мы, к всеобщему веселью, защемляли носы и уши друг другу и себе тоже и с визгом проносились по пустым залам... В школе было два учителя и четыре класса...
...Во время урока дверь в класс приоткрылась, и я увидела папу.
Учитель оглянулся.
— Выйди, — сказал он мне.
Я вышла в полутемный зал, из которого выход был на веранду, уже разобранную за ненадобностью.
Подошла к папе.
Он присел на корточки, обнял меня за плечи, посмотрел мне в лицо, заплакал и крепко прижал к себе.
...Третий раз я видела папу плачущим...
— Попрощаться пришел. Когда-то свидимся. И свидимся ли?
...Он уехал в Мичуринск...
...Какой цели добивалось начальство, переселяя людей с одного места на другое? Более темного места, чем наш хутор или соседние деревни, я и сейчас не знаю. И туда не доехать, и оттуда не выехать... Так чего бы, кажется, оттуда выселять людей?
Но мудрое начальство знало, что делало. В этом таился скрытый от всех смысл. Доискиваться смысла простому человеку не полагалось. Приказали — выполняй.
Когда папа, добравшись до Мичуринска, явился в милицию или туда, куда полагалось являться таким, как он, сосланным, его фамилии в списках не оказалось. «Придется подождать, — сказали ему. — Пришлют еще списки, и там может быть ваша фамилия».
Хорошо ждать, когда есть крыша над головой и кусок хлеба. А если нет ни того, ни другого, нечем заплатить за ночлег, не на что купить хлеба, некуда устроиться на работу, потому что без разрешения милиции на работу не берут, из дома посылок нет и не может быть, даже маленького денежного перевода ждать неоткуда. Что тогда делать человеку? Да еще и немолодому, на шестом десятке? Папа говорил, что собирал дикий чеснок, на жалкие оставшиеся копейки покупал хлеб и ел чеснок с хлебом.
Наконец в милиции или там, где должны были отмечаться и куда должны были являться такие, как папа, сказали: «Можешь убираться на все четыре стороны. Не морочь нам головы. И без тебя дел по горло».
Для того чтобы убраться на все четыре стороны, тоже нужны деньги, пешком не пойдешь. А куда идти? Папа хотел только к маме и ко мне. Но мимо нашего дома еще ходил ухмыляющийся человек с голенищем под мышкой и говорил маме:
— Меняй девчонке фамилию! Меняй, пока не поздно, но только не на свою, твоя тоже плохая...
...Чтобы поправить дела, мама продала комнатные цветы. Горшки и ушаты, наполненные землей, стояли на полу и занимали значительную часть парадной комнаты. Некоторые растения, такие как олеандры, восковое дерево, фикусы, чайная роза, лимонное и апельсиновое деревья, достигали потолка. Часть цветов купил кто-то из деревенских, часть увезли в Боровичи.
— Мама, мне кажется, что, если ты карандаш воткнешь в землю, он к весне пустит корни, ростки и зацветет. Как это у тебя получается?
— Не знаю, — говорит мама. — Как-то получается.
На все лето мама сдала наш дом дачникам. Мы переселились в папину мастерскую, отодрав от окон доски и вымыв пол, стены и потолок. Станок и инструменты вынесли в сарай и еще не знали, что мастерская уже никогда не будет мастерской и что папа никогда больше не выточит из дерева ни одного яичка, ни одной матрешки...
Приехала ленинградская семья. Наверно, это были хорошие добрые люди: мать, две девочки, мальчик и бабушка. Девочки были старше меня, красивые, нарядные и надменные. Они не обращали внимания на меня, не замечали и замолкали, когда я подходила к ним, отворачивались и шли в другую сторону.
Моя мама отдавала дачникам молоко, сметану, яйца, взбивала для них свежее сливочное масло.
Дачники все время стряпали вкусные блюда, жарили, пекли, спали после обеда, пили чай в палисаднике и вообще жили не так, как мы.
Мальчик был старше меня года на два, но в школе учился только на класс старше. Учился он, по всей видимости, плохо. На лето имел задание по арифметике. Был тогда такой предмет.
Мальчик в этой самой арифметике ничего не смыслил. А мне нравилось решать задачи. Мы с ним договорились, что он будет передавать мне через окно задачник, листок бумаги и карандаш. Я решу задачку, или две, или три, положу ему на подоконник. Он перепишет и покажет своей маме.
— Давай я тебе объясню, как надо решать, — говорила я, мне нравилось объяснять.
Он отказывался, не хотел.
Я перешла в третий класс начальной сельской школы, он — в четвертый класс ленинградской, я решала его задачи, а он не мог! У меня горели щеки от восторга, что я решала задачи, которые мне еще предстояло решать зимой!
О нашей договоренности узнала его мама. Наверно, она удивилась, почему ее сын стал такой сообразительный? Это мне он казался большим, а на самом деле, конечно, он был еще совсем маленьким и сознался маме, что решает задачи не сам...
— Не смей приходить сюда, ты плохая девочка, — сказала мне его мама. — И не смей подходить к нашему дому...
Я и без того не очень-то ходила к ним, в свой родной просторный дом. А тут даже близко подходить не разрешают!
Мне стало обидно.
Я решила отомстить.
Я долго думала, как это сделать.
И вот решила. Во время их послеобеденного сна, они называли это время «мертвым часом», принесла из-за дома длинный тяжелый кол и изо всех своих сил ударила по торцовой глухой стене бревенчатого дома. Там, за этой стеной, была спальня, они все спали, сытые, довольные жизнью, и видели сладкие сны.
Удар был такой силы, какой я сама не ожидала. Быстро отнесла кол на место, за дом, аккуратно положила его туда так, как он лежал, то есть отсыревшей стороной — к бледной придавленной его тяжестью траве, и, беззаботно заложив руки за спину, стала прогуливаться по берегу.
Все произошло очень быстро, пожалуй, быстрее, чем я рассказала об этом.
Из дома выбежала бабушка-дачница, за ней все остальные.
— Что случилось? Что случилось? Девочка, что случилось?
Я пожала плечами. Я не знала, что случилось. Ничего не случилось.
Начали кричать мою маму.
— Анастасия Федоровна, что случилось?
— А что случилось? — вполне искренне удивилась мама.
— Был такой удар, такой удар, мы думали — гроза или уже война началась...
Меня тогда особенно поразило это слово: война.
— Не знаю, — сказала мама. — Я ничего не слышала. Может быть, вам приснилось что-нибудь?
— Ну как же может присниться всем сразу?
— Бог его знает, может, и приснилось всем сразу...
...Я никогда никому не говорила, что это сделала я.
Дачники приписали удар мистическим силам. Особенно на этом настаивала бабушка, которая боялась гнева Божьего и возможной войны. Кто знает, может, и мной руководила мистическая сила?
Как же я могла поднять тяжелый кол, размахнуться и ударить по стене? И потом быстро спрятать кол? У меня, девятилетней, плохо растущей девочки, и сил-то таких не было.
...Прожив какое-то время в Мичуринске, отец переехал на станцию Медведево в трех километрах от Бологого.
К этому времени я окончила начальную школу.
В школу колхозной молодежи — ШКМ, находившуюся в двенадцати километрах, — а следовательно, возникла необходимость в интернате, — меня не приняли то ли потому, что родители не были членами колхоза, то ли потому, что мама не могла выполнить условия интерната — привезти на всю зиму необходимое количество муки, овощей, мяса. А может быть, по той и другой причине.
Мы с мамой отправились к отцу.
До станции Мста, где предстояло сесть на поезд, надо было пройти тридцать километров.
И мы шли.
Я босиком, бойко размахивая руками, мама — с тяжелым грузом, разделенным на перекинутые через плечо два узла, связанные полотенцем.
— Устала? — время от времени спрашивала мама.
— Нет, — отвечала я. — Только пяткам больно.
— Ничего, это пройдет.
...До станции надо пройти одиннадцать деревень. Все они на берегу Мсты, и все совершенно разные. Особенно меня удивляли деревни, расположенные в два ряда, как будто им и дела нет до реки Мсты, а что может быть прекраснее этой реки?
Живут себе люди, смотрят в окна и видят другие окна, и довольны. То ли дело глянуть в окно, а там — река... В больших деревнях мне все казалось унылым, палисадников нет, посредине улицы — лужа, бабы, прищурясь, недоброжелательно смотрят вслед, мама здоровается с ними, они чуть-чуть наклоняют голову, еще больше прищуриваются, думают: чья это? Откуда это? Куда это?
...Первый раз в жизни я увидела паровоз. Он меня не поразил. Я ожидала чего-то необыкновенного, а это был такой же, как на картинках...
...Мама оставила меня у отца и уехала обратно.
...Мы с отцом жили, вернее, спали в комнате без окна, в кладовочке, в доме дальних свойственников.
— Пока я не приду вечером, ты не засыпай, услышишь мои шаги, открой дверь, чтобы хозяева не слышали...
За время, проведенное в Мичуринске, отец, и без того любивший выпить, пристрастился к спиртному. Не помню, платил ли отец за ночлег в кладовочке или нас пустили из милости, но отец не хотел, чтобы хозяева знали, когда он приходит навеселе и насколько сильно это навеселе. Боялся, что откажут в ночлеге, а отказать себе в удовольствии выпить не мог...
Каждый вечер я ждала его прихода. Вскакивала и босиком, на цыпочках бежала открывать ему дверь.
Матрац, на котором мы спали, утром я скатывала, поднимала с пола и ставила в угол.
Папа, от которого пахло спиртным, опускал передо мной глаза.
Гладил меня по голове.
Доставал из кармана пирожок или яблоко.
Приносил баночку меду.
Но это был уже не тот человек, который носил меня на спине и водил слушать соловьев.
Я жалела моего отца.
Я понимала: в нем что-то сломалось, какая-то пружинка, какой-то стерженек. И поправить этого никто не сможет.
Его внутренний механизм был стар для этого...
Из рук было выбито теперь не нужное никому ремесло, которым он владел в совершенстве...
Мама продала корову и зимой приезжала к нам, привозила сушеные грибы и ягоды...
...Мы уже снимали комнату с двумя окнами у такой же нищеты и среди такой же нищеты, как мы...
Нищету описывать менее приятно, чем богатство...
...Очень хорошо помню, как объявили по радио, что в нашей стране построен социализм. Мы, пионеры, бегали с флажками и прославляли Сталинскую Конституцию.
Полки в магазинах были пустые и пыльные. Ни продуктов, ни промтоваров, ни очередей.
Всюду висели портреты вождей. У местных самодеятельных художников было много работы.
Отец сказал:
— Не люблю этого хитреца с прищуренными глазами... Не верю ему...
Я поняла, кого он имел в виду...
Мне стало страшно за отца.
...Как-то папа привел в нашу жалкую комнатенку коренастого паренька лет восемнадцати с розовым лицом и большими серыми глазами навыкате. Папа сказал, что Ванюша, так звали паренька, будет жить с нами, спать на полу или сдвинутых колченогих стульях, пока ему не дадут места в общежитии.
— Ему негде ночевать. Не на улице же? Он сирота, у него никого нет...
Я понимала, что на улице спать нельзя. Но и у нас тесно. Однако возражать отцу я не могла, как и не могла понять, неужели не нашлось никого, кроме папы, кто бы приютил этого Ванюшу? Где папа его нашел? Или как Ванюша нашел папу? Я не знала.
Ванюша с самодельным фанерным баульчиком остался у нас.
Не помню, ел он у нас или ходил в деповскую столовую, запахи от которой были сильнее, чем горький запах дыма от паровозов...
Иногда Ванюша открывал свой баульчик и перебирал содержимое. Там были рубашка и майка. И еще проволочки, гвоздики, щипчики, ножички, бусинки, бисеринки. Оказалось, что Ванюша, по каким-то неведомым мне, но, может быть, известным моему отцу причинам оставшись без угла и куска хлеба, стал мастерить на продажу птичьи чучела.
Мне он подарил веточку, на которой сидели, как настоящие, два снегиря. Но тем, что они были «как настоящие», они мне не нравились. Мне жалко было настоящих снегирей, превращенных в этих мертвых, «как настоящих». Я невзлюбила Ванюшу.
Он чувствовал это. Был молчалив, я даже не помню его голоса. Он при мне краснел и молчал.
Только однажды, узнав о моем дне рождения, принес откуда-то гармошку и, покраснев еще больше, сказал:
— Вот я тебе в подарок сыграю...
Его игра мне не понравилась. Я ему сказала об этом...
...Откуда взялся и куда делся этот Ванюша, этот сирота времени, я не интересовалась и теперь уже никогда не узнаю...
...С кем папа общался, с кем сблизился в эти годы, не знаю. Всего один раз он взял меня с собой.
Пришли в какой-то частный дом, в котором, похоже, не было детей. Хозяйка оказывала мне большое внимание, что меня очень смущало. Она считала меня маленькой и не догадывалась о том, что я уже многое понимала и о многом думала. Ее суета казалась мне неестественной, искусственной.
Мне казалось, что она отвлекала меня, чтобы я не прислушивалась к разговору папы с высоким черноволосым мужчиной, хозяином дома, ее мужем. До меня доносились отдельные фразы:
— Друг друга жрут, как пауки в банке...
— Лес рубят, щепки летят...
— Щепок больше, чем леса...
Пауки, щепки, лес...
Я не знала, что о щепках говорила уже вся страна.
После ужина хозяин встал и взял скрипку.
До этого я никогда не слышала скрипки.
Я была потрясена.
У меня началась истерика...
Ночевали мы в том доме или нет — уже не помню. Весь мир для меня был наполнен звуками, и ничего, кроме звуков, не существовало...
Зачем отец повел меня туда?
Кто был человек, игравший на скрипке?
...Летом папа работал пастухом, зимой — сторожем на угольном складе. По возрасту он мог быть пенсионером, но пенсии не получал. У него не было документов о постоянной работе на протяжении длительного времени.
...— Папа, мне нужна готовальня.
— Сколько она стоит?
Я сказала.
— Завтра получу получку, иди и купи.
В бологовском магазине, где я покупала готовальню, продавался красивый светло-коричневый кожаный портфель с двумя замками и ключиками.
Я увидела этот портфель, и у меня замерло сердце, потемнело в глазах.
— Папа, там такой портфель... Красивый, большой, кожаный, легкий, мягкий...
— Сколько он стоит?
— Сорок рублей.
Папа получал очень мало. Оплата комнаты в частном доме, хлеб, соль, капуста, хамса, кукурузная крупа, из которой варили густую и в застывшем виде крепкую, как кирпич, кашу, дрова — за все это надо было платить, может быть, это и недорого стоило, но все-таки стоило. Больше купить было нечего. У ИТР были пайки, папа не был итээровцем. Он не копил оставшиеся рубли, как бы это делала мама, а тратил их на водку. Водка стоила три пятнадцать — «маленькая», шесть тридцать — поллитра.
Запомнилось потому, что папа говорил:
— Ну что купишь на шесть тридцать или три пятнадцать? Еще пакет кукурузной крупы или банку хамсы?
Дома он не пил. Пил где-то на стороне. Домой пьяный не вваливался. Если не мог дойти до дому, то где-то ночевал. Я привыкла к этому, меня это не тревожило, я не искала отца... Да и не знала, где искать, да и не хотела позорить его и себя... Никому никогда о нем ничего не говорила, не рассказывала, как будто так глубоко врезался в мою душу его запрет: молчать о том, что делается и о чем говорится дома...
...— Вот тебе деньги, иди и купи портфель, раз он тебе нравится...
Я растерялась, не ожидая этого и даже не надеясь на такую щедрость.
Я была благодарна отцу.
Хозяйственная, экономная, рассудительная мама, будь она в это время с нами, не допустила бы такой расточительности.
Мой портфель был лучшим во всем классе, лучшим во всей семилетней школе, лучшим на всей станции.
В первый же день его облили лиловыми химическими чернилами. Я оплакала свой портфель, как можно оплакивать близкого родственника, которому с этой минуты суждено быть инвалидом.
...Залитый чернилами портфель служил мне пять лет в школе и еще после войны — в университете. Потом, когда углы у него прорвались и он настолько изменил свой цвет, что чернильные пятна стали почти незаметны, я распорола его, обнаружила изнанку кожи, похожую на настоящую замшу, и сшила себе прекрасные замшевые коричневые варежки. Студентки, мои приятельницы, думали, что это какой-то дорогой импорт. Правда, тогда говорили не «импорт», а «трофеи»...
...Чем старше я становилась, тем дальше отходила от отца. А он все больше замыкался в себе.
...Что было причиной этому, отец?
Непонимание моих увлечений — чтением, рисованием, писанием стихов?
Или бережное отношение, осторожность, нежелание вносить смуту в мою юную душу, смуту, которая могла выбить меня из колеи, по которой мне предстояло идти и идти? Ты щадил меня,
видя, с какой радостью я надевала пионерский галстук, бежала на пионерские сборы и демонстрации?
...Я не знаю.
И ты уже не можешь ответить.
...Теперь, когда я пишу эти страницы, ты уже давно далеко-далеко за пределами добра и зла, да и я уже одной ногой в ладье Харона...
Прости мне предельную откровенность. Я не предаю тебя. Я хочу разобраться в самой себе.
Всю жизнь меня учили железному слову «надо». Ты же ничему не учил меня намеренно, специально. Жил, как умел. Говорил, что думал. Молчал, когда считал это необходимым.
Теперь, когда пришло время подводить итоги...
...Наступил день, когда меня, четырнадцатилетнюю девочку, отправили к неизвестным мне родственникам в Ленинград...
Посадили в общий вагон, помахали рукой...
...Несколько лет я не видела отца.
В начале войны он окончательно вернулся к маме, но не на хутор, который был давно снесен, а в маленькую избушку, построенную с его помощью на краю деревни.
...За год до его смерти, во время моего отпуска, отец пытался рассказать мне свою жизнь. Передо мной был человек, которого я не знала. Мне показалось, что этот человек безжалостен к себе.
К сожалению, я ничего не записала.
При нем не могла этого сделать, стеснялась. А потом не сообразила, занявшись чем-то другим.
Он рассказывал подробности своей службы на Балтийском флоте, о революции 1905 года, о работе на заводе, о поездках за хлебом для рабочих завода. Всего этого не удержала моя взрослая память. И еще мне мешало ощущение, что как будто он пытался в чем-то оправдаться передо мной, как будто хотел, чтобы я поняла, почему он поступал так, а не иначе.
Может, это только казалось?
— Папа, успокойся, я ни в чем не виню тебя. Как сложилось, так сложилось. Времена теперь другие. Вся жизнь пошла по-другому. Постепенно у людей меняются взгляды на прежние дела.
Он не мог этого понять. Он был слишком стар, ему было около восьмидесяти лет. Изменения в стране не потрясли его, прошли по поверхности его сознания, уже тронутого инсультом. Образ того, с прищуренными глазами, все еще внушал если не страх, то необходимость осторожности даже в разговоре со мной, которая выросла в большом городе, далеко от него, среди людей, которых он не знал, получила высшее образование и была ему если и не чужой, то далекой, хотя от этого и не меньше любимой. Была непонятна ему и моя профессия журналиста, неконкретная, таинственная. Ничего он не мог знать обо мне из моих писем, слишком коротких, в которых я сообщала, что жива-здорова и все у меня благополучно, хотя благополучно было далеко не все...
Я пыталась рассказывать ему о моей жизни, но многое, о чем я говорила, было недоступно ему...
Я хотела что-то разбудить в его памяти и сказала:
— Ты был прав, папа, когда говорил о Павлике Морозове.
— Я его не знаю, — говорит отец.
— Но ты читал о нем в газете!
— Я стал плохо видеть и не читаю газет.
— Но это было давно, папа, когда я была совсем маленькой.
— Я такого не знаю, — говорит отец.
— Но ты был прав... Столько бед наделали подобные ему...
— Да, люди много бед наделали. Я не могу разобраться, кто из них прав, кто виноват...
— Разве ты всех прощаешь, папа?
— Я не Бог, чтобы прощать или не прощать людей.
...Через год после этого разговора его не стало.
...Той осенью я жила в Москве, начала учиться на Высших литературных курсах. Меня вызвали в деревню: скончался отец. Я приехала в Боровичи московским поездом. Ленинградским приехал муж.
Автобус ходил нерегулярно. Не довез до конечной остановки километров двенадцать. А после конечной надо было протопать еще километра три пешком...
Дни были дождливые. Дороги развезло. Пока шли пешком, муж нес мой чамодан на плече. Я же, в непригодной для этой местности, этой погоды, в неподобающих для цели, ради которой я приехала, модном пальто и белой шляпке с перышком, в легких замшевых туфельках, плелась за ним, с трудом выдергивая ноги из липкой грязи и оскальзываясь на каждом шагу.
...Гроб был закрыт, и отца, с уже изменившимся посиневшим лицом, мне не показали. Муж почти силой отстранил меня и заколотил гроб. Каждый удар молотка отзывался у меня в груди и в висках.
Я ничего не видела от слез и теряла сознание.
Мне казалось, что мы с отцом не сказали друг другу чего-то главного, основного и уже никогда не скажем.
И никогда не поймем друг друга до конца.
Я хоронила не только отца, но частицу самой себя.
В Москву я не вернулась.
— Не покидай мужа, — сказала мама. — Жизнь такая коротенькая, не успеешь оглянуться, а она уже к концу подходит... Я жалею, что мы с папой столько лет прожили отдельно.
...Никого нет — ни отца, ни матери, ни братьев...
Остались воспоминания, сны, обрывки разговоров, обиды, недосказанность, желание любви, ласки, понимания.
А где они — любовь, ласка, понимание?
Пока мы живы, кажется, что впереди много времени и все успеем... Но это только кажется.
...Все меньше остается кудели на прялке, все тяжелее веретено с накрученной на него нитью, все ближе придвигаются к нити лязгающие ножницы.
Но пока лезвия ножниц не сомкнулись и нить не перерезана, я обращаюсь к тому, кого нет:
— Скажи мне: кто я?
1989
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





