ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
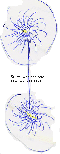


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
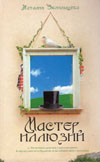
© Форш Ольга 1925
I
В Тряпунах рожать сейчас тяжело. Военное время прошло без хозяина, единым глазом надо было доспеть в лесах и полях. Рожали походя. Залеживаться в деревне никогда не любили: ночью обмоет, а уж к утру блинов напечет. Зато на втором младенчике криком кричит, знай готовь попу порося за разрешение ложесн [Ложесна — матка, утроба матери. «Разрешение ложесн отверстием царских врат» — помощь при трудных родах открытием дверей алтаря.] отверстием царских врат.
Поросенок сейчас, несомненно, ходит в червонцах и отдавать его за младенчика, который, кто же его знает, по нынешним временам, может, вырастет и мать почитать перестанет, — безусловно, малосознательно.
В Тряпунах всех сознательней Дарья Ткачева. Это она при отчуждении ценностей прочим бабам выть запрещала, так что отчуждали в порядке дня.
Вот, по настоянию этой Дарьи, был в Тряпунах бабий сход по пересмотру темных предрассудков, и отменено большинством голосов вышеупомянутое раскрытие царских врат. В рассуждение же греха, которого бабы страшились, грех целиком за всех баб Дарья взяла на себя.
Второе родовспомогательное средство как медицинское и, по мнению схода, без протеста отвечающее духу времени сход не отменил. Средство заключается в том, что в случае неправильного положения младенчика и долгой муки родильницы ей делают «встряхи»: ставят на голову и троекратно потрясают за ноги.
Подобным приемом, если баба с младенчиком не помрет, «вправятся роды», а свое беззаконно начатое появление младенчик вторично начнет по закону.
Была Дарья Ткачева сильно грамотна, так что писала даже в столицы в дни смычки рабочих с крестьянами: «Красная деревня встретит красных рабочих с товарищеским приветом».
Вот с этого напечатанного привета и началась последняя степень Дарьина торжества среди прочих баб. Им же, впрочем, обусловлено окончательное поражение этой все же малосознательной самоучки коллективным развитием ума одного товарища.
Городские граждане, которые, если они буржуазны, на дачу летом ездят, а которые из пролетариата так на какой улице зимой мерзнут, на той и летом в слякоть топчутся, — те и понятия не имеют о деревенцах.
Темные массы... безграмотные элементы...
А что, если дядя Семен «численную пифагорию» разводит единственно при помощи десяти данных ему при рождении пальцев да зарубчиков на бревне, а на весь уезд без промаха учесть процент может, притом безразлично — за взятый ли кем капитал или за сыпучие меры вроде зерна и муки? А Назар-винокур? Да в трезвом виде такой заправский маляр, что к трем евангелистам на крылья нового храма сам приставил четвертого, не домазанного скоропостижно спившимся художником.
А деревенские бабы? Да они по сорочьей сноровке еще переимчивее мужика. Долго ли Дарья в усадьбе служила? А в праздник и зонтик в руках, и турнюрами крутит [Турнюр — в модах конца XIX в. — ватная подушечка, подкладывавшаяся дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре.], и дух от нее не бабий...
А гостей только дай: кофием поит мужской пол в стакане, а женский в чашках с наперсток, как в Европах.
И на предмет смычки Дарья лицом не ударила: кто поросенка поил, кто теленочка в простоте, в деревенщине, — у Дарьи ж для случая граммофон на шкафу. К граммофону вторичная роскошь города — примус.
Однако с примусом единственная беда: много раз чинил кузнец его, и вот резолюция: иначе как от денатурата примус распаляться не хочет.
Смекнули в деревне: это шутки Дарьина мужика Саввы. С кузнецом этот Савва — первые питухи, чего-нибудь пьяного и в машинку подделали, обремизили Дарьин примус. Ведь денатурат, как «хмельное — опасное для здоровья», строжайше теперь запрещен. Без разрешения волисполкома хоть вой. Еще бы, на бутылке написано: «Яд». А под этим ядом — череп и две кости.
Только этого яда никто не пугался, а Дарьин муж Савва со своим химиком-кузнецом, что примуса на денатурат переводит, как его налижутся, сейчас перед пустой бутылкой в обнимку сядут, на череп глядят и поют:
Жил-был человек. Ён
Весели-илси. И ён
Радо-валси. А наутро человек
Во гробу лежит.
Тут кузнец вопросительно Климу: «И чего ж ты, человек, во гробу лежишь?»
И с горючей слезой оба вместе:
«Отвечает человек: ''Я весели-илси. Да я радо-валси, а поутру вот — во гробу лежу-у-у''».
II
С революции в деревне новые обычаи: как, бывало, попа к себе ждали, одна перед другой хвалились бабы, кто угостить лучше умел, так сейчас ждут в сознательных избах городского товарища. Ублаготворят, допытают на предмет продналога и с хитрецой, гляди, заручатся своим человечком в городе. Мало ль какая бывает внезапность!
А для приемов в деревне, как в городе, своя мода. И в деревне мода, пожалуй, держится круче, чем в городе. Сейчас в рассуждение костюма — полосатый шарф с кисточкой из губернского городского «Пепе» да вот примус.
Очень хорошо; однако, хоть у Дарьи Ткачевой есть то и другое, но что ты пропишешь примусу, если без денатурата он не шипит? А на денатурат строжайший декрет «во избежание опасных для здоровья случаев»...
Однако кому запрет, а у кого кум. У Дарьи Ткачевой не кто-нибудь, а нашелся вдруг в волисполкоме сам товарищ Кубиков. А у Кубикова — печать.
— Отпиши, Кубиков, мне разрешение, — просит Дарья Ткачева, — придет к нам товарищ на предмет смычки с городом, мне ему яишню обязательно надо на примусе; в случае мы на его русскою печью напрем, чай, осудит!
— Это верно, — согласился Кубиков, — для смычки хорошо посоответствовать: городским примусам — примуса деревенские. Так твой, говоришь, без денатурата ни-ни?
— Чадит да смердит.
— Ну а давно ли ты, баба, рожала? — огорошил вдруг Кубиков. Да ведь не Дарью же огорошить!
— Аль забыл, как на кресьбинах пил? Шестимесячный.
— Молоко в грудях есть?
— А куды ж ему быть?
— Гм... — сказал кум. — Для твоего частного случая много лучше, кабы молоко твое да пропало.
— Сам пропади, вередов тебе на язык! [Веред — чирий, болячка; синоним выражения: «типун тебе на язык».] Чтоб тебя...
— Эк засыпала! До конца пусти речи довести: пропасть твоему молоку прилично всего лишь на бумаге. Поняла? На предмет получения спирта!
— А с бумаги на грудях не отрыгнется?
— В два удоя доись!
— Ну пищи, как тебе надо — по декрету. Да сам уж и спирт получи — все одно возьмешь от бутыльного, мне ж идти недосуг. А в посуду перелей, чтоб без черепа. С черепом мой из-под земли выкрадет, переварит да сожрет. Да уж ты полную меру влей, этот раз я тебя чем иным отдарю; городской товарищ уж здесь, угощать мне его.
— Ладно, нашипитесь вы с примусом. Ставь сюда подпись получателя. — И Кубиков прочел Дарье Ткачевой удостоверение для получения денатурата: «Дано сие удостоверение Дарье Ткачевой, как она имеет примус, но не имеет в грудях молочного сосания. На предмет производства малютки».
III
Товарищ Петр Еропеев ехал на побывку в мелкий городишко. Про богатую невесту писала тетенька, согласную одним советским браком по причине вдовства и просыпанных кое-где рябин.
— С лица, чай, не воду пить, а прочему чему не мешает, — ответил Петр Еропеев и, удостоверившись насчет вдовьей лошади и коровы, двинулся в путь.
— Безо всякого лукавства при советском правительстве нонче люди женятся, — поучал он в вагоне, — ни я к ней, словно к каторжной тачке, ни она ко мне не прикована. Слюбимся — наше дело крепко, бамбук, а нет — на все на четыре.
На станциях Еропеев туже подтягивал ремень и безмолвно-важно ходил по перрону в своей новой шинели с нашивками. Чем дальше от города, тем веселей было ему, былому деревенцу, видать кругом свое, крестьянское...
В Тряпунах остановка в полуверсте от деревни. Семен-староста, Назар-винокур, наши отцы-мудрецы, как приметили военную сановитость Еропеева, толканули друг дружку локтем да и наперли с поклонами.
— С товарищеским приветом, товарищ дорогой! Деревня Тряпуны по причине смычки вас просит откушать.
— Товарищи, вы ошиблись, — сказал сановитый Еропеев, — я вовсе нет... я по своим делам.
— Пущай другой едет дальше, а тебя мы обознали и желательно нам именно тебя угощать, — сказал дядя Семен.
— А ты знай в газету пиши: сомкнулся, дескать, с деревнею Тряпуны. Можешь нас поименно проставить с дядей Семеном; от самого, скажи, паровика с товарищеским приветом.
— Да мне надо дальше...
— Еще вечером поезд пройдет, да еще утренний, да тут место бойкое, знай свистят. А у нас нонче досуг накормить тебя, напоить...
— Ну, разве что до вечера, — решил Еропеев и едва поспел забрать свой сундучок, как паровоз, выпуская пар, убежал в глубь лесов.
Поили мужики Еропеева у дяди Семена, поили у Назара-винокура. Мужики наперерыв наушничали на прямое начальство и друг на друга и подали прошение самому Ленину — Троцкому насчет трудности продналога. Когда же исписаны были все листы записной книжки Еропеева, когда съедены были и гусь, и кабан, мужики, забрав адреса ко всем важным товарищам и его собственный, передали побагровевшего воина бабам. Из баб — первый Дарьин черед.
IV
Поздно ночью, когда вся деревня спала, кто на лавках, кто под лавками, а хозяин Савва с кузнецом в обнимку на полу, зажав в кулаке по бутылочке с черепом, Петр Еропеев, имевши в себе еще от службы в царских войсках, как сам выражался, «алкогольный иммунитет», ни в одном глазу не пьяный, сидел важный перед Дарьей Ткачевой.
— Я вам, дорогой товарищ, сварю на примусе уж такого крюшону, такого, как у бывших помещиков на балу.
— Вы, гражданка, служили у бывших помещиков? — Еропеев не отрывал глаз от Дарьи и тяжко сопел. Дарья, крутая широкая баба, как печь, плавала от шкафа к укладке. Достала сахар, корицу, гвоздику, влила две бутылочки красного, зажгла примус.
Еропеев распалялся на Дарью, а как подступить, не оступиться, следы замести и чин-звание соблюсти, он не знал. Тяжко сопел, маслянился глазами на алую Дарьину кофту, в обтяжку набитую тугим, что осеннее яблоко, телом.
— Сдается, денатуратцем вино отдает, — повел Еропеев усами.
— Это примус мой обремизили питухи, сами пьяницы и его же туда... научили. Без денатурата не разжечь.
— Денатурат как вредно одуряющее декретом воспрещен! — сказал, не зная, что сказать, Еропеев.
— Удостоверение, дорогой товарищ, имею, полюбопытствуйте! Для производства малютки.
Из-за образов Дарья дала бумагу.
— Гм... «для производства малютки» — это точно стоит, — прочел Еропеев, и вдруг по красному самодовольному лицу пробежало лукавство. Улыбкой дернулся ус. Но тут же выражение лица изобразило устрашающий гнев.
— Этого я, гражданка Ткачева, так оставить не могу! По долгу службы и в отношении контрреволюционных элементов как препятствующих смычке, словом — обязан предать гласности на рассмотрение народного суда.
Еропеев сложил вчетверо удостоверение и сунул в карман брюк.
— Да что это вы, дорогой товарищ, тут и печать, тут по правилу.
Дарья боками и грудью на Еропеева. Жарко дышит лицо, а под алою кофтою две опары.
Прикрыл глаза Еропеев: раньше срока дернешь силок — прощай, птичка певчая! Голос еще строже, еще устрашительнее:
— Денатурат точно выдан по правилу и печать — печатью. Да спрашивается, на какой предмет выдано? На «производство малютки» причина выдачи аттестована.
— Черт тебя, леший, поймет, я и в толк не возьму...
— Дай срок — возьмешь... Как ежели представят вам обвинение на газетных столбцах, как вы приехавшим для смычки товарищем уличены в противонравственном сожительстве с неодушевленной машиной на предмет производства дитяти, — возьмешь, возьмешь в толк!
— Это с примусом? Ой, леший, — хохотала Дарья, — да как же это с им изловчиться, а?
— Гражданка, обратите внимание, я не шучу, — продолжал, полузакрыв глаза, Еропеев. — Бывшие помещики, как теперь, от экскурсии при посещении музеев, известно, любили растлевать беззащитных девушек из пролетариата при помощи подло обученной птицы — лебедя, или некоего племенного быка, или же, утопая в роскоши, по ограблении народных денег, целым дождем чистого золота червонцев. Почему бы им не изловчиться в последние дни своего господства и в то же время немалого привоза из Америки, Англии и прочих стран технических знаний, почему, спрашиваю я, им не изловчиться обучению подчиненной им малосознательной крестьянской прислуги достигать для ихней потехи того самого через примус?
— Эк наворотил! — сказала Дарья, но, убедясь, что Еропеев не шутит, с опаской поглядела на него.
Еропеев вынул исписанную мужицкими каракулями записную книжку и сделал вид, что вписал еще что-то туда.
— Зачеркни, леший! — крикнула Дарья. — Чего написал?
— Имя, фамилия, приблизительное число лет и ваше прошлое в доме бывших помещиков как смягчающее в рассуждении наказания, к которому приговорит вас народный суд.
— Ни я украла, ни я что... — всхлипнула Дарья.
— Вы оскорбили чувства общественной нравственности! Прежде по статье закона — знаете, что за это? За это ссылка в Сибирь...
Дарья с воем повалилась Еропееву в ноги.
— Не губи, вычеркни!
Еропеев жирно, как кот на блины, глядел на толстую Дарью и крутил усы.
— Ну, давай твой крюшон, ладно. Выпьем, восстановлю тебя в полных гражданских правах.
Дарья плакала. Еропеев один выпил горячего варева, вынул записную книжку, послюнил карандаш и толстой черной чертой вымарал полстраницы.
— Для верности дай спалю, — сунулась Дарья.
— Нет, это — шалишь, знаю вас, баб! — отстранил Еропеев. — Я тебя в человечьих правах восставляй, а ты, чего доброго, разнесешь, что я некой блудный. Нет, милая, оно хоть зачеркнуто, да заручка. Чуть ты пикнешь, я резиночкой освежу и предам гласности.
— Твоя воля, твоя... — сказала покорная Дарья.
— Ну, то-то же! — И, хлопнув Дарью по горячему чугунному плечу, Еропеев сказал: — Ну, веди, где у вас тут сеновал?
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





