ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

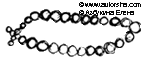

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Сейфуллина Лидия 1924
I
На сорок девятом году жизни Савелия Магару растревожил бог. Сразу, хваткой за сердце нежданной. В нехороший полночный час проснулась баба Савельева, глянула кругом по избе и охнула испуганно:
— Чтой-то ты, Савелий? В нутре схватило, што ль? А? Лик у тебя больно темен. Я и то проснулась, чисто в бок кто толкнул. Гляжу: и свет в избе не в час, и тебя на кровати нет. Чего ты? Занедужил, а? Вон тамо-ка, на божнице, вода свяченая...
Савелий глянул сурово из-под нахмуренных бровей потемневшими серыми глазами, широкой рыжей бородой повел, передохнул так, что большие, крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:
— Не мешай! Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину — мученичьего ли, али преподобинского — не знаю, но угодник мне явился... Стоит вот тут, будто у стола, и кличет сердито: «Савелий Астафьев Магара!» Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос — ничего. Голосом на земского схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал, по земному делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко: что ты, думаю, пралик тебя зашиби, как это на меня земского нанесло? А внутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал с нутра и по коже прямо пупырями дрожь.
Не столько самые слова, сколько обилье этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры, тяжелый у Магары язык. А тут вон как высказывает.
— Ах-ах, мамыньки! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи!.. Слышь-ка, а може, то не угодник, а Стрепетихи-мордовки навод. Человек ты перед богом не заслужоный, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится, пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошу. Вот: «Да воскреснет бог, и расточатся...»
Савелий цыкнул сердито:
— Не верещи поганым бабьим языком! Тише, ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело тайное пока. Тебе сказал потому, что с тобой все грехи мои вместе нажиты. Угодник, тебе говорю, богово имя поминал и приказал мне молиться с натугой, старательно. Бог в меня перстом ткнул. С того и холод в нутре. Три раза виденье было.
Старуха заахала, кофтенку накинула, платком голову прикрыла и закрестилась часто, испуганно:
— Божа матушка, троеручица! Господи, батюшка! Свят, свят!..
— Погоди не мешай! Не лезь бабьей плотью вперед, не погань мою молитву. Сичас сам молиться зачну.
Встал, тяжело согнул большое тело, упал на колени и бил поклоны до солнца восхода.
С той ночи и повредился сердцем мужик. Оно и раньше у Магары тяжелое было. Глаз редко веселый был и смеяться не умел. Гмыкал глухо в короткий веселости миг. А года в три раз накатывало: вином по долгому сроку зашибался. Во хмелю буйствовал. Крушил, ломал, бабу и детей своих жестоким боем бил. Старшей дочери в ухе слух перешиб. Так и осталась на одно ухо глухая да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки. Но отводил срок, и остальное время правильно жил. Люди уважали за крепость хозяйственную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго:
— Ты меня теперь по хозяйству не замай. Как хочешь, верти. Хочь еще копи, наживай, хочь по ветру развей, коль кишка не вытянет. А мне теперь не то указано. Молитву строгую и пост должен справлять. В грех меня не вводи с расспросами.
Дочерям, в другие села замуж отданным, дали весть. Они спешно с мужьями приехали. Баб в избу набилось — не продохнешь. Судить, рядить, ахать принялись. Савелий грозно ногой топнул, закричал сердитым зыком и ушел из избы. За селом землянку себе сложил. Зимой в ней молился, а летом — на камне под горой. Пропитанье скудное, по его приказу, семья ему носила.
В Нижней Акгыровке сперва дивились, а потом почитать Магару стали. Главное дело — и перед богом хорошо: замолит за своих-то однодеревенцев, и перед людьми лестно. Первый угодник из мордовско-русской части деревни Акгыровской. В округе люди богом зашибались и до Магары. Но больше сектанты да кержаки, до веры лютые. На горе, в той же Акгыровке. А Нижняя Акгыровка насчет крестин, венчанья, похорон, во грехах исповеди исполняла, что требовалось, но с прохладцей. Без ретивости. Курайгинского прихода были, за пятнадцать верст село. И рекой без моста отделено. Свою церковь не поставили, а в кержацкую моленную на гору не пойдешь. Когда река мешала, когда по крестьянскому делу недосуг. В церковь не попадали подолгу. Курайгинский поп с амвона в строгом проповедном слове баб акгыровских на весь приход ославил: молитву очистительную после родов не на сороковой день, как по уставу положено, а ко вторым родинам приезжают брать.
Так и ходила Нижняя Акгыровка по богову делу в последнем счету. А тут вдруг сразу: старатель перед богом свой. И в соседние волости далеко о Магаре слух прошел. С каждым годом в молитвенном деле он все больше укреплялся. На третьем году молитвы, когда на камне от коленок Савельевых даже отметины углубленьем обозначились, стал ему бог в виденьях во всяких являться. Предсказывать Магара начал. Один раз в село в праздник пришел, на улице старикам объявил:
— Небо трясется! Вам не видать, а мне открыто. Народу больно много на земле развелось: дышат и трясут. Виденье мне было: колготит народ, на подводах на многих куды-то едет, пехом друг за дружкой тянет, с бабами, с ребятами, с барахлишком со своим. А царь белый, русский, нашинский, сидит на престоле, ногами об пол сердито стучит. Не иначе, война будет, чтоб отбавить народ.
И вот через два на третье лето предсказанье Магары вспомнили акгыровцы.
Отыграла заря багровым огнем, указав тем цветом ветер на завтрашний день. Но темень ночная в тихости расползлась над землей. Плыла прохлада от реки. Тянула с собой на деревню дымок костров приречных жителей, на воле сготовивших летний свой ужин. Пахло во дворах парным молоком, свежим сеном и дегтем от колес. Народ с вечерней разминкой готовился лечь на покой. Замирали в постепенных переходах от шумливого дня к затиханью в ночи звуки во дворах и избах. Вдруг, вздымая по улице тяжелую на подъем вечернюю пыль и яростный собачий лай, проскакал на маленькой запаренной лошаденке длинноногий мужик. На скаку он махал палкой с красным лоскутком. Старостиха со двора увидала. За мужем в избу кинулась:
— Айда скорей! С красным лоскутом верховой из волости. Стало, за рекрутами. Господи, батюшка, что это нежданно-негаданно...
Всю ночь беспокоился народ и в низине, и на горе у кержаков. К старостиной избе, в Нижней Акгыровке, фонарей нанесли. Колыханье слабых огней в густой июльской темноте было беспомощным и тревожным. Мигали в окнах лампы и светцы, непривычные в летние ночи, в избах светил жар неурочно затопленных бабами печей. По деревне ширился, нарастая, разноголосый шум. Визгливый бабий крик, терпкое причитанье старух, заливистый плач перепуганных суматохой детей, глухие возгласы стариков и крепкая брань молодых мужиков.
Кержаки на горе к конторе, где жил чернявый инженер с постройки железной дороги, сбились. У него по проволоке разговор через трубку на стене был. Разъяснял:
— Германия получит достойное возмездие! Очень скоро получит!
А в нижней части расспросить было некого. Школа с заколоченными ставнями стояла, и учитель на лето уехал. Староста, сдабривая крепким перцем ругательных слов неохотливую медлительную возню свою, шарил в сундуке. Служебную бляху искал.
Старостиха тонким жалобным голосом, со всхлипом, нарочного кривоглазого расспрашивала:
— А с кем война-то? Далеко ль угонют?
Кривоглазый, почесывая запотевшую спину, отвечал неопределенно:
— Ровно с Ерманией, а хорошень не разобрал. Некогда было! Старшина сам меня с крыльца столкнул, чтоб без роздыху гнал. Видишь, дело-то какое повернулось: чтоб завтра к полдням в город призывники нашинские. А до городу двести верст. Не то к полдням, а к ночи не поспеть. Хоть приказ и на подставных подводах везти. Ну, наши мужицки каки подводы! Да еще в летню пору, в рабочую!
— Где поспеть! В волость-то тольки-тольки могут к завтрему, к полдню.
— Ну, так и норовят. Но чтоб в волость обязательно!
— И сроду не видано, не слыхано — без проводин перед царской службой, без разгулки.
И завыла горьким голосом:
— Сыночек ты мой, Митенька! Роженый, хоженый, да куды тебя забирают в ночну пору чижолую? Да на кого ж ты спокинешь супругу молоду-у свою и наследничка своего — дитя малое? Сестер, братьев, отца-батюшку и мене, родительницу твою горьку-ую...
Страстное короткое рыданье прервало старухин, тягучий, по обычаю, плач. Настасья билась головой в грудь Митрия, вцепившись пальцами в его опущенные плечи. Митрий смешно поводил шеей, будто теснил воротник. Старался оторвать бабьи руки и нарочито сердитым голосом унимал:
— Отцепись! Завы-ыли! Чего раньше смерти отпеваете? Ну-к, собирай на стол. Печь-то выстыват. Айдате пеките, чего там затеяли!
Староста с натугой поднялся от сундука, поглядел на сына замутневшими глазами и буркнул:
— Буде, бабы! Айда, давай водочки. Там сколь-то было. На царску службу с песнями, с гульбой провожать, а у нас один вой.
Но ни песен, ни гульбы в эти проводины не было. Уходили без удалости, без храбрящего хмеля царской водочки. Кабака казенного в селе нет, а у шинкарок на всю деревню мал запас оказался. Не дал буйного в напасти веселья. Из печек, не в час затопленных, тож не сладки подорожники вышли. Бабы в горькой слезе стряпали, плохо доглядывали.
Только солнце встало, подводы со дворов двинулись. Народ на улицу высыпал. Появился в деревне Магара. В длинной домотканой рубахе до колен, в старых грязных портах. Встряхивал сердито блеклой рыжиной волос с мутной сединкой, шел с подводами сбоку. Далеко по дороге надрывный бабий вой стоял. Старик Федот батожком по дороге стучал, шел рядом с Магарой. Говорил ближним на подводах:
— Поди ненадолго война! Ничего не слыхать было. Про стары войны загодя слух приходил. Солдатов с эдакой спешкой не сбирали. Это так, поди для нутреннего усмирения под царя. Не войте, бабы, как я смекаю, скоро мужики воротятся.
А Магара зычным голосом, далеко слышно по подводам, объявил:
— Надолго война! Народу хрестьянского много в русском царстве развелось, земли не хватат! Пока весь лишок царь не переведет, война не кончится.
II
И опять по слову по Магаринову вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. В своих хозяйствах — бабы, старики, из молодых только телом неправильные да чужаки нанятые. Которые из богатых откупались было, но позабирали и их. Хоть не на самую войну, а все от дому.
Повитухе Мокеихе акгыровские бабы позавидовали. Вернулся к ней сын по весне. Невысок, узкоплеч, щеки в обтяжку, перхает часто, как давится. А все свой мужик, для хозяйства как-никак старается. И не то, что без руки, без ноги. Хиловат, а без видимого повреждения. Низенькая, пухлая бабка Фекла, соседка Мокеихина, часто, вытирая рукой ласковые слюнявые губы, говорила ей слащаво через плетень:
— И жить тебе, бабка, только бога благодарить. Сын пришел целехонек, и слуху нет, что заберут. А уж всех позабирали, всех! Старики остались да совсем трухлявые. Твой-то еще хорошо пыжится. И кралю вон каку без венца заполучил. Ничего, значит, еще сок в мужике живет! А то из наших деревенских молодого-то и не увидишь. Все седые да недоросточки. Когда рази эти казенные жеребцы, анжинеры, дороги постройщики, пройдут аль пленные, австрийцы эти хилявые. А нашинских соколиков нет. Не-ет! В других деревнях хучь подранки крепкие, а у нас тоже наперечет. Васька-то, сказывают, на дорогу нанялся? Ай так, на раз взялси за дело?
Мокеиха, снимая старенькие порты с плетня, неохотно ответила:
— На раз. С гумагой какой-то в участок пошел.
В избу поторопилась уйти. Знала и боялась, что на Вирку-молодуху соседка разговор переведет. А уж неохота покор-то людской слушать.
Забурлила в степных логах вода. Не берет конь дорогу. Но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки в участок за восемь верст понес. Десятку инженер посулил. Деньги у господ не лежат тишком в кармане, легко шевелятся. Не то что мужичьи несворотные. Очень просто, к десятке еще и прибавит чернявый этот барин. Как начали дорогу строить, вся округа от них пользуется. Но что-то больно долго Васьки домой нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное. Сам на Васькин двор пришел. Мокеиха в окно увидела, из избы навстречу выбежала. Поклонилась искательно в пояс и певучим голосом спросила:
— Поди из-за моего сына потревожились? Ах ты, господи батюшка! Забота вам, видать... По нашей по улице в этаку грязищу ходить и мужику-то неохота. Вот грех-то: нету еще его, нет! Уж не гневайтесь!
Инженер хмыкнул и форменную фуражку досадливо на голове подвигал. Старуха еще ласковей успокаивать принялась:
— Он скоро... Вот-вот вывернется! Он у меня шустрый, зря валандаться не станет. Мигом обернет. Ноженьки-то молодые, резвые.
Инженер прикусил черный ус, помедлил и сердито сказал.
— Не скажу, чтоб очень резвые. Или утром долго проспал? Если б вышел на рассвете, как обещал, так уж вернулся бы.
— И ни-ни, ни-нишеньки, никак не проспал. Не сумлевайтесь, право слово, не проспал. Ране петухов вышел. Как можно проспать, коли хорошему человеку посулился?
И уже искренней, голосом посуше, погрубей добавила:
— Сам поди обернуться торопится: издрог, измок и не емши.
Василий не только ответ от начальника участка, еще табаку должен принести. Инженеру очень хотелось курить, а ни табаку, ни папирос нет. В этой дыре и купить нельзя. Поэтому он злее, чем хотел, старуху оборвал:
— Как придет, немедленно пусть ко мне.
И осекся. Женщина во двор вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от старанья зависит. А эта и в узких для нее, линялых обносках городских сановита. Безразличный на них со старухой взгляд кинула. У инженера этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой глаз странно в сердце отдался. Точно давно его глаза встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с удивительной щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой неяркой краски, губы такие же неяркие, будто нецелованные, строгость четких бровей и тускловатую рыжинку коричневых гладких волос. Ноги со двора не пошли. Замялся. Нерешительно, почти смущенно, сказал:
— Я, пожалуй, у вас подожду. Вероятно, он скоро придет.
Старуха неохотно отозвалась:
— А как желаете! Дело-то уж к ночи, должон прийти.
Из избы опять та женщина вышла. Полное ведро помоев вынесла. Сказала недружелюбно:
— Посторонись, барин, оболью.
Старуха спохватилась:
— Ну, дак в избу не то пожалуйте. Не красно у нас, да чего же на дворе-то стоять? Айдате заходите.
Чувствовал, что лучше бы уйти, но безвольно за старухой в жилище вошел. Негромко и с запинкой спросил:
— А это что же... дочь ваша, что ль?
Старуха поджала губы. Сказала сухо:
— Сынова баба...
И, не сдержав злобной горечи, добавила:
— Невенчанная. Так держим. Антипа-кержака слыхали? Его племянница. Из такого-то дому да на нашу хилость позарилась. К Ваське сбежала. В городу без закону три года валандались. Нынче только недели две, как сюда обернулись. Срамоту-то свою к матери в дом принесли. Теперь, может, и обзаконятся, а сейчас от людей нехорошо. Отроду не слыхивала, чтобы в семье в нашей такой срам разводился. Побаски тут всякие про нее, про Вирку-то. Я к тому, что поди и вы слыхали? Добрая-то слава лежит, а дурная-то не то бежит, лётом летит.
И спохватилась:
— Айдате проходите, вот тут садитесь.
Фартуком смахнула что-то со скамейки перед столом в переднем углу. Шершавой рукой по деревянному чистому столу провела. Унылыми глазами всю тесную низенькую избенку обвела. Прибрана, а все для господина неподходяще. Вздохнула и отошла к сторонке. Инженер сел. Ему хотелось еще расспросить, но стеснялся. Мусолил вялые фразы о дружной весне, расспрашивал неумело и непонятно о хозяйстве. В глаза обидно лезла деревянная, с засаленным лоскутным одеялом кровать. Неужели та, строгобровая, на ней спит?.. И не одна... Опять встревожился, когда вошла. Почему-то счел необходимым пояснить:
— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю?
Криво, неласково усмехнулась:
— Скамейку не просидите поди. А нам какая помеха?
Сняла с полки грубый шерстяной чулок, села спокойно у окна и принялась вязать. Старуха работать при важном госте не решалась. Сидела, сложив на коленях стесненные праздностью руки. Инженер барабанил пальцами по столу. Ужасно неудобно и стеснительно это молчанье. Кашлянул и неуверенно спросил молодую:
— Вы не здешняя, кажется? Я не знаю вашего имени...
Она посмотрела искоса и засмеялась. От блеска белых зубов, от ясности открытой улыбки юней и проще лицо стало. А у инженера на лице отсветом глуповато-радостное восхищенье.
— По-кержацки зовут: Виринея. У нас свои святцы. Чтой-то вы, барин, до меня больно с антиресом? Ты с мамонькой поговори. Она жила дольше, и разговору у ей больше. А лучше шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в нашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий, что надо, мы к вам доставим.
И с новой, чуть лукавой усмешкой добавила:
— Я принесу.
— Да, да, пожалуйста. Я за беспокойство заплачу. А то, действительно, долго, пожалуй, ждать. Я далеко живу. Там, на горе. Но вы уж, пожалуйста, потрудитесь. Ваш муж, вероятно, вернется усталый, ну так вы или кто... Пожалуйста, уж принесите или пришлите.
Старался говорить просто, голосом строгим, но глаз волненье и обиду выражали. Слово «муж» с запинкой выговорил. Виринея учуяла. Бросила косой взгляд на старуху потом сухо инженеру сказала:
— Кто ни на есть, а пакет доставим. Не на даровщинку, знамо, заплатите. Эй, погодите-ка!
В окно Василия увидела.
— Притащился! Чуть ноженьки волокет. Сейчас отдадим, что принес.
К двери пошла. На ходу оглянулась и сказала строго:
— За эдакую ходьбу и без доставки прибавить надо. Другой и за четвертную бы не пошел. Шутка ли, по склизкому берегу да по студеной воде...
Инженер торопливо бумажник вынул, но Вирка ушла из избы. Старухе сунул пятнадцать рублей. Та назад даже подалась. До испуга обрадовалась. Залепетала льстиво и тоненьким голосом:
— Уж мы вам вдругорядь когда расстараемся. Заслужим уж... Покорно благодарим. Когда надо, только кликните.
Стояла и кланялась. А сердце к сыну тянуло. Уходил бы барин скорей. Сын, посиневший, издроглый, вошел. И сразу на припечку опустился. Долго в нудном кашле корчился. Меж кашлем невнятно выговорил:
— За-адрог. Ви-ирка, отдай барину... Вот пакет, а вот еще... Подмочил немного, в воду осту-упился.
Затомился новым приступом кашля. С натугой мокроту в кулак выбил. Инженер на него не смотрел. Только, когда вошел, худобу и тусклость его с бессознательным успокоеньем отметил. Когда посылал, и не поглядел, что за человек. А сейчас увидел. Мокрый сверток от Виринеи с улыбкой принял:
— Ну, ничего. Что ж, трудно по такой дороге сберечь. Тут табак, его просушить можно, а гильзы у меня еще в запасе есть. Ну, письмо тоже разберем. Немного смазалось написанное, но, к счастью, немного. Спасибо, спасибо!
Виринея бровью повела:
— Это за табаком в такую дорогу человека гоняли?
Покачала головой:
— Ну, и нетерплячее у господ нутро! Чего захочет, через нельзя достань да подай. А то замается, ровно от заправдишной нужды. Вот как из-за этого табаку... Деньги-то он заплатил? Кому отдал?
Старуха сердито крикнула:
— Дадены деньги, дадены. Вот у меня. А ты бы спасибо сказала за господскую за доброту.
— Страсть добёр! Васька-то опять пластом лежать будет: застудился.
Инженер рассердился:
— Ну, это уж не моя вина. Всего хорошего. Спасибо.
Быстро из избы вышел. Подумал про Виринею:
«Видавшая виды... Корыстная...»
Но ночью приснилась. Таким жаром проняла, что сон прошел. Вышел на крыльцо и до зари слушал тревожный вешний гул. Был деловит и строг к себе. Гимнастику делал неустанно, жизнь размеренную вел. С женщинами мало возился. По необходимости. В городе связь разумная и чистоплотная была. Здесь, здоровье оберегая, охотливых солдаток опасался. Отпуска ждал. Страстность же делу отдавал. Честолюбие считал возбудителем благородным и хорошо карьеру начал. Только вторая постройка, а он начальник дистанции. Теперь скоро достроят эту дорогу. Война отняла рабочие руки и средства. Но теперь уж к концу. Но торопиться теперь в город нечего. Срочная постройка освобождает от войны. Любовное безрассудство за нечистоплотную распущенность почитал. И раньше случались внезапные вспышки при виде женщин желанного облика. Но глушил их быстро. Не было нынешней хватки тоски. В эту уже тридцать первую весну свою, еще до встречи с Виринеей, мечту о женщине своей и неиспытанно желанной узнал. Последнее письмо к той, что в большом городе, даже необычно чувствительным вышло. Одиночество и обстановка действовали.
В охвате впервые тревожимых взрывами холмов лежала незаезженная, мощно плодородная степь. Изначально полным томленьем дышала веснами ожидавшая зачатья земля. И скот и люди — все живое жило здесь в мудрой верности исконному закону бытия: родиться и жить, чтобы родить. Дать плод земле и роду своему. Оттого в молодом и здоровом не по хилому неизбежному блуду городскому затомилась кровь. Встревожилась властным желаньем целостной, в одно соединившей душу и тело, страсти. Той, что творит жизнь. Чутьем, от зверя в человеке сохраненным, учуял томленье по такой страсти и у Виринеи. Хоть не думал об этом словами и не знал, что чует. Просто: скорей надо видеть ее, надо дышать близко около нее. Сорвался с крыльца и пошел. Долго кружил около избы Виринеиной. Был уже поздний предрассветный час. И даже парнишки молодые, рано в войну гулять начавшие, ушли с улицы, скрылись. Только лай собачий тревожил глухой этот час. Белесый, холодный рассвет будничной трезвостью хмелевое ночное прогнал. Быстро к себе в дом возвращался. А ночью немного опоздал. Увидал бы у плетня Виринею. Она с вечера медлительно укладывалась. Долго поправляла изголовье, вставала, всматривалась в окна, темнотой весенней ночи завешанные, по избе ходила, точно металась.
Старуха на печке злобно охнула. Глухо заворчала:
— Чего ты по избе крутишься? На грешную душу и сну нет! Васькин сон тревожишь. Отмахай-ка поди по вешним-то по логам. Да и об моих об старых костях другая бы совестливая подумала. Покою хочут! А тут только глаз заведу, стук-стук, хлоп-хлоп! Уж как уродилась шалая, дак во всем не по-людски. Аль на гулянку, на улицу, тянешься? Ну, и уходи. Известно: венцом не покрытая, всем охочим молодцам открытая.
Виринея негромко ответила:
— Не буркоти, баушка! Проберешь до нутра, не возрадуешься. Не то на гулянку — совсем убегу.
— Ах, застращала! Ровно сватами выхоженная, сношенька желанная. Сама, чисто сучка, под ворота подбегала. Сперва, может, по другим подворотням натрепалась...
Виринея смолчала. Тишком затаилась на кровати. Но старуха думами распалилась. Кержачка эта непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла. Один грех и обиды. Антип и посейчас не забыл, как ему ворота дегтем за племянницу вымазали. Вредил Ваське и заработок от него отшибал. Васька и столяр, и маляр, и печник, да незадачливый. Один сын из всех роженых у бога отмолен. Троих чуть не в одночасье горловой болью себе убил. Четвертого свинье дозволил слопать, когда мать на жаркой работе замедлила. А вот этого от цепучей от смерти отходила, от боговой от лютости отвела. Оттого в сердце материном, как веред, живет. Никому, и себе самой, не дозволяла тронуть небережно. Что крестьянством своим природным не занялся, в город, как вырос, ушел, — простила ему без жалобы. Что в городе, кроме щиблет городских, жилетки да цепочки от часов позолоченной, ничего не нажил, — не похаяла. Одна в хлипкой избенке бедовала до первого его прихода из города. Радостью, что жив моленый, хоженый, глаза свои завесила. Не корила его хилым обличьем. На слабосильный заработок не пеняла. Об его куске сама в повитухах, да для покойников чужих умелым провожаньем, да заговором зубной боли старалась. Жили, пропитанье находили. И слава тебе, господи, владыко милостивый! А вот Вирка к парню припаялась, не стало часу для сердца легкого. В грех незамолимый Вирка старуху ввела. Сразу-то не сказала, что без божьего закону три года с Васильем путаются. Иконой, как честную, венцом покрытую, на радости от прихода сына благословила. Теперь обида сердце свербит. Кума по всей деревне рассказала:
— Мокеиха-то, повитуха, сынову... иконой сустрела. Смеху-то над ей! Не откстить теперь!
Да уж в такой срамоте хоть бы тихая, покорливая была, а то никак никому не сдаст. Ваську-то она извела. От эдакой от лихости двужильный изведется. И бога гневит, на иху семью гнев его притягивает. Лба сроду не перекрестит. Старуха уж пеняла и стращала. А она с усмешкой, будто про веселое дело:
— У вас бог православный, креста моего староверского не примет.
Прислушалась к трудному и во сне дыханию сына, представила себе рядом лежащую здоровую Виринею, — ненависть варом сердце обдала. Неправильная баба! Сразу видно, что гулёна. Здорова, а спокойной полноты бабьей, расплывчатой нет. На безмужнюю похожа подтянутым телом и несмякшим лицом.
Завозилась сильней старуха. Скрипучим от злобы голосом снова завела:
— Поганому-то брюху и плода бог не дает. Четвертый год с Васькой... Допрежь с кем сколь, не знаю, а с этим четвертый год, и дите не родила, и посейчас порожняя.
Виринея прыжком с кровати. Васька завозился, застонал:
— Куда ты, Вирка? Что тебя спокой не берет! Спи!
В кашле скрючился.
А она неожиданно звонко для обычно затаенного некрикливого голоса своего вскрикнула:
— Помолчи, старая! Уж лучше не носить детей, чем такого, как твой, выродить! Тошно мне маяться с Васькой-то твоим! Дых из роту из его нюхать смрадный, да как руками склизкими ночью лапает — терпеть... Днем вспомню, кусок глотать неохота.
Васька кашлем будто подавился. Простонал:
— Ви-ирка!
И смолк. Виринея с большой тоской и страстью, быстро нанизывая слова, говорила:
— Ты, баушка, несладкое бабье-то пойло уж дохлебываешь. Знаешь: короче куриного носа счет бабьим радостям. А я вот молодая, а тоже это узнала. С того и не на всякую обиду твою отвечаю. Жалею. А ты меня не пожалела, проняла! Дак я тебе скажу: а ты за какой грех эдакого гнилого родила? Я для глазу сладкая и телом крепкая, а четвертый год хожу пустая, чисто порченая! Другие-то и дурные есть, и ледащие, а отросток от тела от своего дают! А я с опостылым маюсь не для веселья, а для роду веточки! Доктор в городу сказывал: и чахотные родют детей. Про Ваську же так: не то чахотный, а и по мужичьему делу схилел. Не будет уж, говорит, у вас с им роду. У меня, бабка, сердце на слезу не охотное, а тут я заплакала. Что ж то, что в нужде, что ж то, что по счету кусок? Я бы на дите добыла! Жилы вытянула бы, а добыла бы. Другие бабы в городу на пустое брюхо с завидкой, а я, как мужичка коренная, знаю: и собака щенка с радостью лижет, обихаживает. А я одним-одна. Кручу, верчу, спину гну для гнилого, для немилого надсаживаюсь. Чем взял? Ну, чем похвастаешь в сыне-то в твоем! На работу, что ль, удал? Э-эх! Так дышит, для копоти!
Оборвала, словно словами задохнулась. Васька захрипел:
— Будет, будет... Скажи тишком. Сколько раз попреки твои слушал, еще послушаю... Не вереди Виркино сердце. Она и то с тобой покорная. И сейчас не со зла она... Вирка-а, ложись! Спи! Не со мной, ну, на лавку ляг! Все переговорено, перетерпи!
Кроткий, молящий голос Васькин хуже ножа острого для матери. Он еще перед эдакой перед охальницей пригибается! В смешной и жалкой торопливости с печки полезла. Слезая, кричала:
— Сама... Сама ведь к Ваське ночью прибегла! А кто велел тебе? Прибегла, змеей вползла, а теперь мужика порочишь! Чего же глядела раньше, беспутная? Да я тебе глаза твои бесстыжие выцарапаю, коль ты слово такое еще скажешь! Вре-ешь! Вре-ешь! За беспутство твое, за грех за твой бог дитю в утробе быть не дозволяет.
Подступила старая, в беспомощном гневе трясла головой с седыми, жидкими, растрепавшимися без повойника волосами, вытягивала руки с костлявыми пальцами. Лица старухиного Виринея не видела, но руку ее поймала. Негрубо в сторону отвела, хотела даже тихим словом успокоить. Но Васька с кровати заругался на старуху:
— Зачем ты в наше дело путаешься? Чего тебе надо? Отжила свое и спи на печке! Чего промеж мужа с женой вредишь?.. Уходи сейчас! Не смей до бабы до моей касаться! Пальцем тронуть Вирку не дозволю!
Со злостью, вновь вскипевшей, Вирка крикнула сильно и зло:
— Молчи, гнилой!.. «Пальцем тронуть не дозволю!» Самого-то пальцем покрепче двинь, дак и дух вон! Опостылел ты мне. Будет! Кончилось терпенье мое. Как сама, по своей по воле, прибегла, дак крепко слово свое блюла: три года не уходила. Тоже... с заступой со своей. Лежи и дохни! Никому не нужен. Даже на цареву войну и то не годен!
— Виринея!
— Што Виринея? Двадцатый год Виринея! Упомнила кличку-то свою. Сама завязалась, поп не крутил, богу не кадил, за меня не вымаливал, штоб по чести с мужиком с одним себя блюла! А я блюла! От пригожих да от здоровых отмахивалась. Все из-за слова из-за крепкого из-за своего! Сама в жены навязалась, с того и жила как жена. Теперь отбатрачила! Будет! Кончилось терпенье мое! Догнивай! А я здоровая — в могилу с собой все одно не утянешь. Не хочу! Пускай мать свое роженое выхаживает. А мне уж больше неохота. Часу веселого нету для молодости для моей. Уйду!
Хлопнула дверью, во двор выбежала. У Васьки сразу силы явились. Быстро за ней.
— Вира... Виринеюшка!
Долго хрипел, упрашивал. Дрожал всем телом согнутым, уж меткой смерти помеченным. Зубами скрипнула, горестно всплеснула руками:
— И чего ты вяжешься? Жаден до живого человека! О смертном часе думать бы, а ты обо мне. Да иди, иди уж в избу, хиляк! Иду и я. Ну-у?!
Вернулась в избу. На лавке у стола было улеглась. Старуха на печи по-детски всхлипывала. Скоро стихла. Может, уснула. Виринея поднялась. Сказала Василью раздельна и строго:
— Не ходи за мной, не убегу. Сердце давит, на дворе постою, вольным духом подышу, вернусь. Слышишь? А коли за мной выйдешь, убегу со двора. Вот тебе слово мое — убегу! Только ты меня и видал!
Ушла. Васька долго маялся. Вставал, в сени выходил. Дверь тихонько, как по воровскому делу, в чужой будто избе, с опаской открывал. Слушал, притишив дыханье, но во двор выйти не решался. Вирка не по-бабьи на слово крепка. Пригрозила — так сделает. Но горячая знобь связала Васькино тело. Неверными и тягостными стали движенья. Лег на кровать. Натянул со стоном отцов старый тулуп, укрылся им. Задышал трудно и часто. Про явь, про Виринею забыл. В бредовых, мучительно быстросменных виденьях заметался.
Виринея во дворе у плетня стояла. Ветер, веселый и мокрый, с полей налетел. Суматошливый гул помолодевшей в буйстве реки и бурливых вешних вод в степных логах слышней стал. Небо темным-темное, будто от того гула притаилось. Улица тоже темна и тиха. Во дворах глухая возня скота и непонятных, ночных странных звуков. Отыграла гармошка хромого Федьки-гармониста. Накричались в песнях девки. Смолк тяжелый, хлюпкий по грязи топот молодых парней, еще на войну не взятых. Отбуянило молодое на улице с вечера. Теперь, в час потайной и сладкий, ласковые пары в темноте тихой запрятались. Празднуют легкий час свой в несворотливых, день на день, как близнец, схожих натугой над землей, над хозяйством приглушенных днях.
А Вирка свой легкий час на обман отдала. Ни за семью, ни за хмель радостный. Не было той радости с Васькой! Ошибка вышла. Разбередила старуха. Часу больше терпеть неохота! Утром же прости-прощай, матушка чужая, неласковая, постылый хиляк, изба невеселая. Ночью прибежала, а уйдет открыто. Белым днем. В город надо податься, а то на железную дорогу — на заработки. Отбилась от деревенского, в правильные бабы не попала, — на другое, значит, поворот вышел. Гулёной безгнездовой. Что ж! Хоть на вольной воле! Чернявый этот лапал сегодня глазами. Может, и без гульбы с ним на работу поставит. Ладно, будет. Только бы Васька еще нынче не вязался. А то и до утра не вытерпеть.
Повела строгими бровями, губы твердо сжала — и в избу пошла. Разбила Ваську лихоманка, не учуял, что пришла.
III
Утром Васька с постели не встал. С тусклым лицом и пересмякшими губами пластом лежал. Не то спал, часто открывая глаза, не то так, по-тихому маялся. Может, отходить собрался? Виринея глянула в серое лицо его в липком поту, на руки распластанные. Подумала:
«Нет, еще не пришел час. Не томится, не обирается. От скрипоты отдыхает. Вста-анет еще канитель тянуть!»
Избу напоследок прибирать старательно стала. Старуха только искоса взглядывала. Не ругалась, не разговаривала. Потом над сыном постояла. Охнула тоскливо и крещенской водой его сбрызгивать начала. Выкликала бога и святых глухим шепотом:
— Заступница усердная, матерь божья Казанская! Микола милостивый, угодничек божий! Василий хивейский, андел-хранитель! Пантелемон-целитель! Господи владыко!..
Не выговаривала, чего ей надо, о чем молит, чем мается. Богу нужны не разговорные слова, а непонятные, строгие. У ней их не было. Знала только каждодневные, к богу недоходчивые. Оттого в бессилье косноязычья своего перекличку скорбную и безнадежную бормотала. А голова смешно тряслась, и спина натруженная совсем колесом от горя сгибалась. Виринея поглядела, передернула губами, как от боли, и сердито сказала:
— Бог, бог... Давно поди он сдох. Сколь лет его просишь, корежишься. Отдохнула бы!
И, хлопнув дверью, из избы ушла.
Старуха охнула, пугливо на образ темный глянула. Ноги задрожали, до лавки чуть добралась. Накличет беду, окаянная.
— Господи батюшка, не посчитай то слово! Заступница матушка!
А Виринея простоволосая, как из избы выбежала, шибко по улице шла. Почти бежала от двора постылого. Лицо было темное, и думы злые в голове ходили. Старуха еще одну обиду распалила. К богу старый и крепкий укор. Отец по богу маялся. По свету ходил, праведной земли искал. Всю силу свою человечью для бога размотал. В переходах, переездах по разным дорогам и по бездорожью места богова искал. Детей под чужую, под жесткую руку отдал. А бог за это ему трудную кончину в гиблом месте, в чужой сибирской стороне послал. Мать скорбью мужниной тоже зашиблась. По родне за детей в тяжелой работе жилилась, а часы на долгую надрывную молитву находила. От тех молитв, от постов, от поклонов до часу стаяла. А Вирка зато с той же страстностью, с какой родившие по богу маялись, против бога взлютовала. И у дяди с того, главное, ее жизнь не сдалась. Работу ворочать могла. В теле жила крепкая, только сердце дурное, суматошное. К чужим мыслям неподатлива. Дышала сердито. Ничего кругом не видела. В гневе, в спешке чуть мимо избы Анисьиной не пробежала. Эта веселая солдатка всегда с Виркой ласкова. Может, с того, что и ее другие бабы, степенные, как Вирку, глазами колючими у колодца встречают. И вслед долго глядят, губы поджав. Слух по деревне идет, что спуталась, как мужа в солдаты забрали. А она на те разговоры только смехом озорным отвечает. Веселая да бесстыжая. Но Вирке смех ее частый и легкий по душе. Надоест ведь канючку одну слушать! О ней нынче и вспомнила. Поди пустит под свою крышу хоть на два дня, а там — видно будет.
В избе Анисья была. Закваску для пьяного квасу ладила. Не по-бабьи, тишкох сердитым или с воркотней, возилась. А будто девка, заботой не замаянная. С песней на голос высокий:
Одно-о на прово-оды ска-азала:
И-ых, пра-аводила со двора-а!..
Виринея усмехнулась.
— Ну, и баба развеселая! С самого утра с песнями. Дело, видать, у тебя легкое. Здравствуй-ка.
— Здравствуй, бабочка. Вот негаданно припожаловала. Сколь раз звала — не шла. Я уж ждать перестала. Мое дело вольное, солдаткино. Детей накормила, для порядку стукнула и на улицу спровадила. Чего мне песни не играть? За мужа откупное начальство платит, свекра с свекровушкой господь прибрал, чтоб не турчали, сноху молоду не мытарили. На дворе чужак нанятой, сударик пленный, старается. А я вот квасок веселый завариваю. Чего не петь?
Смеялась небольшими блестящими глазами. Румяная, невысокая, крепкая, телом налитая, ловко и весело поворачивалась. Вирка еще усмехнулась. Ясней и шире.
— Я к тебе по нужде. Дозволь у тебя дни два-три пожить. Ушла я от Васьки-то.
— Ну-у! Не сдюжила? Я и то дивовалась на тебя. Что ж, поживи сколь-нибудь. Отработаешь по двору да по дому. А харчей поди на поденной добьешься.
— На железную дорогу, сказывают, баб берут.
— А, ну да. Около постройщиков этих тоже можно... Совсем ушла аль еще раздумаешь?
— Совсем.
Анисья тряхнула головой, пестрым платочком повязанной.
— В нонешни года развольничались бабы! Вот хоть про себя скажу. И муж желанный у меня, не то чтобы с отвратом я к нему аль об ем не думала. Провожала, горячей слезой плакала, а гляди — гуляю без его. Придет — убьет, может. И за дело, знаю. А все не хочу молодых годков своих терять. Прежни-то бабы, сказывают, по десятку лет без греху мужьев дожидались. А мы на это дело слабые. И про тебя я думала, хоть без венцу, а правильная. Ну-к что ж! Видно, такие шелапутные зародились на нонешний век бабы. Про-оживем, покуль солнышко на нас светит. Ну-к подоткнись да вымой мне вот эти горшки. А я за семенами к мордовке схожу. У ей всхожие, кабы не разобрали.
И ушла из избы.
Но наниматься на постройку Виринея скоро не собралась. В соседней с Анисьей избе хозяйка живот сорвала. Хозяйство самосильное, а работника в дом от греха не брала. Со свекром да с ребятами управлялась. Тяжелую кладь подняла — и замаялась. Свекровь, уже с год ослепшая, на другое же утро к Анисье пришла. Помолилась в угол и сказала:
— Здравствуйте-ка. Здесь, сказывают, кержачиха-то? Васьки Мокеихина полюбовница. Здесь, што ли?
Анисья звонко откликнулась:
— Здесь, здесь, баушка. Ты што, сватать, што ль, за того Ваську ее пришла? Не время поди: пост великий еще не кончился. Да и для посту он не скусный. Баба-то пробовала, да сбежала.
— А ну тебя, охальница! Нихто за ей свататься теперь не придет. Нетронутых-то девок впрок солим ай за старых вдовцов сбывам — куда ей после ее греху! Вирка-а, подь-ка поближе. Не слыхать што-то ни духу, ни голосу твоего.
— Здесь я, баушка. Зачем тебе?
— Айда к нам, по хозяйству поработай. Шерстью там аль чем заплотим. Баба-то у нас, слыхала?..
Виринея поправила платок на голове и сказала внушительно:
— Што ж, я пойду на какое надо время. Все одно, где прокорм добывать. Только ты меня, баушка, грехом моим с Васькой не замай. А то я и старость твою не уважу, ухватом садану. Надоела мне ваша про меня колгота.
Старуха закивала головой, руками взмахнула:
— Да што ты, што ты... Не хошь, и не скажу. Не дочь мне, не сноха, чего заботиться? Айда! На работу ты здорова. Уж постарайся, пожалуйста. Никем никого и не наймешь тут у нас. А твое дело такое вышло — все одно найматься! Айда!
И Виринея пошла. Целую неделю проработала. И на другую оставили. Хозяйка туго поправлялась, хоть свекровка и к Магаре к камню ходила, помолиться просила. Хоть и Мокеиха, Васькина мать, живот править и заговаривать приходила. За фельдшером в участковую железнодорожную больницу свекор обещал съездить. Да все еще дороги не было.
Четыре раза Васька по темноте молить и просить Виринею вернуться назад приходил. Трудно дышал и неверным шагом ходил, но двигался. Отошел от застуды. Еще не пришел его час. Жарко спорили с Виркой под сараем во дворе. Но уходил один, втянув голову в плечи, как побитый. Когда в четвертый раз пришел, Вирка из избы, из дверей, звонко крикнула:
— Опять притащился, постылый? Потемну, с утайкой, а все люди видят да знают. Постыдился бы цепляться-то за мой подол... Уходи! Нечего нам с тобой говорить. Все размотано, и ниточка оборвалась. Никаким жалостным словом боле не свяжешь!
Но Василий сразу со двора не пошел. Притаился у плетня, сгорбившись, словно еще ссохшись, худой и низенький. Давил свой навязчивый глухой кашель и стоял. Старик амбар запирать вышел. Приметил. Сказал сердито:
— Иди домой! Чего маешься? Коль пришпичило до бабы, законной нет — мало ль баб тебе? Мужиков не хватат. Чего срамишься?
Вирка из сеней услыхала. С поленом выскочила:
— Уходи, а то пришибу! Намозолил ты сердце мое, со сну вскакиваю, как тебя, липкого, вспомню! Пришибу-у, все одно, хучь конец! А то сам плохо дышишь, да и мне не даешь! Ну-у?..
Ушел.
Мокеиха, как пришла хозяйку вызволять, на Вирку сначала даже не взглянула. Будто ее и не было. Хоть она по работе бабьей своей то и дело мимо старухи ходила. Только когда дело свое справила Мокеиха и уходила, то во дворе Вирку остановила:
— Уйти-то от нас ушла, а дух поганый с подола со своего у нас оставила. Кобели на тот запах ходют.
Вирка передернула губами, пошла от старухи и на ходу кинула:
— Ладаном покури, отшибет! А то и твой-от сын по-кобелячьи за мной все вяжется!
Но Мокеиха сказала внушительно и глухо:
— Постой-ко! Слово сказать надо.
Виринея приостановилась. Через плечо глянув на старуху, спросила:
— Ну? Какое еще слово? Все одно ты меня ничем не проймешь. У меня на тебя даже обиды нет. Больно ты и без меня горько сыном обижена. Чего тебе надо?
Старуха подтянула губы. Сказала сдержанно:
— Чернявый тот анжинер приходил, тебя спрашивал. Сказывал — на стирку, на мытку, што ль. А видать, како место мыть зовет.
— Ну?
— Чего нукать-то? Хочешь, дак иди, мой. Аль уж, может, сладились? За хорошие деньги аль так, задарма, по согласью?
Вирка усмехнулась:
— Не твой расход, не твой доход. Иди, баушка, домой! Не обидишь ты меня, не проймешь. Жалею я тебя. Сын твой больно ненавистен мне стал, а из-за тебя и его вот сейчас пожалела. Мается и тебя мает. Приспокоились бы вы как-нибудь, а я бы, право слово, порадовалась. Прощай, баушка. — И скрылась в сенях.
У старухи сердце от злобы зашлось. Чуть из двора выбралась. Как разговаривает! Чисто путная. А она, старая, перед ней, как девчонка покорливая, стояла, слушала. Господи, за что обида такая в седые остатние годы?
Долго ночью плакала.
IV
Об инженере том напрасно старуха напомнила. Не больно приглянулся, чтобы часто в голову лезть. А все же где-то сзади явных мыслей, тайком, думка о нем спряталась. Может быть, оттого, что никому Вирка, кроме Васьки постылого, на ласковую душу не нужна. Та же Анисья из любопытства с ней хороводится. Разговору много про Вирку было, ну и занятно той проколупать: что за человек. А тот барин с первого взгляду на Вирку с большой лаской, как на желанную. И сейчас вот не забыл. Только и на Ваську тогда позарилась за ласковость... И сердито оборвала мысль:
«Ну их всех в болото, лешаков! На работе и не думаешь про мужика. Так проживу. Хватит с меня одного. И от того ни крестом, ни пестом не отобьешься!»
Больная баба отошла. С натугой, а вставать стала. И помаленьку по дому управляться. Хоть ничего жили, по-среднему, куска на Вирку хватило бы, но баба по-крестьянски прижимиста была. Зря кусков не разбрасывала. Как продохнула, к печи доплелась.
— Ну-к, Вирка, отойди, я сама...
Виринея бабу поняла. Сама так же бы хозяйствовала. Приласкала одобрительным взглядом и сказала:
— Вызволилась? Вот и хорошо. Утре, как еще полегчает, дак я на вас и отработала. Уйду.
И на другое утро опять к Анисье ушла. Анисья что-то затуманилась. Побледнела, осунулась, и взгляд невеселый был. Сказала Вирке вечером, как коров доили.
— Что-то у меня на сердце гребтит. Давно писем от мужика нет. Либо шибко раненный, либо помер совсем. А то, може, у немцев мается.
Виринея отозвалась сдержанно:
— А може, приписали про тебя ему?
— Что с астрияком-то с моим путаюсь? Тогда бы еще скорей хучь через родню покор прописал. Нет, чую, плохое с им. Вот который день ем кусок без охоты, и все што-то маятно...
— Анисья, на што он тебе? Надругалась ты над им...
— Что надругалась? Дите, што ль, чужих кровей на его кусок привела? Сроду до этого не доведу. Двоих вытравила и третьего, коль с чижолости сейчас тоскую, изведу. У Мокеихи-то у твоей на это из всех бабок рука легкая. А так что ж? Кровь-то молодая, сам знает. Поди тоже без бабы не прожил. Еще хворь дурную принесет. Мало ль у нас мужьями порченных? Чего же, дело такое. А меня побьет, поувечит, а там опять вместе заживем. А и убьет коли сгоряча, дак потом пожалеет. На работу я спорая, телом крепкая. Чего надругалась? Ну ты, тпру-у, стой! Чего брыкаешься! Стой, коровушка, стой, матушка...
Подоила, перекрестила корову и сказала:
— К Магаре схожу. Пущай за Силантия моего помолится. А может, предскажет что. Ты подомовничай тут. Молитву, которую солдатам посылают, Магара, сказывают, составил. Шибко солдаты на ее надеются. Хороша от смертной от пули. Нашински солдаты под рубахой на сердце ту молитву в бою носют. Как у старосты старшого, Митрия-то, убили, Терехин Васька с тела с его ту молитву снял. Прописал Митревым родителям, что себе на охрану листок тот оставил.
Виринея вздохнула:
— Дурной народ, — деревенски наши люди. Убили, дак чего же молитва-то не оборонила? Ни к чему она, выходит.
— Ты, Вирка, про богово дело не бреши. Как веру человек сменит, ни к чему становится. Из кержачек перешла, дак и клеплешь на наше провославие! Не люблю таких слов. Тебя молиться не заставляю, а ты меня не замай.
— Чего ты ощерилась? Не стращай, я не пужлива. Не люби, — а ведь сама говоришь: и с молитвой убили!
— Ну-к што ж! Так бог схотел, закрыл глаза на ту на молитву. Митрию так на роду было написано, а другим помогает. Спиши мне ее, ты хорошо грамотна.
— Не буду!
— А, сволочь ты, безбожница! Ну и наплевать. Без тебя найду, напишут. Домовничай, а то к ночи дело. Я схожу, отнесу чего ни то Магаре и помолиться попрошу.
Большая вера в Магару в жителях укрепилась. Из дальних волостей, когда путь был, к камню его приезжали. Подаянья доброхотные приносили и привозили. Но без корысти Магара перед богом старался. Даянья же у камня оставлял. Подаянья исчезали. Платок один жертвенный на бабе акгыровской, из беженок, видели. Но все же несли и везли. И Анисья полный узелок снеди набрала и ниток шерстяных моток.
— Подомовничаешь, што ль? Астрияк-то мой поздно придет. В барак к своим отпросился. А ребята прибегут, сунь кусок, и пущай спят.
— Да ладно уж. За ругачку твою когда ни то взгрею я тебя. Не люблю этого. Ну, да ты не злая, спущу пока. Иди. Подомовничаю, некуда мне и уходить-то.
В сладостном томленье расправлялась сбросившая снежную глухую покрышку земля. Было легким и в кротких красках сгасало вечернее небо. Будто грустило в беззлобье, безнадежности, что не ему, а земле дан час плодородья, сладость и горечь кратких земных радостей. От этого полегчавшего в кротости неба, от бережного тихого опусканья на землю темноты, от призывного курлыканья летевших отважно далеко журавлей входили в человечьи сердца радость и тоска.
Виринея стояла на огороде. Смотрела на журавлей в вышине, слушала вечернюю негромкую суету дворов, жадно забирала в грудь хмельные запахи земли и ветра. Побледнело лицо, тосковали глаза, а нарушать ту хорошую легкую тоску и уйти не хотелось. Инженер к изгороди огородной подошел. Сильно вздрогнула, когда негромко окликнул:
— Виринея...
И с промедленьем добавил:
— ...Авимовна...
Все эти недели мыслями о ней маялся. Крепко забрала. Все про нее разузнал. Думал, про дурное в прошлом ее те рассказы отобьют думу о ней. Но только пуще распалился. Сегодня только узнал, где живет теперь она, и сегодня же сами ноги притащили к ней.
Виринея от испуга быстро оправилась:
— Вот напугал, барин! Откуда вывернулся?
С лица же тихость не сошла. Говорила не сердито, устало:
— Вы чего-то меня спрашивали? Старуха сказывала, к им приходили.
— Да я не знал, что вы перебрались от них.
— Ну, как, чать, не знать? В деревне про всех все знают, а про меня вы, слыхать, все расспросы расспрашиваете. Может, только избу не знали, где живу теперь, а про дела про мои с Васильем как, чать, не знать! Зря только старуху расспрашивать пошли.
— Да я, честное слово, Виринея Авимовна...
— Что это вы важевато как со мной? Батюшкины кержацкие кости величаньем тревожите. Мне чудно и ровно совестно. Мы народ к тому привычный, что старух только величают.
— Мне очень хотелось еще увидеть вас, Виринея, Вира... Знаете, так бывает: увидишь в первый раз человека, а кажется, что давно знал его — влечет к нему. Тогда вы сердито со мной разговаривали. И мало...
Тянул медлительные слова. Думал: «Не так... не так надо с ней говорить».
В этот час, кротостью вечерней напоенный, и у него не стало жадной хватки бурного желанья. Только и надо: вот так стоять поодаль от нее, смотреть усмиренными глазами и ощущать: удивительная, дорогая.
Виринея встретилась с ним глазами и чуть порозовела. Сказала негромко:
— Нехорошо, что вы тут стоите. И то про меня много болтают.
Он встревожился:
— Но почему же? Разве нельзя поговорить? Ну, просто так, по-человечески поговорить? Не уходите, пожалуйста! Ну, давайте вон туда, подальше, за село пройдем.
Виринея засмеялась тихим, грудным смехом. Покачала головой:
— Еще лучше удумал! Да я ничего, стойте, разговаривайте. Меня сплетками своими до сердца не проберут. Привыкла я. За красоту за мою бабы меня не любят. Чисто мне кажный мужик нужен, а им всех до единого жалко уступать.
Спокойно и просто о красоте своей. Не чванливо, не кокетливо, а правдиво. Умилился влюбленно: «Милая». Она, глядя мимо его лица, тихими сегодня глазами, говорила:
— Вот и в городу: и стряпать по-господски выучилась, и стирать, и гладить как надо господское белье, а подолгу на местах не жила. Не с того, что без паспорту. Это для их выгодней, дешевле. А все из-за завидки бабьей. Поглядят барыни, как ихние мужья аль там кавалеры около меня, вот как вы теперь, вьются — сичас фыркать зачнут. Ну, а у меня сердце на фырчок нетерплячее, сама отфыркаюсь. Вот и с места долой. Одна вот чудная больно...
Виринея фыркнула:
— ...так из себя, хуть господа, а с деньгами не густо. По дешевой образованной должности с мужем жили. Все листы каки-то писали и в эту, как ее?.. Тьфу, уж забыла городские слова... в редакцию каку-то ходили. Книжки мне еще давали читать. Там, дескать, у их в этой редакции составляли. Скучные книжки, про бедный народ... Я брать — брала, а мало их читала. Ну, дак они со мной так: все одно, дескать, люди, что господа, что мужики. Великатно, старательно. Маленько муторно с ими было — больно великатные. А ничего: пища — что сами едят, и без ругачки. Только гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому. То да се, а сам мнется, вот как вы. Ну, думаю, как бы барыня не осерчала. Да и при Ваське тогда заходил. Васька сумлевался. А барыня — такая: по-городскому ничего, стеклышки эдак на носу на шнурочке, кудерочки реденьки. Ну, а по-нашему: сохлая до канючая. И барин с ей ласков, а, видно, посдобней, повеселей чего захотел. Ну, и она приметила. Не осерчала, виду не дала. А только раз пришла ко мне и говорит: «Виринея, давайте обсудим». Ну, разное там говорила. Мещанки, говорит, которые за мужей держутся, а я нет. Если, мол, тебе нужен — бери. Я, дескать, сама уйду. Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь — рассчитайте. У меня, мол, свой, хуть плохой, да свой есть. Да и у тебя-то, мол, мужик не лучше. С Васькой парный, только что образованный. А она: нет, говорит, зачем расчет, давайте обсудим. И вот эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сусолить эдак! Плюнула я да тишком рано утром от их ушла. Вот эдакая завидна потяжельше фырчанья!
Оба весело засмеялись. Виринея со смехом закончила:
— Она мне, эта «обсудим»-то, и проняла. Затосковала я по деревне. Проще у нас. Двинут, дак без разговоров двинут. Айда, говорю, Василий, к своим подаваться. Уж терпеть, дак от своих. Вот когда обидно на баб нашинских станет, вспомню про тех образованных, обида-то и отмякнет. Эти злы, да без подвоху. А те прямо не покорят, а жалостными словами зашпыняют.
— А не скучно вам здесь? Все-таки вы уж привыкли к городу...
— Ничего я не привыкла. Легкому сердцу везде сладко, а коли в ем горько, дак где ни жить — все одно тошно. Да нам за работой скучать некогда. В девках я книжки читала, а теперь и к им охоты нет. Вот так постою, погляжу да спать пойду. И в праздники больше сплю.
— Книжки я вам могу прислать, если хотите, у меня интересные есть... И романы, и повести.
— Вот я раньше до романов охотница была. От дяди таилась, а много перечитала. И работу какую ворочала, а читать находила часочки. В летни праздники в степи пряталась.
— Я пришлю... Я вам завтра же принесу.
Виринея с усмешкой махнула рукой:
— Не надо. Я в их теперь и глядеть не хочу. Читала, читала, да вот с чахотным и спуталась. Чего смеетесь? Правда, так. В книжках все такие обходительные. Про любовь там всякое. Ну, а наши, деревенские, эдак не займаются. С девками словами не канителят, а с бабой своей дак и вовсе разговоров не разговаривают. Корове когда скажут: «Краснушка, Краснушенька», — аль лошадь с добавкой слова ласкового назовут, а жену — нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковости. И на работе скотину жалеют, а бабу нет. И все одно, в богатстве ли, в бедности — везде к нашим бабам так-то. Еще бедный-то лучше, из-за хозяйства не ярится. Ну, вот я в книжках одно начитала, а нагляжусь на другое. И неохота мне ни с кем нашинским. На улицу тайком часто бегала, охотливая в девках до веселья была, а от себя всех отваживала. Не милы. На тех, в книжках, не похожи. А этот вот, Васька-то, и в обряде городской, и с манером с городским. По-тихому, со словами ласковыми обошел меня. И из себя чисто не деревенский, худенький да ужимчивый. Вот и припаялась.
— А сейчас вы его не любите?
Виринея встрепенулась. Взглянула в инженеровы ласковые глаза и вдруг сухо оборвала:
— Разболталась я... Молчу много, а вот как накатит — и заговорюсь. Вы чего шли ко мне-то, с каким делом?
Затаился взгляд. И губы твердо сжала. Спугнул инженер легкий разговор. Сам избить себя готов был, но как поправить, как разговор затянуть, не знал.
— Я, видите ли... Не знаете ли вы, кого мне здесь попросить стирку белья моего на себя взять?
— А што же, я постираю. Я по-городскому могу. Только я задешево не возьмусь.
И опять деловито плату указала. Очень дорого по местным ценам. Но он уж не злился. Только жалел, что та, милая, с неуклюжей, но задушевной речью, спряталась. Другая Виринея точно. Расчетливая деревенская баба. Нелепым для произносимых слов печальным голосом сказал:
— Ну что ж, я согласен. Когда можно белье прислать?
— Куды прислать? У вас поди кухня есть. Да не то кухня, баня в этом двору есть. Я ведь знаю Силантьев дом. Вот в бане и перестираю. В чистой понедельник на страшной утречком приду. На этой у Анисьи отработаю. Мыло и подсинька-то у вас есть, ай купить?
Радостным стуком кровь в сердце, в висках: согласилась прийти к нему в дом. Сама предложила, сама захотела. В уединенной бане, за двором, целый день одна будет. Возможно, что и для нее стирка — предлог. Тянет к нему, только не хочет сказать открыто. Не разбирал от волненья, что она говорит, отвечал торопливо, не вслушавшись:
— Да, да... Вот возьмите, пожалуйста... Хватит ли, нет?
Видела, что лишку дает, ко сказала спокойно:
— Пожалуй, что и хватит.
Взяла деньги, пошла с огорода. Не оглянулась.
V
Бог все разговорчивей с Магарой. Народу от того разговора предсказанье. От молитвы — помощь. И в моленье своем хорошо было утвердился Магара. Сердце отмыкло, дых легче стал.
Но по весне опять отяжелело в груди. Руки по земному мужичьему делу затосковали. Перешибали молитву думы о пашне, о скоте, о зятевом хозяйствованье. Одну ночь, сколько ни старался, никак молитва не шла. Тоска такая накатила, что в голове мутно. И к утру, стоя на коленях на камне, запросил Магара:
— Ослобони, господи, меня от земного дела! Навовсе ослобони! Лучше я в раю с угодниками твоими стараться буду. Ослобони от крови чижолой, от жилы человечьей, от костяку твердого. Сведи на меня смертный час! Оттоль народу способе подам, а на земле здеся не выстою. Хо-осподи!
Последнее слово с криком хриплым из груди вышло. И будто на крик тот в мутном мареве рассветном появился от камня поодаль святой старичок. Тот, что в самый первый раз будить Магару приходил. Каким именем его окликнуть — все еще не знал Магара. Не видал с того разу. Застыл в ожиданье. А старичок не прежним зычным голосом, а в ласковости тихой заговорил. С ветерком вместе, с паром от вешней земли слова налетели:
— Помрешь скоро, раб божий Савелий. Жди часа смертного.
К похолодевшему в ночи камню в радости, до боли сердце стиснувшей, припал лицом Магара. А когда опамятовался, голову поднял, уж не увидел старичка. Взмолился:
— Милостивец! Как по имени, по чину перед богом звать тебя? Ну-к, покажи еще лик немудрый свой. Страдатель божий. Сколь скоро, в какой день, в час вынет душу бог из мене?
Лика больше не видал и ответа не слыхал. Но к смерти стал готовиться. В тот же день неожиданно в дом свой пришел. Старуха с дочерью в избе убиралась. Вытерла фартуком мокрые руки, глянула на мужа. Обветренный, лохматый и грязный. Не похож на угодников, какие на иконах. Сказала робко:
— Може, в баньке попариться, тело занудилось? Истопим, а?
Но Магара головой, как от мухи, отмахнулся:
— Смертну обряду мою, каку заготовила, достань из сундука! На дворе повесь.
И ушел. Слова больне не добавил. Старуха горестно вздохнула и заплакала. Вся округа в святость Магары уверовала. А она говорить о том боялась, но в себе думала: не от святости это в нем, а от хвори какой-то. Уж своего мужика-то знала, — какая в нем святость? Так мается без ума, без разума. Но не сердилась, а шибко жалела. От той жалости быстро стареть начала. Ссутулилась, глаза стускли, и на лицо серый пепел лег. Но приказанье мужнино в тот же час исполнила. Когда вешала белые холщовые порты и рубаху, Мокеиха пришла.
— Здравствуй-ко, Григорьевна. Помирать хочет?
— Не знаю, веле-ел.
— Сказывал, Григорьевна, сказывал. Сейчас на нашей улице был. Открыто ему будет, в какой день. Я и пришла, чтоб меня тогда кликнули. Потрудиться охота над молитвенником-то над нашим. Нынче народ распутный стал: мало кому открывается, когда смерть придет. И не от должного часу мрут, а все больше во внезапности. Пущай подоле повисит одежа. Солнышком нашинским прогреется, ветерком с земли провеется. На остатней обряде дух земной унесет, пуще об земле стараться перед богом будет. Их-ох-ох. Ну, дак гляди, не медли, кликни тогда. Савелий-то, батюшка, плывет через речку...
— Куда?
— А по обычаю богову все сделать хочет. Не как нынешние вертуны. В церковь, к попу поговеть поплыл.
Обратно приплыл под самое вербное воскресенье. Уж затемно в окно постучал:
— Эй, открой-ко, Михаила!
Зять голос узнал. Подивился:
— Ай к нам перебираешься?
Но Магара, отмолившись в угол, сказал:
— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-то сготовил.
Зять поскреб голову и грудь. Спросил:
— А где помирать-то лягешь? Там, у себя в землянке, ай на камне?
— Тут, в избе. По-христьянскому. На этом месте родился, на этом же и помру.
Зять постоял, подумал. Сказал с тягучей позевотой:
— А, ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил. Я маненько еще посплю. А? До утра-то еще долго. Намаялся я нынче.
— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.
Когда ушел, зять старуху окликнул:
— Не спишь? Слыхала? А в избе не остался, отвык от человечьего духу. Бабу-то мою будить аль нет?
— Не надо. На свету обоих разбужу. Что ж, все под богом ходим. А ему все одно. Который год на земле не работник. Может, и правда, час помирать пришел. Потрудимся, проводим. Ложись, поспи еще час какой.
— Ви-ирка-а! Ви-ир! Куды запропастилась?
— Ну, чего ты базлаешь? Отдохнуть под сараем я хотела.
— Отоспишься еще. Айда скорей Магару глядеть.
— Ну-у? Помирает?
— Да! Ну да! Давно уж зачал. Гляди не протолкаемся, не увидим.
— А я ведь, Анисья, думала: он врет. Крепкий, мол, не свалишь!
— Ну, айда, айда, не растабарывай. А то народ бегёт, а мы мешкаем.
Задыхаясь на бегу, сердилась Анисья:
— И как это я, на каждый слушок вострая, тут не сразу услыхала! Ой, баба, не увидим, а охота поглядеть, как кончится. В праздник и помереть угадал. Людям глядеть послободней.
Стекался народ к избе Магары. Со всей деревни накатной, разноцветной, веселой для глазу волной. На улице около избы, во дворе и в самой избе стоял несмолкающий гул людских голосов. В избе приглушенный. На улице и на дворе — как веселый жизни молебен.
Солнышко, по-вешнему легкая теплота дня, колыханье ярких женских платков и платьев, пушистая верба-хлест, игривая в молодых руках, — будоражили радостью. Оттого часто в толпе прорывались молодой ядреный смех и женский притворно-пугливый вскрик. Заглушали перебранку теснившихся у избы и охотливый старушечий провожальный плач.
Виринея и Анисья, огрызаясь на ходу несердитым бранным словом, смешком коротким и взвизгом на щипки мужиков, протолкались вперед.
Настежь открыты окна избы. Но тяжело и густо пахло ладаном, богородской травой, елеем и дегтем от праздничных сапог. От этого смешанного запаха, от дыма кадильницы в руках старика Егора, от нудного тягучего его голоса, бормотавшего псалмы, труднила дыханье людей духота. На божнице дрожали горестно хлипкие желтенькие огоньки восковых свечей. На скамье под окнами стоял открытый гроб. Старательно обструганные доски еще хранили свежий запах древесный.
На двух сдвинутых вместе скамейках, покрытых чистой холстиной, на подушке из сухой богородской травы, в белых холщовых портах, в поясе с молитовкой, в смертных мягких черных матерчатых туфлях лежал Магара. Большие узловатые руки в старательной тихости держал крестом на груди. Две черных старухи в мерных и низких поклонах качались у ног Магары.
Бубнил Егор:
— Обратись, господи, избави душу мою, спаси мя по милости твоей.
Народ входил, выходил, двигался, сменялся. Живое его движенье тревожило Магару. Он приоткрывал глаза. Вскрикивал глухо:
— Ныне отпущаешь...
Взбадривался Егор и громче вычитывал:
— Суди мя, господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.
Магара снова глухим голосом перебивал:
— Пошли, господи, по душу мою!
Но трепетали свечи. Все скучливей и глуше голос Егоров. Затомился Магара под участливыми, равнодушными, печальными, затаенно усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидал, что даже семейные его из избы ушли. Только жена, надвинув низко на лицо темный платок, стояла у изголовья. Взмолился страстней и живей:
— Отпусти, господи, вынь дыханье. Помилуй, господи, раба твоего...
Виринея дернула Анисью за платье:
— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончится.
Та повела сердито плечом, но охотно за нею вышла. Когда они вернулись снова к смертному ложу Магары, уже солнце далеко от полдня запало. Шестые свечи на божнице догорали. Отдохнувший народ снова в избу набился. А Магара все еще живой лежал. Учуя похолодевшее дыханье дня, задвигал в тревоге головой по подушке. На долгий миг задержал было дыханье в груди, но выдохнул его шумно и закашлял. Черная старуха наклонилась к нему:
— Ты как нудишься-то, батюшка, перед смертью ай нет? Словно как быть не на смерть, а по-живому. Народ затомился ждать. Как у тебя по твоему нутру, скоро аль долго еще?
Магара покосился на старуху. Не ответил, только бровями досадливо шевельнул. Низенький, седобородый Егор прервал свое заунывное чтенье. Повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел на него и посоветовал участливо:
— А ты крепше глаза прижмурь. На энтих, на живых-то, не пялься. Думай об своем и дых крепче внутре держи, не пускай. Сожми зубы-те, зубы сожми!!
Безусый, веселоглазый парень в толпе фыркнул. Подмигнул румяной Анисье и сказал:
— Живой-то дух небось не удержишь! Не ротом, так другим местом выдет.
Смех прошелестел в толпе. Мокеиха впереди охнула. Егор поглядел на народ и строго оборвал:
— Кобелей-то энтих повыгонять бы отсудова. Вредный народ, беда-а. Кончиться человеку в старанье перед богом не дадут.
Загнусил живей:
— Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся...
Но скоро опять к Магаре повернулся:
— Ну-к, полежи маненько без псалмов, Савелий. Чтой-то я заморился, разомнусь схожу. Полежишь?
Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:
— Иди... Теперь скоро уж, давно маюсь.
Вирка взглядом с тем парнем веселоглазым встретилась, не сдержала смеха. Сверкнула зубами и зазолотившимися от дерзкого веселья переменчивыми глазами. Крикнула громче, чем сама хотела:
— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез да поразмялся. Спину, чать, отлежал? А?
Заговорили со всех сторон:
— Закрой хайло, шалава!
— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков.
— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!
— А што? Хоть сдуру, а, пожалуй, правду сказала: встал бы, коль смерть не берет.
— Ты прямо, мил человек, скажи: будешь помирать аль отдумал?
— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.
— Рассердись да помри, Магара! Чего ж ты?
Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула:
— Это Вирка народ всколготила. Блудня окаянная! Святой человечий час и тот испакостила! Уберите ее, старики!
Но смех и разговоры все гуще, вольней по рядам. И откликом с улицы мальчишки озабоченный голос:
— Васька-а! Он се не помират! Айда еще в бабки играть!
Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими руками платок на голове все поправляла, чтоб лицо закрыть.
«Страм... Чистый страм! Сам обмишулился и народ обманул! Чтой-та теперь будет? Что будет, коль не помрет?»
И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на один! Заплакала и закрыла фартуком лицо.
Вернувшийся в избу Егор спросил ее облегченно:
— Помер, што ль? А я и не разберу, с чего народ шумит.
Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех смолк. Люди затаили дыханье. Лица у всех построжали. Долго стояло молчанье в избе. Магара прервал его. Снова хрипло вздохнул. Опять приподнялся, сел на скамьях. Глаза, загоревшиеся огромным напряженьем страсти, жаркие до жути глаза уставил на иконы. Глазами молился и требовал. Опять заговорили сзади. Приглушенный смех снова в уши Магары. Тогда он поднялся во весь свой высокий рост. Передохнул всей грудью и пробормотал невнятно:
— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал...
Забегал его взгляд снова по рядам. Будто мешался, искал снисхожденья или участья. Но всюду встречал смеющийся или злой глаз. Тогда двинул ногой сердито смертное свое ложе и крикнул зло и сильно:
— Чего глаза пялите? Мертвечину нюхать пришли? А? Не помру! Айда, чтоб все вон из избы. Говорят вам... мать, не помру!
Изрыгнул крепко забористую матерщину и посыпал часто крутые похабные слова одно за другим. Глаза покраснели, будто разбухли от гнева. Кулачищами крепкими замахал. Визгнула во дворе напуганная дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба кинулась. И с ахами, взвизгами, криком подались все бабы из избы. За ними мужики с гоготом, с ответными забористыми словами. Старики с укоризненной воркотней, но с веселыми от тайной усмешки глазами. Быстро пустела изба.
Обрывисто, будто давясь наплывом злых непристойных слов, ревел Магара:
— К чертовой матери!.. бога!.. богородицу!..
Сдернул со скамей холщовый покров, скомкал яростно, в угол закинул. Сильным рассерженным дыхом потушил лампадку и свечи.
На дворе еще шумел народ.
— Чисто матерится старый хрен.
— Натосковался в молитве по легкому-то слову.
— Господи, батюшко! И как теперь отмолит? И чем экий грех перед богом отслужит?
Красный, потный зять Магары, выпучив глаза, во дворе народ упрашивал:
— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора. Уж такой нам страм! Уж такая обида! Лег бы тишком да попробовал, помрет ай нет. А потом бы народ уж скликал... Уйдите, старики, для-ради Христа. Лучше завтре придите нас страмить. Нынче не в себе он. Вам-то что? отстрамили да ушли! А нас он вполне обязательно изувечит со стыду.
Молодежь свистела, приплясывала на улице около дома. Надрывалась в выкриках:
— Когда еще позовешь, Магара? А? Когда приходить?.. Кутью сварим, блинов на поминки напеке-ом...
— Только гляди больше не надувай, а то сами тебя за надувательство в гроб укладем!
Как наш Магара, чертов зять,
Собирался помирать,
Да к вечеру отдумал
И начал свою мать
Крепким словом поминать...
Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали стекла раскрытых рам.
— Убью-у!.. Уходите, сволочи... Ну-у?
Втянул голову в плечи, готовый к яростному прыжку. Взмахнул руками. Выставил в окно иссиня-багровое лицо с налитыми кровью глазами. Толпа от избы шарахнулась...
На улицу, на дворы, на окрестные поля и горы уже легла благостная ароматная темнота. Бабы тревожно выкликали мужей и детей. Со смехом и бранью расходились люди. Магара тяжело сел на скамью меж окон. Уронил взлохмаченную голову на руки и дышал тяжело и трудно.
С тихим медленным скрипом приоткрыла Григорьевна дверь. Старое сердце встревоженным голубем металось в груди. Слово с языка от испуга не шло. Но огромная жалость толкала к мужу. Вошла. Магара медлительно, с большой усталостью сказал:
— Дай мне другу-ую одежу... И... посто-ой! Вели Дашке самова-ар наставить.
Но чай пить не стал. Выпил жадно три ковша холодной воды. Спросил угрюмо и глухо:
— Где же зятья-то с бабами?
— Один-то уехал, а эти тут, во дворе, в телегах спать полегли. Боятся в избу...
— Ладно, пущай там переспят.
— А ты-то, Савелий, как? — Оробела и чуть слышно закончила: — За село-то к себе не пойдешь?
Не ответил. Сильно и слышно ступая по полу босыми ногами, прошел к старухиной постели. Деревянная кровать скрипнула, как охнула, под большой его тяжестью. Старуха, вздыхая, стала укладываться на скамье под окнами. Но Магара громко и отчетливо позвал:
— Ложись со мной.
И на шестом десятке лет, лютуя в грехе, как лютовал в молодые свои года, без слов, жестокой звериной лаской всю ночь ласкал и тревожил развяленное старостью женино тело.
А на утренней заре вдруг заплакал без слез и без слов глухим маятным воем.
— Савелий... Савелий!.. Смирись, сжалится господь! От гордыни от твоей шибко уж тебя обида пробирает.
— Молчи!
Сорвался с кровати и встал среди избы — большой, лохматый, нескладный.
— Молчи, баба! Не твоей мозгой понять!.. Молчи! В грехе доживать буду! В блуде, в пакости, в богохульстве!.. Душить, убивать буду! В большом грехе. Не допустил в великой праведности к ему прийти, грешником великим явлюсь! На Страшном суде не убоюсь, корить его буду!..
И бушевал опять до самого солнца восхода. Утром ушел из дому. До пасхи пропадал. На второй день праздника явился пьяный и буйный. С того дня в блуде, пьянстве, в драке первым в округе стал.
VI
Третий год здешнюю степь все меряют. Второй год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят. Роют, сыплют, насыпают, над дорогой железной колдуют. А езда по той дороге еще через три года не та будет, не то нет.
Постройщики-господа от войны здесь хоронятся. Не торопятся, видать, строить-то. Только и понастроили, что инженерам всяким хоромы. Бараки унылые, плохо сколоченные, да землянушки рабочей голытьбе из беженцев понаставил. Писальщикам, считальщикам своим готовые хорошие дома по всем деревням под конторы понакупали. Матвей Фадеев не зря теперь кряхтит:
— Станции да дистанции, а для мужика все одна надуванция!
Спервоначалу он постройкой доволен был. Крестьяне за продукты цену неслыханную брали с постройщиков, хорошо наживались. И не один Матвей тогда радовался. А теперь вот опять не только он, одноруким вернувшийся с войны и оттого нерадостным и на все плохое приметливым, а и другие, старики и молодые поосновательнее вздыхать начали. Деньгам от инженеров, — все постройщики повыше десятников под одним названием «инженеров» в округе ходили, — так деньгам тем, инженерским, не рады. Дурные деньги дуром и идут.
На участках дошлый приезжий из городов народ чайных понастроил. С граммофонами, с кислушкой пьяной в чайниках, с едой, по-городскому приперченной, в новинку для мужика приманчивой. С той еды с пьяной запивкой на бабу, такую же приперченную, позыв. Шлюхи с разных мест к тем чайным понаехали. Дурная деньга — вот на это и тянет. Мужики, даже из пожилых, степенных, позашибались. Польстились на образованность городскую. А от шлюх да от господ, дорогу строящих, хворь стыдная приметно по округе распространилась. Бабы в соку затомились в войну без мужьев. Девкам женихов нет. А лета им уж такие, что плоть своего дела требует. Постройщики с усладкой, с подарками, с охальством зазывным городским. И сменила баба не только обрыду свою на городскую короткую, облипучую, а и поведение совести своей. Блудлива стала. На грех с мужиками чужими податлива. Инженеры у докторов своих подлечиваются. Деревенским, пока в лежку не лягут, этим заниматься некогда. Не разъездишься в больницу от хозяйства, от земли. Вот и гниют мужичьи костяки. У многих теперь, если посчитать. Солдаты тоже порченые из городу, бывает, приходят. Хиреет народ деревенский и от войны, и от постройки. Еще от блуда и от тревоги. А в других местах мужиков с корнем вытащили. Совсем от дела мужичьего оторвали. Недаром в виденье Магара подводы видал. Чужой народ, белесый, рыхлый, на поворот мешкотный, из дальних губерний сюда перебежал. Хоть и плоховаты перед здешними, а все на своей земле трудились, добывали. Теперь же по углам у здешних мужиков, в бараках да землянках на работе непривычной маются, перебиваются с воды на хлеб. Плохо кормятся от постройки. Война крушит, и постройка вредит. Оттого у деревенского жителя, мужицкую невзгоду понимающего, к постройке, как в войне, одно отношение: скорей бы кончалась. И к инженерам, постройки начальникам, враждебное недоверие.
И Вирку оно от чернявого статного барина отшибало. Чужой и вредный им, мужикам. Здоровым желаньем своим тянул к себе. Тревожлива неродящая баба. И два раза во сне жарко с ним миловалась. По ночам всегда вспоминала, а днем на те мысли ночные тайные гневалась. Противен инженер становился. Оттого, когда вышла за водой и близко к бане во дворе его увидела, сурово сказала ему:
— Ты, барин, не крутись тут. Нехорошо для мужчины, даже совестно. Какое твое дело тут?
Он обшарил загоревшимися глазами открытую в рубахе с рукавами короткими стройную шею редчайшей белизны и такие же белые выше грубых кистей тонкие руки, голые от короткой исподницы худощавые ноги. Сказал приглушенным, но жарким голосом:
— Я этой стирки твоей, как праздника, ждал. Люблю, хочу тебя, Виринея. Слушай...
И, протянув жадные руки, ближе к ней подался. Криком сердитым и резким оттолкнула:
— Ну-у!.. Не лезь!
И близко мимо него к бане прямая и строгая прошла. В дверях сказала:
— Ты меня не замай! Еще к бане подойдешь, кипятком ошпарю. Лежать под собой других ищи, сговорчивых. Мне ты не нужен!
И дверь в предбанник плотно притворила. Когда уходил шаткими, ослабевшими сразу ногами, во дворе двух баб хозяйских встретил. По глазам и поджатым губам узнал, что видели и весь разговор его с Виринеей слышали. Покраснел жгущим щеки румянцем. Сердито рявкнул:
— Где Петр? Лошадь мне надо.
С ночевкой на постройку уехал. Деньги за стирку Виринее через хозяйку квартирную передал.
Но на пасхе, когда кружился во хмелю от кислушки, пьяного квасу и чрезмерной праздничной еды народ, случайно на улице встретил Виринею. Хотел мимо пройти, сама окликнула:
— Что мимо глядишь, не привечаешь? То больно прилипал, а то сразу засох? Айда на разгулку со мной, барин пригожий!
Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, по-городскому сшитом платье, веселая и свежая, как березка в троицу. А глаза — будто хмелем затуманены. Лицо зарумянившееся, жаркое, грешное, и голос хмельной.
— Виринея... Вира-а!
— Ну, айда, айда на молоду зелену травушку в степь гулять, на пригорках отдыхать. Шибко желала я седни тебя повстречать, так по желанью моему и выпало!..
Одним прикосновением руки к плечу властно повернула его. Пошли рядом за село. Не смотрела, примечают ли люди. Легко шла, неумолчно, как в опьяненье, говорила:
— Я нынче бесстыжая и разгульная. И не от пьяного питья. Из стаканчика чуть пригубила. А так, от дню веселого, от духу вольного, от зеленой травы. Ходуном во мне жилочки ходют и сердце шибко бьет. Э-эх ты, думаю, все одно сгнивать, пропадать! Хорошие-то годы из бабьего веку своего плохо прожила, а теперь што?
— Виринея... Вирка моя милая! Красавица! Право, ты пьяная. Скажи, где напилась? По гостям, что ль, ходила?
— Ну да, пьяная, да не от питья. Я ж тебе сказываю. Зря брехать не люблю, а ты мне не муж, не отец, чего мне тебя стыдиться? Кровь во мне седни пьяная. Нет больше никого желанного, об тебе вспомнила. Третий раз мимо квартеры твоей иду.
— Милая!
Были уже за селом. Апрель дышал зеленой, радостно-молодой травой, пахучим легким ветерком, сладостной прелью ожидающей вспашки земли и юной синевой легкого, недушного неба. Заглянул в золотые, сегодня мутной истомной дымкой затянутые глаза, схватил за плечи, прижал плотно к себе и в долгом неотрывном поцелуе приник к неярким, но жарким губам.
— Подожди, отпусти на передышку. Ой, мутно в голове. Сладко ты целуешься, барин. Как звать-величать тебя, сейчас позабыла. А целоваться с тобой и без имя, без величанья еще охота. Н-н-ну... Пусти еще передохнуть!
— Вира, дорогая ты моя. Какое наслажденье! Ах, какая ты необычайная! Не первую тебя целую, а...
— Сядь, я у тебя на коленях полежу, вздохну. Вот эдак руку-то подвинь. Погоди, не томи, не гладь! Шибко сердцу тесно, дай отдохну. А-ах! Мужики, как мухи, знают, где сладость. Пусти-и!..
— Вира, Вира... Ну, почему? Виринея... одну минуту... Ну-у?.. Зачем ты... Ведь и тебе, тебе я не противен... Ну, дорогая моя, сладкая моя, м-милая...
— Не тревожь, говорю! Осло-обони!.. Все одно... все одно... согласна я... Седни люб ты мне. Не-ет... Вздохнуть дай! Шибко сладко, дыхну-уть невмочь... Выпусти-и, дай вздохнуть. Погоди, не це-елуй!..
И вдруг чужой, третий, враждебный, обидой, болью перехваченный голос:
— Вирка-а! Паскуда!
Сразу расцепились, поднялись, Василий с багровыми пятнами на скулах, в трясучке от боли и гнева, со сбитой набок старенькой фуражкой на голове.
— С барином! Паскуда ты, сквернавка! Средь бела дня, как сука!
— Постой-ко, гнусь дохлая! Не ори! Не жена венчанная тебе, а гулена. Отгуляла — и ушла. Пошто вяжешься? — побледневшая, строгая, в упор на Василия глядя, без испуга спросила.
— Пошел отсюда! Какое ты имеешь право за ней следить? Каждый шаг...
— Помолчи, Иван Павлович!
И улыбнулся бледной короткой улыбкой:
— Видишь, как нужный час пришел, имя твое с величаньем вспомнила... Не кричи, не расходуйся. Иди-ка домой, а я с Васькой сама поговорю.
— Нечего тебе говорить. Убирайся, мерзавец! А то я...
— Сама поговорю. Слышишь? Ты уходи. Я к тебе завтра ввечеру приду, не обману. А сейчас уходи. Надо с Васькой мне самой говорить.
— Не об чем мне с тобой, сука, говорить! Пришибить тебя надо, погань, распутницу!
— Ну, коль сила да охота будет — и пришибешь. Уйди, барин. Гляди не послушаешь в этом, я совсем по-другому поверну. Как с Васькой.
— Я не могу тебя одну с ним оставить.
— Не можешь? Не хочешь, как я тебя по чести, по делу нужному прошу, так отваливай совсем. Василий, приходи в Анисьин двор. Слово у меня для тебя есть.
— Виринея, но это же не нужно, ты сама не знаешь...
— Уйдешь, барин, или нет?
— Я отойду. У села тебя подожду, только напрасно ты...
— Уходи! Право, хуже делаешь...
— Иду. Скорее только, прошу тебя. Вон там ждать буду.
Пошел вперед, оглядываясь.
— Иди, иди. Я скоро. Слово надо сказать.
Когда инженер далеко отошел, сказала провожавшему его волчьим, несытым и злым взглядом Ваське:
— Василий, ноги у тебя трясутся, спина гнется, не выстаиваешь, сядь-ко.
Усмиренный ласковостью голоса и жалеющих ее глаз, опустился покорно рядом с ней на траву.
— Васька, жалею я тебя, чисто ты не полюбовник, а сын мой роженый. Вот право слово, шибко жалею! И когда ругаюсь, кричу на тебя, все для того, чтоб полегче тебе от меня отлепиться было.
— Вирка, жалеешь, а зачем ушла? Зачем блудишь с другими?
— Ишь ты как из-за меня маешься! Аж словно дых перехватывает. Зря это, Васька. Ничего мы с тобой теперь не рассудим, не определим. Без твоей, да и без моей воли так сделалось, што в раздельности мы, и никак нам теперь вместе не быть.
— С барами в сладком житье баловаться захотела? А? С того самого...
— Барин этот — так... Под час подвернулся. Не серчаю я на тебя, что укорить хочешь. Жа-алею! С горя это ты, а сам знаешь, другого я хотела. Честного житья и деточек от мужа в род, в семью роженных... Сейчас подумаю, сердце зайдется. Ну, не так мне пришлось, дак... Жалею я тебя! По частому делу об тебе думаю. Хучь плохой, да первый ты мой с девичества...
— Жалеешь, а жить со мной не желаешь... Разве так-то, с господами в блуде, лучше? Вирка, чать сама ихнее господское сердце к нам знаешь... И чего ты?
— Помолчи, Василий! Все знаю. Говорю, так, в бабий час, барин подоспел. А тебя жалею, шибко, часто жалею ну, а к телу подпущать тебя неохота. Не серчай, не вольна я в этом деле.
— Дак чего ты меня мутишь? Чего еще разговоры разговариваешь?
— Васютка, родненький ты мой, незадачливый мой!..
— Ну тебя с присловьем с твоим! Схилел от простуды в грудях, а ты со мной, как с юродивым... Эх, Вирка, недоброе сердце в тебе живет!..
— Нет, доброе, только без обману, без лукавости! Всю думку выдает. Жалко мне тебя, крепко жалко, а не люб ты мне. Кабы тебя не было, я бы с этим барином еще раньше...
— А сейчас все слажено?
Усмехнулась невесело:
— Нет, опять ты помешал! А сейчас думаю, што и совсем без него можно.
— Вирка, вернись к нам в нашу избу. Я слова не скажу... Ни словом, ни глазом не попрекну!
— Нет, невмочь мне, Василий. Я к тому говорить тебе стала: понатужься, забудь про бабью плоть, отдохни. Хилой ты, а жадный. Зачем? Отдохни. У меня бы сердце за тебя полегчало. От бога отшибло меня, а вот про тебя думаю: может, в монахи тебе податься, а?
— Ах ты, стерва, сволочь! Тебе блудить, а меня в молитву толкаешь — сушиться? Я тебе покажу-у!..
— Отдвинь! Убери, говорю, руку-то свою. Меня не осилишь. Видать, нету с пользой слова у человека, когда делом помогчи силов нет. Айда по домам. Не об чем больше говорить. Всяк по-своему, по-старому маяться будем.
Встала и пошла.
Взмолился:
— Вира... Виринеюшка! Одна ты желанная...
— Не канючь! Чего надо тебе — нету у меня для тебя. Жалости моей не принимаешь. Чего же размусоливать?
Пошла к селу быстро и легко. Васька было за ней кинулся, потом обземь ударился, лег в свежую волнующую землю лицом и затих.
Вирка у околицы инженера встретила. Быстро кружил, в жарком нетерпенье вышагивал. Сказала ему сухо:
— Иди домой, Иван Павлович. Неохота мне сейчас с тобой миловаться. С Васькой растревожилась.
И холодными протрезвевшими глазами в лицо его поглядела.
— Вира... Но ты придешь? Ты обещала мне...
— Пообещала в дурной, нерассудливый час. Еще такой накатит — может, и приду. А все-таки не жди. Облюбуй себе другую какую. Не ходи за мной, мне в другой конец.
Дома рвал и метал, деревенская баба, и так им вертит! Невозможно, противно, унизительно! К черту, к черту ее!
Сел на коня, верхом в участок к образованным своим знакомым поскакал. Но и со свояченицей начальника участка, и с учительницей, молодой горожанкой, не развеселился. Сумрачен был, и сердце томилось нежной, тоскливой любовью к Вирке.
А Васька долго за селом лежал. Темнеть начало. Холодком проняла еще не распаленная, выстывающая к вечеру апрельская земля. Но встать трудно. На теле — как путы. Сердце будто в обруче тесном. Тяжело дышать и немило глядеть на божий свет. Подняться заставил густой хриплый пьяный голос:
— Это што за п-падаль валяется? А?.. Живой? А я думал...
— Это я, дядя Савелий... Отдыхал.
— «Я... я!» Вижу, что ты... Повитухин, что ль, отродыш? Ыгым... узнал. Выродила молодца ведьма ласковая. Ну, что стоишь? Проваливай.
Потом, вспомнив, крикнул отходившему Ваське:
— Кержачку твою с инженером видал... Вздуть за тебя хотел. Не за тебя, а за барина того. Не то вздую, — убью-у! Не ее, а барина. Вальяжный больно, а блудник. Мужик с тоски грешит, а эти с сытости. Н-не люблю! Убью-у!..
Васька вернулся, с тоской сказал:
— Дядя Савелий, дядя! Избей, ей-пра, избей когда-нибудь! Грех от них и обида. Большая обида! Я бы сам избил, да хворый я. Силы нет у меня в руках. Эх, что ж ты сегодня не поучил? Средь бела дня прохлаждаются всем людям напоказ. Э-эх!!!
— Взгомозился как! Чужой силой отбиваться охочи. Ну и подлец человек пошел! Чего раскорячился? Уходи! Неохота мне тебя бить! Неохота... Тебя ногтем надо давить... Ну? Могу и побить! Уби-ить могу! А, бежишь, испугался!.. Тоже крепко за землю держишься! А я не держусь, она меня держит... Убью. На этого руки зудят!! Энтих бить буду! Не желаю их тут!.. Девок наших портят... Убью!
Василий бежал заплетающимися, слабыми ногами. Одним прыжком мог догнать его Магара. Но громко сплюнул и пошел в другую сторону.
Через неделю ночью возвращался инженер верхом с участка. Было уж близко село, и он ехал шагом. Поводья в руках чуть держал в тоскливой рассеянности. Не хотелось возвращаться в большую, пустую и скучную комнату свою при конторе. С утра сегодня томило его совершенно новое ощущенье тоски. Не думал о Виринее, ни о ком, ни о чем определенном. А просто ощущал почти физически груз какой-то на себе. От этого груза нескладная тоска. До жути.
«Заболел я, что ли? Или с ума схожу... А-ах, дышать трудно...»
Объезжал работы. Десятники дивились непривычной его рассеянности и вялому, сгасшему взгляду. Дома один сидеть не мог. В гостях не отпустило томительное ощущенье. Гнал быстро всю дорогу, домой спешил. А подъезжать к селу стал, назад повернуть захотелось. Размяк как-то весь, опустился.
Вдруг лошадь взметнулась на дыбы. Инженер вылетел из седла; на ноги встал быстро и легко. Лошадь неслась в сторону от дороги.
— Стой! Тпру-у!
Хотел кинуться догонять. Но вздрогнул сильно, всем телом, сам — и остановился. Огромный лохматоголовый мужик вырос перед ним. Будто внезапно родился из темноты.
— Раскатываешь? Разгуливаешься? Сукин сын, сволочь! Для разгулки здесь поселен? Штобы девок портить, баб хороводить сюда прислан? А?
Услышав хриплый, страшный, но живой человеческий голос, инженер взбодрился:
— Убери руки, негодяй! Лошадь испугал. Прочь с дороги! Что тебе надо от меня?
И торопливо вынул из кармана черный, короткий, но крепкий револьвер.
— А ну вдарь... Пошибче вдарь! Стреляй! Я те кулаком дам острастку! Учуешь, каково легко убить Савелья Астафьева Магару. Ну?
— Пусти... Пусти-и руку, пьяный черт! Ну-у?
Выстрелил в воздух, но в тот же миг зашатался от удара в висок тяжелым кулаком. Покачнулся, взмахнул руками, заплясала темнота перед глазами. Но на ногах выстоял. Револьвер из рук выпустил.
— А, мерзавец! Драться вздумал?!
Вцепился одной рукой в бороду Магары, рванул с силой, вырвал вторую руку и с яростью стал отбиваться от ударов. Старался дотянуться до земли, чтобы поднять револьвер. Но Магара придавил его и свалил совсем на землю.
— Сильный... ч-черт! Отъелся на хороших харчах. А вот... вот... Еще получи! Отбиваться? Н-нет... от Магары не больно отобьешься. Что сердце, что рука... н-на! Получи!.. У меня чижолые! А н-ну... р-раз!
Рукояткой схваченного с невероятной быстротой с земли револьвера Магара ударил с силой в затылок инженера. Тот дернулся в живом последнем вздроге, молниеносно и остро ощутил запах земли и какой-то близкой ароматной травы, без мысли, ощущеньем, ярко увидел или вспомнил что-то, о чем надо крикнуть, что надо выдохнуть. Но не крикнул и не дохнул. Остался лежать на дороге недвижный, невидящий, неживой. Опустошенный мешок человечий.
— А, готов! Убил... Еще убью-у! Не с того, што хилой тот просил... Д-да...
Крепко и крупно шагая от трупа, бормотал глухо невнятные слова. Не то каялся, не то торжествовал и грозил. Но шагах в десяти вдруг остановился, застонал, швырнул с силой в сторону револьвер и бросился бежать. В степь, дальше от села. Бежал быстро, но зорко видя все вокруг и слушая темноту напряженным ухом. Как убегают от неволи или от смерти.
VII
В свой срок залегла зима. Деревня завернулась в снега, в короткие буранные или морозные дни, в долгие ночи с томительным тяжелым сном в закупоренных избах.
Порядок зимней жизни мужичьей был прежний. Только мало свадеб играли.
По ночам, когда на высокой горе за селом, в степи за горой, на реке и в лесах творилось холодное торжество сиянья белых снегов и тишины, деревенская улица по-прежнему нарушала это торжество буйством гармоники, песен, женских криков и вдохновенно-яростной брани. Но совсем мало осталось на улице холостежи. Кружили на ней в невеселом разгуле бородатые семейные люди в годах и прибывшие на побывку солдаты.
Было больше драк, лихого свиста, бабьего визгу, но рано затихала гулянка, и девки возвращались домой нерадостные. Гульба не тревожила спящих в домах. Только в школе на выезде пугливо вскакивала с постели новая учительница, молоденькая горожанка. Осматривала болты ставень, крючок у двери и плакала. Да Мокеиха в своей избе ругалась, вздыхала и молилась. Скорбь и боль отшибали у нее сон. Опять одна зимовала. В острог взяли Ваську, хоть в день убийства инженера и всю ту ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться легко было, но сам Василий в перепуге запутался. На Магару хотел подозренье высказать, а вышло, что сам Васька на убийство Магару подговорил. И чем больше допросов, тем хуже. Совсем запутался. В поклепе на Магару стало начальство сомневаться. Так и умер Васька в остроге завиненным.
Акгыровцы про Магару и верили и не верили. Но никто не хотел, чтоб его поймали. Тогда снова начнется канитель. Акгыровских и так замаяли допросами. Теперь затихло дело. У инженера родных, видно, нет. Никто, кроме начальства, разыскивать убийцу не старается. Как умер Васька, ничего не стало слышно ни про следствие, ни про суд. Только охрану на постройке усилили. Инженеры стали тоже опасаться. Зря в поздний час остерегались раскатывать.
Вирку скоро обелили. Из города прислали как беспаспортную под здешний надзор на родину. А теперь, слышно, и документы есть у нее. Родня, понятно, к себе ее не приняла. Да она и сама не охотилась. На постройке работать стала. Зимой постройка на многих участках остановилась. Но около Акгыровки гору пробивали, туннель проводили. В бараках с беженцами Вирка теперь живет. Шибко гулять начала. Каждый праздник пьяная и буйно веселая. Между бараками за деревней своя улица. На ней пляшет, песни поет и с мужиками разгульными и с рабочими гуляет. Господ, на диво всем, не допускает к себе, хоть многие из них любопытствовать стали. Сам земский приезжал в кухарки нанимать. Она к нему и разговаривать было не пошла. Силком притащили. Поглядела на него с усмешкой, пригладила растрепавшиеся волосы и сказала:
— Ты — начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет никакой, потому что мне уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю.
Это при троих мужиках да при уряднике. У земского краска в лицо пятнами кинулась. Сам себя в расстройстве за светлую пуговицу дернул.
— Что за околесицу несешь? Я и не думал грозить или звать насильно. Мне кухарка опытная нужна, вот и указали на тебя. Прошу прекратить глупые эти... возгласы. Не хочешь наниматься, не надо! Я думал, ты нуждаешься в работе.
— Работы на наш горб хватит. Вашему брату из-за работников за столь верст колесить не надо. Под боком найдутся, на слушок сами издаля спину свою притащут. Не ходит ведь хлеб за брюхом, сказывают. А я тебе не на работу, а на усладу...
— Пошла вон, дура! Такая дерзкая, скверная баба! Ты у меня смотри!..
Отозвалась от дверей. Не зло, а так — будто сама с собой говорила в раздумье:
— То-то, говорю, смотреть нечего. Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь. А тебя ославлю не по-хорошему. Заступников себе, коль захочу, найду. Видно, медовую больно мать меня выродила: и городские начальники липнут. Не топочи, ухожу!..
В большом расстройстве уехал. Думали: конец Вирке. Сошло. Начальник и тот вязаться с ней побоялся. Или забыл. Слышно, докторицу молодую в больнице облюбовал, с ней утешился. А Вирку для услады в прислуги нанимать еще один барин приезжал. Из дальнего участка, над многими инженерами главный. Строгий, с сединкой, господин настоящий, чистей всех здешних господ одетый. Руки держит так, будто замарать о других людей боится, и голову высоко несет. А к Вирке ласково, с усмешкой в усах, подсыпался. Вирка сразу его не отшибла. Спросила:
— А сколь жалованья положишь?
— Я, право, не знаю... Скажите, какую сумму вы считали бы достаточной? Готовить вы умеете и вообще... моим требованиям, кажется, удовлетворяете. Я люблю хороший стол и аккуратную, чистенькую, здоровую прислугу.
— Это уж как есть. Видала господ-то, — чую, что вам надо.
— Ну вот. Очень рад. Я не скуп. Вам согласен платить двадцать рублей ежемесячно. Ну, разумеется, на всем готовом. Только предварительно я вас попрошу сходить к врачу, нет ли у вас чесотки или еще какой инфекции...
— А семейство ваше сколько человек?
— Я один, без семьи на постройке. Вам не будет тяжело.
— Какая уж там тяжесть, одна сладость выходит. А прежней-то своей стряпке столько платили?
— У меня повар военнопленный. Да вы не беспокойтесь: я говорю, что не скуп. Ему платил десять, а...
— Мне, стало, за бабью мою плоть десятку прибавки. Эх ты, лафа бабам! Ну, я гляжу, у черного народу совесть потвердей господской. Жидка она у господ, са-авсем жидка...
— То есть, позвольте... Я не совсем вас понимаю... Как?
— Из ученых ученый, а непонятливый. Семейство у него есть, а бабу-гулену не для блуда, а для святости жить в свой дом зовет! Нашинскому, из черного народу, совесть не дозволит про эдако дело голосом даже таким договариваться. Вот с того и мутит меня от вас. Эх вы, господа! И в пакости — чисто в святости. Это только низкий народ грешит, а вы и в грехе спасаетесь. Я те разумытую харю твою разделаю. Навек отметины останутся! Я те приголублю, старый хрен! Не крича-ать? Эй, бабы, айдате в эту горницу! Скорее айдате, поглядеть, как господа... Не бежи, растрясешься, навоняешь! Шкодить охота, дак ты так и сказывай, а не сиди с хорошим лицом, чисто хорошей жизни старатель.
Господин после рассказывал, как он от сумасшедшей спасался. С придыханием, сразу теряя важеватую манеру свою:
— Это удивительно! Положительно буйное сумасшествие! И притом эротомания... Удивительно — в простой среде такая изощренная... эротомания.
В деревню Вирка не ходила. И деревенские от нее сторонились. Баба такая, что лучше подальше от нее. Еще в какой-нибудь суд да следствие втянет. При встречах без разговоров и приветствий обходили. Только Анисья одна, бабенка отчаянная, раз из-за нестерпимого любопытства к Вирке в бараки в праздник прибежала.
В недлинные два ряда вытянутые бараки, похожие на кирпичные сараи. Маленькие слепые окна на самой земле. Теперь снегом чуть не наглухо забиты. Отрывать приходится, чтоб не сидеть и днем в темноте. Скаты у крыш крутые и остроребрые, как у скворечниц. Рухлядишка домашняя прямо на воле за бараками валяется. Дворов нет. А поодаль недостроенный высокий дом для будущего полустанка.
Пустыми, без окон еще, глазницами своими на норы человечьи пялится, крыльцом без дверей щерится. Около него на бревнах сбились кучкой мужики-беженцы и три военнопленных в чудных коротких шинелях, а поодаль — бабы. На солнце в нынешний теплый день из щелей своих повылезли. Анисью оглядели прищуренными от яркого снега глазами. Между баб живой говорок пробежал:
— Здравствуйте-ко, бабыньки! И где тут Вирка нашинская живет?
Молодая беженка, с головой, как колесо, от чудной нездешней повязки, из платка остренькое лицо выставила и засмеялась:
— За бараками, с той стороны пошукай. Где пляс да гулянка, там и живет.
Но Анисья зоркими глазами уже видала далеко впереди Вирку. У барака стояла. Когда Анисья подошла, не услышала сразу. В сугробы, в степь смотрела. Лицо у ней было суровое. Бороздинка меж бровей резко обозначилась. Будто искала глазами чего-то в сугробах тех. Не нашла и шибко оттого растревожилась. Шубенка на ней была старая и платчишко на голове потертый, замазанный. Анисье неласковым ответила голосом:
— А-а, здравствуй, коль не шутишь. Чего пришла?
— Ишь ты, как заспесивилась! Поглядеть пришла, как живешь в развеселом-то житье. Чего башку воротишь? Я к тебе с хорошим словом, как бывалыча, а ты рыло в сторону. Другие-то бабы плюются, как кто заикнется про тебя, а я...
— А у тебя слюней мало! Жалеешь? Чего ты, Аниська, прибежала ко мне? Поглядеть да потом языком чесать? Ну, гляди. Не впервой видишь. Какая была, такая и осталась.
— Нет, не такая. Поплоше и злее. Зря ты так-то со мной! Видно, девка, не сладко тебе и тут. Чтой-то ты обряду-то себе хоть не справишь? И в бедном житье ране почистей ходила.
— А кому обряда-то моя нужна? Да не больно много капиталу у меня, чтоб наряжаться. На харч достает, и то ладно.
— Вот, Вирка, с богом-то спорить как! Охальничаешь перед ним, не молишься, не каешься, он и забижает тебя. Нету тебе долюшки, так катает тебя по разным местам. Э-эх, горькая твоя жизнь, баба! Право, горькая. Я позавидовать было шла, а теперь гляжу — плохо живешь.
— А ты больно хорошо? Все под богом плохо живут, Анисья. Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подальше загоняет, штоб не точила. Вот как ты.
— Чего это я плохо? Слава богу, в достатке и в своем угле. Без слезы, без хворьбы, знамо, живой не живет. Разве, может, господа, а наш брат не живет. Ну-к што ж? Я хорошо живу.
— И господа на таких же дрожжах, как мы, всходят. От бабьей да от мужичьей плоти. И у них печенка человечья тревожливая. Плачут и хворают. Как не плакать и не хворать? Только продовольствия себе много захватили, дак в сытом житье живут. Плакать-то плачут, да только от зряшного. Нам бы сейчас на их кус, дак мы бы не плакали.
— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты от роду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак, по крайности, гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька-то во город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Што тебе обувка, што одежа, — завидки берут глядеть! А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело пошло, дак, по крайности, с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут.
— А ты што же со своим австрийцем без пользы спишь? Тоже взяла бы да наживала на этом деле.
— Ат сравняла! У меня дом, хозяйство не порушены, и на улке петь — пою и плясать — пляшу, а на гумно лежать с разными не хожу. Астриец што ж! Грех мой один. А так я венчанная мужу жена, детям мать и дому хозяйка. И всяк скажет: пакостлива бабёнка, а шлюхой не назовет.
— Зовут. Я слышала, да ты и самá слыхала.
— Дак то со зла когда, а все одно мир меня за мужнину жену почитает, кличет по мужу, и я вровень с другими бабами иду. Не то есть грех, не то нет, — еще бабушка надвое гадала. Никто меня за ноги не держал. А если я тебе сама што болтала, дак, может, так, для веселости задуривала. Поди-ка докажи! А твое дело другое: все напоказ. И с Васькой, и с инженером с этим, и теперь. Не хочешь, да видишь. Одна такая во всей деревне, как бельмо на глазу. А на славу на такую шла, на страм перед людьми, дак уж за чего-нибудь, а не дарма. А деньги, да одежу, да домашность заведешь, дак и при твоей жизни другим глазом мы на тебя глянем. За спиной скажем потаскуха, а в глаза: Авимовна. Нет! Нет, Вирка, зря ты на меня косоротишься. Я тебе для твоего же добра советы даю. Другая так с тобой говорить не будет, а у меня сердце ласковое. Я никому зла не желаю.
— Ну, а у меня, Анисья, на эдакую ласку сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай.
— Нет, не будет тебе доли. Ох, не будет! Больно уж занозиста. Высоко себя несешь, а все в дерьме хлюпаешься. Стой, стой!.. Еще на словечко одно.
— Еще не все выболтала? Много их у тебя. Такой же дешевый товар, как и ласка твоя. Чего тебе надо?
— Чего ты от господ шибко отбиваешься? Вот я никак не смекну. Желанного одного и середь мужиков у тебя нет. Ай по Ваське мозглявому после время сохнуть зачала, ай тот барин чем шибко изобидел, а?
Вирка скривила губы, глянула в любопытные Анисьины глаза и крикнула злым высоким голосом:
— Уходи, трепалка долгоязыкая! Не тебе на духу буду выкладывать, кого жалею, с чего пропадаю. Ну, повертывайся! И дорогу ко мне забудь. Был час, когда и ты мне мила была, а сейчас никто не мил. Сдохли бы вы всей Акгыровкой, я бы возрадовалась. Черт меня привязал к вам!
Круто повернулась и быстро в барак ушла. Целый день в углу своем на тряпье ничком пролежала. Баба-беженка, по бараку сожительница, долго на нее глядела. Потом спросила удивленно:
— Когда же ты, красавица, напиться-то успела? Я и не видела, а?
Не дождалась ответа, сплюнула и из барака ушла. Все разбрелись, одна Вирка осталась да трое ребят. Назябшись на улице, на печку забрались, там шумели. Когда Вирка поднялась, старшая из троих, восьмилетняя Грунька, спросила:
— Отрезвела, тетенька? Гулять сейчас пойдешь? Мамка сказывала — купец около барака вьется, все тебя нюхает. А мне чудно! Чего же это он нюхает? Ходит да нюхает!
И засмеялась звонким детским смехом.
Вирка вздохнула и сказала устало, врастяжку слова:
— Ты не слушай, Грунька, чего большие бабы болтают. Не пересказывай мне. Мала еще, чтоб ихними пакостными словами мараться. Ну-к, подвиньтесь, я с вами на печке посижу, погреюсь. Понастроили нашему брату хорому, со всех щелей дует, а от солнышка в земь запрятали.
Грунька подперла щеку рукой и сказала по-взрослому, по-бабьи подхваченные сегодня на лету слова.
— А на улке-то тепло, солнышко нынче уж на весну, веселое...
И другим, живым, своим голосом спросила:
— А чего ты нынче не гуляешь? Ох, и чудно ты песни прошлый праздник играла. Пья-а-ная!..
Опять хохотом веселым залилась. И оба мальчишки, поменьше, вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза большие стали нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуться, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:
— Грунь, про «Золотую зыбочку» сказку слыхала?
— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи.
И мальчишка постарше поближе придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовным взглядом и певучим, хорошим голосом сказку рассказывала:
— ...и скучно ей стало, и запечалилась, тишком слезу лила, тишком тую слезу рукавом смахивала, и вот спрашивает ее...
В эту ночь Вирка гулять на улицу совсем не вышла. Трезвая и сумрачная, рано спать легла. Но долго на тряпье своем ворочалась.
VIII
Еще холодом бело и твердо дышали в степи снега. И в деревне, и в бараках за деревней еще глухи были навалы сугробов перед окнами.
Но дольше и горячей солнце в землю вглядывалось. И с теплой стороны ветер жаждущий стал налетать. Пил снега. Еще не опали, но раздрябли они. Веселей засуматошились воробьи. Меньше лежала, нетерпеливо двигалась в стойлах и слышней свой голос давала скотина. Охотней на волю из жилья выходил человек. Глаза человечьи к небу чаще тянулись. В набухшей облачной серости искали легкую синь.
В праздник сретенья тепел и весел день на землю сошел. Даже отдыхать после раннего обеда мало кто залег. Все на улицу выбрались. Но еще до полдня прокатила по Акгыровке пара тощих от частого разгона земских лошадей. Колокольчик прозвякал. Около сборни замолк. Народ на улице затревожился. Староста, кряхтя, с завалинки поднялся.
— Не то начальник, не то из земства рассказчик. Сгонять поди опять в сборню народ надо. Эх ты, зачастили, прямо роздыху не дают.
И, сердито стряхнув с тулупа налипший снег, неохотно к сборне пошел. А через малое время мальчишки под окнами забегали. Весело в стекла постукивали и звонко выкликали:
— Дядя Силантий, на сходку-у!..
— Тетка Матрена, посылай мужиков в школу на сход. И сама иди! Баб тоже оповестить наказывали!
— На сход, в школу-у...
— Айдате в школу! Из городу начальник высказывать буде-ет!..
Даже к Мокеихе востроглазый, развеселый в рваной мамкиной кофте заглянул:
— Баушка-а! Не спишь? Айда на сход, я всякую бабу зову. Велели, дак чего не звать! И старух зову-у.
— Напугал, окаянный! Базлает дуром. Нешто опять наехал кто?
— А ну да... Чать, про войну-у высказывать будет. Мо-же, с картинками. Сыпь, баушка, в школу скорей.
— Вот сейчас так и посыпала, дурак ты пучеглазый. Нужны мне твои картинки да пустобрехи городские. Закрой дверь, не выстуживай! Я вот те дам подзатыльника горячего. Нужен ты мне с оповещеньем с твоим.
Но оделась и пошла. И все с ворчаньем, будто нехотя, но в школу шли. Много народу набилось. Дело праздничное, можно поглазеть и послушать. Кержаки пришли. Из бараков гольтепа в школу набилась. Виринея протолкалась молча к окну, в лица встречных не вглядывалась.
Топтались плотной толпой, ругали приезжего из земства, в старостиной избе замешкавшегося. Но ругань вялая выходила, без горячности. Привыкать стали уже к беспокойству наездов господ из города. В начале войны только по волостным селам ездили. А теперь стараются — и в такие деревни, как Акгыровка, наезжали уж не раз.
Только старик Федот настойчивей всех шамкал горькую укоризну:
— Сколь теперь начальников развелось! Беда! И все разного сорту, не подладишь никак. Ране-то знали станового да земского. У их с мужиком разговор хоть крутой, да недолгий. А теперь из этого из земству больно разговорчивый начальник пошел... И на всякое дело особый свой. Агроном там, скажем, скотий дохтур, бабы ездиют воспу ляпают... А мужик все вози, всех катай, ублажай... Што ни дале, то чудней. К чему делу какой над мужиком поставлен — и не разберешь. Теперь из книжки читать, про войну сказывать — опять отдельные начальники. Не вздохнешь, не охнешь без начальнику. Должно, от войны все образованные начальниками сделались.
И, покачав головой, на батожок свой потверже оперся. В тягучую старческую думу об изжитом, оттого уже больше нетревожливом, погрузился. Старые глаза тихо живут. Притушенные усталостью, новых видений не ищут. Дурное и хорошее, их взгляду видеть в жизни положенное, уж отглядели. В бестрепетной тусклости успокоились. Но сердце до конца, пока совсем не заледенеет в жилах кровь, тревожится. От новых забот и себя и всех вокруг оберечь хочет. Оттого, когда пришел и стал громко высказывать худощавый приезжий с вихрастым чубочком над озабоченным лбом, Федот ухом слышал его слова, но думал о своем и часто тяжело вздыхал. Проще раньше жизнь в округе шла. Жили здесь от городских людей, от крупных начальников, от царя — далеко. Горами, логами, буераками, речушками без мостов, лесами низкорослыми, но густыми и верстами степными, лукавыми от них отгорожены. Лихую трясучку летних дорог, внезапную ярость буранов на зимняках только становой с земским нечастыми наездами осиливали. Оттого разномастный, разноязыкий народ жил здесь под начальством мелким. Под урядником старшиной и писарем волостным. Правда, от мелкости своей оно было старательно лютым. И даже беспечальные башкиры твердо запомнили сроки, когда надо в волость «темную» (взятку) везти. Хворая глазами мордва научилась издали писаря узнавать. Длиннобородый важеватый кержак и тот по часу нужному сдавал. Табачное зелье для староверского нюху неспособное, в своем поселке на въезжей волостному начальству разрешал. Только взглядом, в угол сердито отведенным отмечал обиду сердца своего. Но без этого нельзя. Начальство над мужиком ставится не для услады, а для надсады. Но та надсада, как старенький разношенный хомут, уже привычной была. А теперь, как царь на войну разохотился, во все стороны рукой достал, мужиков на свое дело собрал, еще невиданная колгота пошла. А для той колготы и начальников много понаставили. Сходами замаяли. Докучают шибче станового. Тот дал в ухо, получил за старанье свое приношенье какое из мужицких запасов и дальше ускакал. Дело свято. В голове позвенит или зубу не досчитаешься. Что ж! Зато сразу отмаялся. А на этих и расход идет, и еще подолгу гомозят. Вот такие, как сейчас, все ездят, воевать уговаривают. Ишь вон нажаривает: Сербия да Бельгия. Своей докуки не скачаешь, а он про чужую зудит. Слово к слову ладно прикладывает. Ох-ох-ох, господи батюшко! Народу разного много ты, влады-ко, расплодил, а земли, видно, мало помастрячил. Все дерутся. Друг от дружки, один царь от другого, под свою руку землю отнять норовит. И мор на людей случается. На Федотовой памяти три больших навалки в могилы было, а все земли не хватает. И на войнах мужичья поубивали много. Считать коль только по своей волости, кто убит, кто от раненья преставился, кто без вести, в храбрых не сосчитанный, кончился, — длинно поминанье выйдет. А этот чубастенький разливается, как раз про храбрость русскую солдатью выкладывает. Ох, храбры, храбры, а поди храбриться тоже надоело! Смиловался бы царь-батюшко, как ни то подладил бы там за замиренье. Нет, не высказывает, не слыхать про мир!
И как бы в ответ на стариковы думы злой женский голос лектора прервал:
— Это нам уж сколь раз размазывали, про германский-то про плен. И картиночки казали, как он лих. А чего же, как из плену наш народ вызволять — ничем-ничего?
Лектор, перебитый на дрожащей душевной ноте, смолк и растерянно взглянул на толпу. Но быстро оправился и снова задушевным голосом отозвался:
— Позвольте, я сейчас... Кто-то мне вопрос задал? Я сейчас отвечу. Вот видите, братцы, сейчас меня женщина спросила... Спросила с сердечной болью! Женщина жена и мать, разумеется, несет на себе тяжесть нашей священной войны. Но когда война необходима для защиты...
Слушатели задвигались. Виркин вопрос разбередил. Прошел в школе не то общий сердитый вздох, не то гул от переговоров. Федот ближе к лектору подался. Ласково речь его перебил:
— Бабенка-то энта глупая в час слово-то сказала, ваше благородье! Бывает так. То-то, мол, бывает. Сдуру ляпнет малолеток или баба, а оно в час и нужным то глупое слово выйдет. К тому я, к тому, не гневайтесь, ваше скородье. Охотятся мужики узнать: про замиренье не слыхать ли чего? Слуху нет ли в городу?
И смятенным разноголосьем надвинулась на лектора толпа:
— Может, раздышку хуть какую объявят?
— У мене старшого, Митьку-то, убили, а сичас опять в письме: Васька шибко подстрелен. Чижало дело-то обертывается.
— Слышь-ка, как называть-то, не знаю, скажи-ко, голубь, игде хлопотать? Способье-то задержали в волости, а мужик-от отшибленный у меня. На войне то есть завалило его! Руками, ногами не владает.
Худая, желтолицая баба с огромным страшным животом на лектора надвинулась. Настойчиво и тоскливо спрашивала:
— Как приходил на побывку, адрест прописал: действующая армия, двести седьмогу полку... А Гришка конопатый оттудова сейчас: нет моего-то... Где искать? Во все розыски писала. Игде теперь искать? А?
Загудели тревожным, озабоченным гулом. Уж отдельных вопросов не мог лектор слухом уловить. В беспорядке врывались отрывочные слова:
— ...мир!
— ...нащет способья!
— ...ерманский город, не сказать мне, как его...
— ...посылку в плен надписать...
— ...сухари Ваньке посылали, не получил...
Ни о победах, ни о пораженьях, ни о ходе войны, ни о численности армии, ни о мощи ее не расспрашивали. Говорили, о малом. Каждый о своем. Разбивали расспросами армию на Митриев, Иванов, Васильев. А большое целое, как чужое, совсем умом не охватывали. Это дело начальников и царя: война, армия, победы, отступленья. А у них — Ванькина смерть, Петрухины раны и скорей бы конец войне. Это свое, кровное, что отдано ими для войны и счет которому в отдельности ведут они. Лектор растерялся. В городе совсем другое настроенье. Там понимают, что необходимо войну довести до победного конца. А здесь тупо галдят: мир, мир, считают изъяны только своей рубахи. Черт понес в это село! Предупреждали, что мордва... и вообще дикари. Вытер платком вспотевшее красное лицо и смущенно начал просить:
— Подождите, братцы... Постойте, я не могу сразу всем ответить. Вся страна стонет под тяжестью войны, но...
Не знал, как закончить сход, как к выходу пробраться.
В самое ухо ему звенящий Анисьин голос:
— Эх, кабы цари один на один дрались! Кто осилит, под того и мы. Нам все одно, мы не супротивимся.
Испугался. Вот до каких заявлений дело дошло. Втяпался в историю. За такой сход по головке не погладят.
— Погодите... Прошу вас! Староста!.. Где староста! Надо успокоить сход!
Но вместо старосты на подмогу рослый плечистый Анисим Кожемятов протолкался. Зыкнул:
— Потише, старики! Чего разбазлались! Диво бы — одни бабы, а то и мужичье без всякого порядку налетает. Дайте господину про дело рассказ кончить.
Привычная сдавать перед властным окриком, сдала и сейчас мужичья толпа.
— Постойте, тише! Не напирайте!
— Чего ты орешь над самым над ухом?
— А ну постой! Тише! Погоди!
— Да я разве что? Спросить у знающего человека хотела...
— Уж извиняйте, ваше благородье, коль что не так. Мы народ темный.
И в сникающем ропоте сгас шум искренних и страстных расспросов и заявлений.
Анисим Кожемятов, поглаживая полу праздничного своего пиджака, наставительно закончил:
— Как посчитать, дак всякому война-то не в сладость. А ничего не поделаешь, надо натужиться да одолеть врага. Нечего надоедать: когда мир да скоро ль отвоюют? Когда будет конец — объявят. Мужик для того и родится, чтоб землю пахать да на войне воевать. Богу надо молиться, на армию жертвовать, а зря галдеть совсем нехорошо.
И приободренный им лектор уже в покорной тишине закончил:
— Велики страданья наших солдат, но неустрашим геройский дух армии. И наша победа близка.
Когда распрощался, ушел, народ снова загалдел в школе и около школы на улице. Вирка сердито говорила на ходу беженкам из бараков:
— Намолол за три мельницы, да все не про нашинску нужду. Да еще про наше дело и не спрашивай! Ух, и зло меня забрало. Сгрести бы его тут да намять бока. Пущай хоть не под пулей, а под кулаками бы хуть помаялся. Небось сам в солдатах-то не был, в окопах не лежал.
Короткий мужской смех сзади всех четырех баб разом оглянуться заставил. Светлоусый, с бритым подбородком высокий мужик в солдатской одежде шел и смеялся. Спросил Вирку с незлой насмешкой:
— А ты лежала в окопах? Почем знаешь, — может, там сладко лежать-то?
— Для таких, как ты, сладко, коль сам тоже не лежал. Рожа-то гладкая! Видно, в городу в каких-нибудь сапожных аль в услуженье спасался. Чего-то и харю-то твою противную впервое вижу. Видно, не из нашей деревни. Пошел своей дорогой! Чего в наш разговор влезаешь?
— Уж очень ты спесива да задорлива! Да только без толку. Я на тебя еще в школе глядел, как ты шумела. А чего шуметь зря? Не мозгляк этот говорливый дело делает.
— А не он, дак пущай и не вередит. Чего ездиют, народ тревожат, над мужиком изгиляются? Эх, была бы моя воля...
— Ты бы сама царевать стала. А? Чьего ты роду-то, я тоже что-то не признаю. Эти бабы-то, видать, не нашенские, а ты ровно здешняя, а не припомню тебя.
— Вот привязался, липучий черт! Иди своей дорогой! Да за мной гляди не вяжись. Я эдаких вальяжных не люблю. Другие солдаты на войне маются, а вот эдакие на теплых местах спасаются. Тьфу! Ноги бы тебе переломать с разговорщиком с этим вместе.
Солдат засмеялся и в переулок свернул. А Вирка всю дорогу до бараков ругала его и лектора. Беженки, понурясь, необычно молчаливо шли. Их своя забота долила: скоро ль отправка на родину начнется?
Вечером тот солдат к баракам приходил. Вирка с кузнецом акгыровским, плохой славы мужиком, плясала и обнималась. Он поглядел и ушел. А Вирке сразу скучно сделалось. Оттолкнула кузнеца:
— А ну тебя, рыжий черт! Надоел... Одно, лапает! Жена хромая, не совладает с тобой, а следовало бы морду твою пучеглазую хорошенько набить. Чего к другим бабам вяжешься?
Тот еще больше глаза выпучил:
— Да ты же, Вирка, сама с охотой...
— А была охота, да пропала. Много вас, старателей под легкий-то под подол. Не вяжись больше ко мне, краснорожий! Другую игральщицу себе ищи.
Двинула под самые зубы кулаком, из объятий высвободилась и ушла с улицы. А в бараке у них, несмотря на поздний час, Анисья Вирку дожидалась. Глаза у ней были наплаканы и лицо вытянулось:
— А я было за тобой на улку идти собиралась. Да сердце у меня не хочет сейчас на веселье глядеть, — ну, замешкалась, подождала...
Вирка взглянула неприветливо и неласково спросила:
— Чего это ты сегодня расхлюпалась? Аль сударик побил?
— Не говори ты сейчас мне про него, не трави ты моего сердечушка! Ох, Вирка, горе-то у меня какое! Мужик, шибко пораненный, в городу в больнице лежит. За ним приехать наказал.
— В каком городу? Откуда ты узнала?
— А Павел Суслов вернулся нынче, наказ передал. Вместе, говорит, с им в лазарете в Москве их лечили. Павла вылечили, и ничем-ничего не видать, что больно ранетый был, а мой-то Силантий чуть дышит, сказывает. Отпустили домой, — все одно помирать! Пашку-то из города довезли, а моего на отдельной на подводе надо. Приезжать мне за им велел. Ох, головушка моя, ох, сердечушко в лютой тоске! Дождалась, домолилась! Може, только глаза закрыть и доведется мне...
Перешибло слова рыданьем. Но Анисья быстро слезы вытерла, заглотнула плач и снова заговорила торопливо и сбивчиво:
— Завтра чуть свет выезжать надо, а на кого спокину избу и хозяйство? Ребятишек-то куды ни то на время порастыкаю! И корова одна хворая, и за шараборой доглядеть надо. К тебе, Вирка, с докукой: айда подомовничай. Работа-то на дороге у тебя, я слыхала, поденная.
— И вовсе никакой нет. Из бараку-то гонют. Теперь на работу мало народу требуется, да и то мужиков, а баб не хотят. Слыхать, не будут нонешний год дорогу-то достраивать. Силов из-за войны не хватает.
— Да то и я слыхала! Так, сразу-то не сказала, а знала, что тебе податься некуда.
— В чайную на участок прислуживать зовут...
— Ну, уж ты для-ради Христа мне уважь. Дурная ты, а на хозяйство сметливая. А ведь, как сказать, и вгоре, а все одно по хозяйству забота свербит. Подомовничай!
— Мужики охальничать будут. Кабы окна из-за меня тебе не повышибали.
— Да я соседям всем поклонюсь, приглядят. Главно дело — корова хворая, а у тебя к скоту рука способная. Кузнеца-то своего уж как ни то ублажи, расстарайся. Аль кто там еще у тебя? Приластись хорошень, попроси: они заступятся.
Вирка усмехнулась:
— Да ладно уж, не учи! Сама отобью, сумею! Ладно, приду завтре на свету, коль уж дело такое.
— Да ты нынче айда со мной. С тем шла. Айда, ластынь-ка, шибко сердце у меня горе жмет. К Павлухе забегём, еще ладом расспрошу, как к мужику-то в городе доступиться. Айда собирайся скорей.
— А какие мои сборы? Добро не укладать, сундуков не запирать. Что мое, все на мне. Эй, Ульяна, слышь ты, я на деревню ухожу. Завтра на участок не пойду с тобой.
Шибко шли. Анисья на ходу плакала, слезы вытирала, вздыхала горестно и по хозяйству своему деловито распоряженья Вирке давала.
За два дома от своей избы Анисья в чужой двор свернула.
— Я сейчас у Павла поспрошаю. А ты иди в мою избу. Ребятишки-то одни. Не знай, спят, не знай, кричат. Астрийца-то ныне я со своего двора прогнала.
Вирка проводила ее взглядом и вспомнила. Так тот солдат Павел Суслов и есть! Мало и давно видала его, вот сразу-то и не припомнила. Царскую службу отбывал, а тут война. Четыре года службы да войны уж три без малого. Семь лет в своей деревне не был. Ну да, он же и есть. Баба у него летом померла. Ребятишки одни, слыхала, в избе отца дожидались. Вон что! Здешний, и с бедного двора, а несет себя высоко как. С неожиданной злостью подумала:
«А от войны, видать, все одно в спокое хоронился. Уж не знай, где это он раненный был. Шибко вальяжный».
IX
Неделя к концу доходила. Анисья из города все не возвращалась. Виринея и во дворе и в избе одна убиралась. К вечеру сильно уставала. Тяжелели ноги, и ныла спина. Но засыпала с горькой усладой: хоть чужим детям матерью эти дни была, хоть в чужом хозяйстве привычный крестьянский труд, как в своем углу, одна, без хозяйки, справляла. Первые ночи, правда, парни около двора охальничали. Непристойными словами Вирку на улицу выкликали. Одно окно камнем разбили. Но на вторую ночь Павел Суслов вступился. Не за Вирку, а за Анисью.
— Мужик на войне маялся, теперь помирает, а вы его хозяйство, сволочи, зорите. На сход вызову, старики в волости вас проучат! Чего? Меня послушают! Ты, конопатый, тут песни орал да с девками занимался, а мы с Силантием кажный день встречали: не последний ли? Не сметь у двора его похабничать! Надо вам эту бабу, — ловите на улице, а тут не страмите. Других солдат подговорю, и без стариков проучат вас за Силантия.
Парни, отругиваясь длинными матерными ругательствами, от избы Анисьиной ушли. Больше по ночам не тревожили. А кузнеца Вирка сама отвадила. Он ночью у избы Анисьиной пошумел, а наутро она в кузницу к нему пришла. При людях не постыдилась, голосом громким и твердым сказала:
— Я, Нефед, гулящая. Кажный хороший человек может меня страмить всяким словом, где ни попадусь. В глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь да отойду. Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудники да злыдни. Дак нечего и от меня хорошего ждать. Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями изнахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю.
Глаза у ней стали ярко-золотыми, жаркими. А лицо и губы побелели. Кузнец было радостно ощерился, как ее увидал, а теперь попятился. Сроду слуху не бывало, чтобы баба такие слова при людях мужику без опаски говорила! Чтоб стращала так мужика. В большом и сильном теле у Нефеда пряталась робкая душа. Куражилась только над слабыми, а от грозного напора сжималась. Сплюнул и сказал сумрачно:
— А на кой ты мне нужна!.. Без стыду сама притащилась ко мне среди бела дня. Убирайся, покуда цела!
— Я уберусь, только слово мое помни.
— Уходи, тебе говорят! Лезет сама на всякого мужика! Спьяну, может, и был какой грех с тобой, дак я об этом и думать забыл. Н-ну, проваливай!
Вирка тряхнула головой и ушла. Мужики загалдели:
— Воротить ее, стерву!
— Избить хорошень, чтоб не грозила. Па-аскудница!
— По старому обычаю как с такими ране поступались: избить до остатнего дыханья, заголить подол да на кладбище привязать к кресту. Пускай сдохнет в своей страмоте.
— Ну и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!
— Эдакой стервы во всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.
Но Виркино бесстрашие такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищенья. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не потревожил. На улице ночами Вирка больше не показывалась.
С Павлом встретилась на речке. Из проруби воду несла, а он к той проруби шел. Посмотрела равнодушно в его лицо и мимо было прошла.
— Стой-ко, спросить я тебя хочу.
Вирка приостановилась и спросила равнодушно и неспешно:
— Ну? Чего надо?
В эти дни отдыха от тяжелого хмеля, от ругани и шума барака, от радости труда, который считала своим, Вирка о мужиках не думала. И про Павла совсем забыла. Оттого и отозвалась без злобы, без привета и без вызова.
— Анисья приедет, ты как? Опять назад в барак уйдешь?
— В бараке-то место у меня, видишь, не откуплено. Рассчитали с работы. Может, в участок, где господа есть, служить. Может, в город подамся. Запрет-то с меня снят теперь, и документ есть у меня. А тебе что?
— А ко мне не поохотишься жить прийти?
Вирка посмотрела прямо и пристально в его светлые, спокойные глаза.
— Хорошей бабы-то разве не найдешь? Жениться тебе надо. У тебя дети, свое хозяйство.
— Женюсь еще, коль пригляжу для себя. А хозяйство невелико. Лошадь и корова. У людей кормились без меня. За прокорм заплатил, пригнал. Вот и все хозяйство.
— Дак и один с девчонкой управишься. Не такой достаток, чтоб работницу кормить.
— Без бабы нельзя. Женюсь, тогда и без работницы обойдусь.
— Девчонка у тебя большенька. Поди уж двенадцатый год аль боле? С ней управишься. Эдакая уже вполне схозяйствует.
— К тетке в город отправлю ее. Учить хочу. Два парнишки малолетних со мной только останутся.
— Ишь ты, тороватый какой! Денег, видать, много нажил? Девчонку учить! Уж хуть бы мальчишку, а с девчонки какой толк! Учи не учи, все одно под мужа пойдет, не сама голова.
— А уж это я по своему разуму. Как хочу, так и поставлю. Ты про себя говори. Неохота, что ль, ко мне? Так трепаться-то лучше?
Вирка сердито сдвинула брови.
— Не больно зарюсь на нежирный-то твой кусок. Поди-ко я баба бывалая. Знаю, что жить в избу к себе не на одну денную работу зовешь. А ночью, чать, ублажать себя заставишь. Ну, а я гулять — гуляю, когда захочу, а за кусок аль за подарки — на это дело меня не укупишь. Не пойду. Ищи другую.
Поправила коромысло на плечах и пошла.
— Погоди!
— Ну, чего еще?
Павел помедлил, поглядел на нее и сказал просто, хорошим голосом:
— Зря ты, баба, все назло себе делаешь. Где лучше — не надо: я, мол, возьму да в самое худо нырну. Слыхал я все про тебя. Говорить много неохота мне, а вот: ты работящая не вовсе истаскалась еще. Живи и работай по своему природному делу. Даром кормить не стану, я не купец, не барин. А за работу накормлю. Тем, что и себе поесть добуду. Насчет приставанья, ночного дела, — не зарекаюсь. Я молодой еще, ты молодая, рядом жить будем, как чать не распалиться? Но только говорю тебе: не снасильничаю. Не захочешь — не надо. Только уж, это тоже не совру, с другими мужиками, пока в моей избе живешь, тоже чтоб греха не было. Живи тогда сухо, спасайся. Для себя неволить не буду.
— Своя пакость не пахнет, чужая смердит.
— А уж это так. На другое я не согласен. Не стерпишь — уйдешь, не привязанная. А все хоть отдохнешь. И мне без бабы никак нельзя. С детями ты ласковая, я видал. Ты срыву эдак не отказывайся. Подумай нонче, а завтра скажешь.
Вирка мотнула головой. Потом тихо сказала:
— Люди смеяться нал тобой будут. Много тут шумели про меня.
— А с гого, что сама ты того боле шумишь. Поживешь тишком, дак люди к тебе потише будут. Я вот гляжу да думаю, что и об грехе своем ты больше шумишь чем грешишь. Много трепалась-то?
— Нет. С беженцем с одним, так на людях только со зла, а к себе не допущала. А с кузнецом вот правда. Только много я охальничала: пьяная на улице валялась и перед народом... нехорошо с мужиками озоровала. Да ты что меня, чисто поп на исповеди? Тьфу! И я-то расслюнявилась... Убирайся от меня, кобель ласковый! За тем же за делом ко мне, как и все, а с присловием каким! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Провались окаянный, хуже всех стервецов ты стервец!
Шибко крутым подъемом от речки шла. Тяжести полных ведер не чуяла. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы глаза застлали.
И ночью плакала.
Анисья вернулась домой с побледневшим румянцем и непривычно тихая. Лошадь во дворе распрягла сама, покупки в избу внесла. Вирку про хозяйство расспросила. И только тогда села на скамью у стола и подозвала детей. Стала их обнимать, гладить и голосить с положенным причитаньем:
— А и деточки, сиротинушки, да и на кого же спокинул вас родитель ваш, светик ясный Силантий Пахомович! Ой-й-ой-ошеньки, не ждала, не гадала, отколь и когда напала на сердечушко темна ночь. Голубь белый, желанный, соколик мой, дорогой супруг Силантий Пахомович! Ходят ноженьки мои, глядят глазыньки, а до тебя не дойдут, не увидят тебя боле, не приспокоятся. Ушел от супруги от своей, ушел от родимых малых детушек, ушел — и не будет назад. Залег в сыру землю-матушку, во чужом во далеком месте и на погосте не на нашинском. Накрепко залег, принакрылся землей, призаперся крестом, — не встанет, не взглянет, не покричит боле, не приластится. Отходили его резвы ноженьки, отработали рученьки, отглядели ясны глазыньки. Ой, тошно мне, тошнехонько и не мило глядеть на божий свет. Закрутите и мене в саван смертный белы рученьки, призакройте глаза, положите с им в землю-матушку. Не березынька в поле одйношенька трясется-качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, оземь бьется бедной своей головушкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твово голоса не дождется, не выпросит. Замолчал навек, успокоился...
Долго голосила. В ярких цветистых словах, в заунывном вое, в обильных слезах растворила скорбь, всю печаль и заботы вдовьей жизни высказала. Бабы в избу набежали. Когда иссякли слезы и слова, Анисья подробно рассказала про смерть Силантьеву, про город, слухи про войну. Потом тесто для поминок ставить стала. Хлопотливо закружилась по избе.
Виринея во дворе поила скот. Подумала о смерти Силантьевой. Вздохнула:
«Каждого ждет час, и никто не знает когда. Может, завтре вот я...»
Вдруг необычайно отчетливо, будто по-новому услышала мычанье коровы, живую возню свиньи рядом в хлевушке, ощутила запах навоза и снега и свое живое, горячее тело. Черным, холодным крылом в мозгу вдруг мысль: как же, как же это? Сразу застынут жилы, остановится кровь и уйдет все живое из глаз? Будет мычать корова, будет ворошиться свинья, в свой час согреет всех солнышко, а она, Вирка, будет лежать в земле...
Сильный страх встряхнул дрожью все тело. Бросила ведро и на свет, во двор быстро выбежала. Дышала так жадно, будто правда от смерти сейчас высвободилась. И до конца дня ощущала ясно и радостно крепкое тело свое. Думала ночью:
«И скот, и люди, и трава — все на земле на смерть родится, ну те хоть думой не маются. А человек обо всем думает, из-за всего старается, чтоб крепко да надолго. И короток живой час у людей, а мы еще сами себя тревожим, неволим, сердечушко свое травим».
Утром рано постучала в окно Павловой избы.
X
Павел вошел в избу как хмельной. На лице улыбка растерянная и глаза как пьяные. Вирка удивилась. Месяц доживала о бок с ним, ни разу пьяцым не видала. И от людей слышала: непьющий.
— Ты что, Павел? Выпил, што ли, у кого?
— Староста из волости вести такие привез, что все мужики, кто слыхал, чисто пьяные. Царя отменили!..
— Отмени-или? А как же? Другой, што ль, какой?
— Вовсе отменили, совсем без царя живем.
Вирка опустилась на скамью:
— Ровно на шутки ты, Павел, не охоч...
— Да никакие не шутки. Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вычитывать будет! Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался, а глядеть — посшибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю...
И вдруг добавил, будто невольно в радости открылся:
— Я-то знал... Ждали мы этого. Там, в городе, еще унюхали. Ну, здесь с двоими тишком разговаривали. А слушай, Вирка, мужики-то не испугались. Право, я диву дался! Нисколько не испугались, сдивились только: как же это, царя осилили?
— Да у нас глухо, все одно под кем жить, а по другим деревням поди воют и боятся. Ты нашему народу, вот мне хоть, лучше не про царя скажи, а становой как? Останется? Нашинское-то начальство прежнее будет?
— Да нет! Становой-то сбежал, а урядника в подполе сгребли.
— Вре-ешь?! Ну, вот это диво! Павел, это как же? Ну-к, где платок-то мой? На сходе-то когда вычитывать станут?
Народу в школу столько набралось, как никогда еще не бывало. Стояли на окнах, в сенях, у школы густой толпой.
Молоденькая белесая учительница слабым и дрожащим от волненья голосом читала:
— «...признали мы за благо отречься от престола государства Российского...»
В толпу доносились неясно только обрывки слов. Мужики задвигались. Один крикнул:
— Не слыхать! Не разбираем ничего. Мущине отдай!
И толпа подхватила:
— Пускай мущина грамотный какой прочитает!
— Ну, знамо дело! Какой у бабы голос! Только визгать может. А ясно, громко где ей выговорить!
— Да кабы еще деревенская. А у этой «ти-ти»...
— Городской жидкий голосишко!
— Айда, который у нас грамотный?
— Солдатов, солдатов вперед! Где солдаты? Они разберут!..
— Да и то впереде! Где им теперь стоять! Впереде и стоят.
— Пущай Пашка Суслов. Он шибко грамотный.
— Павел! Павел! Игде Суслов-то?
— Айда, вычитай. Ну, от этого услышим, глотка широкая.
Павел, приподняв плечи, со строгим лицом, зычно и отчетливо стал читать запоздавшие в Акгыровку манифесты и газеты. Долго читал. Все время напряженная тишина стояла в классе. Плотной молчаливой стеной больше часу стояли мужики и бабы. В такой тишине в церкви никогда не стояли. Расходились тоже необычно тихо, с приглушенным разговором. Только молодой безбровый солдат с девичьим лицом перебегал от одной кучки людей к другой и захлебывающимся голосом говорил:
— Названье «нижний чин» отменяется. Теперь почетное званье — солдат! Нижний чин — нельзя! Какой тебе нижний? А хто верхний? Нету больше нижнего! Эх-х, я в Романовку съездию. Энтот, Ковыршина Алексей Петровича сын, в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: «Степа, дай закурить». А он мне: «Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь!..» При всем при вагоне я как скраснел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь хто? Нижний чин... твою мать, нако, мол, выкуси! Был нижний чин, да весь кончился.
В эту ночь Павел с Виркой долго не спали. У них была общая постель. Тогда, как пришла жить к нему, спросил он ее, как спать укладываться собиралась:
— Ну, как ты? Хозяйствовать только пришла аль совсем, как к своему мужику?
Вирка помедлила ответом. Потом просто и тихо сказала:
— А ничего. Поживем вместе и поспим вместе. Только нехорошо как-то перед Анюткой. Большая уж она.
— Она уж спит.
— Все одно нехорошо. Я вот девчонкой в первый раз как мать с отцом заприметила, с чего-то совестно и туго так дышать мне стало. А я совсем чужая, и слух про меня нехороший. Обидно ей за отца будет. Первые-то обиды живучи. Погоди, приобвыкнет малость ко мне.
Но на ласку Виркину Анютка не поддавалась. Враждебными глазами за ней следила. На вопросы Виркины или совсем не отвечала, или бранью отзывалась. Когда увозил ее в город отец, она повернулась на дровнях и посмотрела на провожавшую их Вирку. Таким недетским, ненавидящим взглядом посмотрела, что у Вирки долго сердце щемило. И Анюткину детскую злобу как самое больное, как кару за грех своей жизни в сердце приняла. Пятилетний Семка и трехлеток Панька скоро привыкли цепляться за ее юбку, как раньше за мать цеплялись. Она их холила на диво другим бабам. Анисья при встречах смеялась:
— Мы и то толкуем, чтоб все вдовцы не женились, а гулену неродящую в матери детям наймали. Старательные попадают!
Издевались над Виркой недолго. Словами зря не сорил Павел, но слова знал веские. Оборвал одну, другую бабу — и притихли. У Вирки взгляд спокойней стал. Но как-то точно сблекла она в тихости. Говорила мало и часто подолгу задумывалась. С чего сердце в человеке такое несытое живет? Что ни подай, редкий-редкий раз взрадуется. А то все не то, все недохватка, горчит чем-то радость. Павел спокоен, на работу не ленив. Большой грамотности человек. Оттого, хоть беден, а люди не помыкают им. Побаиваются. И Вирку жалеет. В ту первую ночь, как Анютка уехала, с ним спать Вирка легла. Он так ласково с ней обошелся, что Вирка сдивилась. Даже Васька не смог так бережно и как-то чудно с нехорошим по-хорошему подойти. Словами Павел не нежил. Только и сказал тогда с горячим вздохом: «Милка ты моя!» А все же как-то, как с женой, прошеной, моленой, к первому к нему в постель легшей, а не как с гуленой залапанной. Вирка и обрадовалась, и смутилась как-то. Смущенье радость съело. И с того самого дня — как виноватая. Будто чужую обряду надела тайком на себя. Увидят — со стыдом, с поношеньем сдерут. От этого между Павлом и Виркой все будто что-то стоит. Обозлилась раз, взяла напилась, как бывало. Пьяная ночью долго кричала:
— Чего ты себя перед всеми, как царь, носишь? Думаешь, я не вижу. Думаешь, больно я уж обрадела, что при себе держишь? Противна мне харя твоя зазнаистая, повадка вся твоя тихая. Уйду завтра! Глядеть на тебя не хочу.
Он спокойно расстегнул ремень и погрозил ей:
— Замолчи, а то выдеру, как собаку. Глядеть на пьяных баб не могу, блевать охота! Ложись на печку и больше не верещи. Отрезвеешь, тогда поговорим. Может, и сам выгоню.
Голоса не повысил, но сурово и отчетливо сказал. Глаза встретились. Светлые его глаза потемнели. Но не разгорелись жаром, как у Вирки, а будто отвердели, без блеска сделались. И Вирка первая опустила свои. Наутро долго маялась, собиралась уйти, но не ушла. А Павел, как обычно, говорил с ней, о чем дело говорить выходило. И ночью в первый раз на плече у мужика Вирка плакала:
— Я и сама не знаю, как мне с тобой жить... Вот когда так, как сейчас, согласна ноги твои мыть да воду эту пить. А когда тошно мне с тобой, скушно, и убежала бы я от тебя, только бы не видеть.
Он отозвался тихо:
— Не мудри да не дури. Живи и живи. Работу справляй, детей моих обихаживай и об себе старайся. Ну, спать я хочу. Хватит разговаривать-то! Сроду с бабами так не валандался. Спи!
Так и жили. Будто дружно, а не вплотную. Долгих разговоров не разговаривали. А ночью и вовсе. На поцелуи горяч и ласков, а на слова скуп. Но сегодня, лежа рядом, долго проговорили. И Павел больше, чем Вирка. Про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал. Про всю жизнь. Отчего трудный век человечий для бедного, для низкого на земле и совсем лих. О мужиках говорили. Вирка слушала его слова, как песню на близком, родном, но все же не на своем языке. Звуком, напевом трогает, а слова не все поймешь. Оттого еще слушать и слова понять охота. Но днем опять мало с ней разговаривал. Потом в город поехал и целых две недели проездил. Прохарчился в городе. Пришлось овцу, которую было завели, продать. Вирка сердилась, но ему сказать не посмела. Не жена — на срок взятая хозяйка! Пусть как хочет. Опять друг от друга будто подальше подались.
XI
До самой весны суматошился по-новому народ. Сходы стали «митингами» называть, а мир «товарищами», а то «граждане». Слова новые по новости звонки выходили, как звякали: инструкции, резолюции. Учредительное собрание. Сперва охотно собирались, с горячности шумели. Потом уставать мужики стали. Выборы да съезды, а земля к посеву готовиться велит. Мало-помалу отставать от сходов начали. Да на деле, кроме выборов на всякие должности, ничего не переменилось. Товары в лавке на участке еще вздорожали. Еще меньше стало в продаже нужного для мужика. Гвоздей во всей округе не достать, и дорога соль. Земля, как была, в одних руках густо, в других маловато, а то и совсем пусто, так и осталась, а от колготы на сходах голова трещит. Старик Федот, постукивая батожком, сказал на одном сходе:
— Чего мы кажный праздник, чисто обедню, сходы собираем? И в будни почасту гомозимся на собранья на эти. Телеги ладить надо. Земля-то уж повылезла из-под снегу. У правильного мужика об земле на сердце-то зудит, а мы то, да се, да епутатов выбираем. Солдатье в деревню навалило а про мир не слыхать. Кабы опять не угнали перед самой перед пахотой. Айда слухайте, старики, мой совет: понавыбирали мы тут всяких комитетов. Пущай этот за старосту-то прежнего Пашка Суслов один на все отписывает. А насчет солдат старается, чтобы опять не забрали. И епутатов всяких на съезды сам назначает из зряшных из каких. Кому об земле да об хозяйстве заботы нет. А дельные-то руками и ногами отбиваются!
И взвалили все на Павла. Целыми днями в школе был. Господ из города еще больше наезжать стало, но сходы собирались жидкие. Только солдаты на короткий час замиренья требовать к разъяснителям из города, которых «ораторами» звать стали, приходили дружно. Но до конца разъяснений не дослушивали. Беженцы в бараках и Нижней Акгыровки беднота без сходу и без уговору каждый праздничный день у кузницы собирались. Галдели долго, бестолково и глухо о земле, о самосильных жителях с большим хозяйством, о том, что в других местах хоть у помещиков землю бедняки отобрали. А тут ничем-ничего! Земского начальника хутор — и тот трогать не велят. Охрану прислали. На Павла Суслова косо глядеть стали, хоть вровень с ними достаток у него. А побогаче люди, кержаки, с почетом, с зазывом к нему заходить начали. Он похудел, потемнел, домой возвращался злым. С Виркой сквозь зубы разговаривал и к ребятам неласков стал. В одно воскресенье очень рано поднялся, собрал мальчишек и велел на сход скликать:
— Не отставайте до тех пор, пока не пойдут. Павел, мол, нужное дело выскажет.
И когда собралось хоть не полно, а порядочно народу, громким и решительным голосом объявил:
— Вот вам, мир честной, товарищи граждане, все бумаги, разъясненья, положенья всякие. Вот и сельский писарь нашинский с ними, как и до революции был и при мне состоял, остается при деле. А меня увольте. Нет моего хотенья на это дело.
И сколько ни галдели, ни просили, твердо на своем выстоял:
— У нас с солдатами другие мысли.
Старый кержак крякнул и громко спросил:
— С ружьем землю отбивать будете?
— А это уж там поглядим, только я всем здешним не коновод. Поближе которые мне, к тем подамся.
Кержак зло отозвался:
— Какая ни есть суматоха, а за порядком следят. У кузни гляди не нагалдите себе чего на шею. Слыхал я. От войны согласники твои здесь хоронятся. Знаю, многим срок отпуску кончился, а которы и совсем без отпуску.
Солдаты загалдели:
— А ты над нами доглядчиком?
— Сам, старый хрыч, подайся на войну, коль охота больно.
— Мы проливали кровь! Хватит с нас!
— Коль навредишь — гляди, мы тоже острастку найдем.
Долго шумели. А потом все солдатье сразу ушло. На место Павла Суслова кержаки своего поставили. Павел со светлым лицом домой вернулся. Ласково Вирку по спине хлопнул:
— Разделался с одним мирским делом — за другое примусь.
Виринея засмеялась:
— Не терпит печенка! Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, да думаю — какая тó свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом нашего брата все зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти. Я радельника-то своего, дядю Антипа, встрела, дак не удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе придем. Равнять, дак равнять.
— Ну? Он чего?
— Выругался нехорошо, и глазами — как волк. А тронуть не посмел. Тут, я гляжу, хоть больно перемены жизни у нас не видать, а все время не то. Ране бы сгреб дак гляди и душу вытряхнул бы. А теперь шибко от меня подался.
Оба засмеялись. Павел ласково, по-новому как-то Вирке в глаза заглянул. Сказал:
— А ты мне, пожалуй что, не только по хозяйству, а и в других делах хорошей помощницей будешь.
Все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали. Мужики к Павлу с теми книжками заходили.
— Ни хрена не поймешь! Ну-к, гляди, как тут про землю обозначено.
Павел горячо за дело взялся. В партию большевиков стал народ приманивать. Порядочную кучу сбил. Солдаты почти все. Даже из богатых дворов мужичьих. С постройки народ гуртом. А мужики акгыровские бедного состояния разбились. Которые за Павлом, которые в школе у учительницы в социал-революционеров записались. Тоже много вышло, больше даже, чем большевиков. У Кожемякина состоятельный народ собрался, к господской партии тянул. Кадетами называли. Споры большие между народом пошли. До большой драки даже дело дошло один раз. Социал-революционеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой кулачной надсадой бились. Троих в лежку уложили. Но отдышались, ни один не помер. А раззадорила на ту драку Виринея. Отход от Павла мужиков, которые раньше около него сбивались, приняла как личную Павлу обиду. В горячах прибежала в школу, когда там кое-кто из них был. И с большой страстью, сильным голосом стыдить начала.
— Куды лезете? Воевать не надоело? Солдаты чуть передохнули, а сколь накалечено! Вояку-то главного, Николашку, сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же тугой хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала! За землю держитесь? А кто на земле хозяевать будет, коль война не скончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются. А вы... до победного конца! Гляди, дадут вам конец. Расшеперились, а сами на смерть лезете.
За больное зацепила, но оттого еще больше разгневались. К ученым бабам, мужикам, про общественные дела разъясняющим, примыкать уж стали. Но чтоб своя деревенская, да еще с зазорной жизнью недалеко за плечами, учить пришла...
— Ах ты, стерва... Чего еще разбирать-то могёшь?
— У большевиков все общее. Бабы, сказывают, общие будут, дак вот и охотится по прежней закваске!
— Чего с ней долго растабаривать! Сгребай, поучи!
Трое наскочили бить. В ярости с необычайной силой от троих мужиков отбилась. Царапалась, кусалась. Хоть с разбитым в кровь ртом, с подбитым глазом, с ноющими боками, но живая и некалеченая вырвалась. А мужики, раззадорившись, к кузнице пошли. Там и произошла жаркая схватка.
Павел ругал Виринею, плевался, а потом смеяться начал:
— Вот дак оратор! Шибко ладошами били... только по ораторовой по морде. Все-ем собра-анием...
— Не хайли! А то я хоть и подбитая, а и на тебя кинусь! Что ж что баба, у меня тоже в голове-то теперь не только об домашности дума. И сердце кипит. Дураки-то какие, ах! За войну с другими...
Долго на деревне Вирку бабы дразнили, как она мужиков учить ходила. Анисья даже плюнула с сердцем при встрече:
— Думала я все-таки, што толк в тебе есть, не вовсе дурная. А теперь гляжу: порченая. Совсем порченая. Не то, дак это, а никак не живет в лад с правильными людьми.
Виринея засмеялась:
— Что били меня, это, правда, зазорно! Вспомню, краска лицо жгет. А все одно: за что били, то еще попомните. За правду били, за жалость к нашему мужичьему положению. У меня сердце распальчивое, но тут я не шибко долго гневалась. Не от ума били, а от темности от нашей. Вот погоди, венчаться на красной горке думаешь, мужика к себе в дом берешь. А не осилят большевики, опять и другого на войну сдашь.
— Не каркай, ведьма! Не стращай! Солдаты все приходят домой. Один за одним разбегутся, и без твоих горлопанов дело исделается. А то поровну хочут. От одних отца с матерью ровны-то не родятся. А которы получшай живут, поболе работали. Тьфу! Заплевать бы тебе все глаза твои бесстыжие. Смеется, пялится... И куды лезет. И мужики-то поумней ни про какие партии слушать не хочут. Так, пустельга озорная занимается. А тут баба влезла. Наше вам.
И на ходу все плевала в Виркину сторону. Но что Вирка ведьма — сама уверилась. Вскорости после разговора с Виринеей новую полицию из городу прислали. Солдат в волость сгонять, чтоб назад в армию отправить. Полиция-то ни с чем тайком ночью обратно выбралась. А все же волненье пошло.
Пришел час, земля к себе мужиков затребовала. Сгасли в Акгыровке споры и разговоры. В жильном мужичьем труде про всякие перемены забыли. И малоземельные и батраки на чужом поле по-старому со всем соком, со всей силой в землю ушли. Брошенным без засева малый его надел только у Павла остался. На крестьянский съезд в уездный город согласился. От волости послали. И до самой осенней уборки жизнь в Акгыровке старым порядком шла. А осенью взбаламутились снова. Про выборы в Учредительное собранье шибко загалдели. Павел надолго в волостное село перебрался. Совсем отшибся от хозяйства, и лошадь продали. Последний запас хлеба доедать стали. Вирка по людям работать опять ходила: ребят надо было кормить. Хоть корили ее, но на работу брали. Коль хорошо для хозяйства старается, и сатану наймешь в жаркую пору. Павел опять в выборные пошел. Листки принимать для Учредительного того собранья в окружную комиссию. И это новое слово уж почти все в деревне узнали.
Поржавели листья у деревьев, стала стынуть земля. Солнце ласково тужилось, давало тепло, но уж чуялось, что не то оно, как летом. Смирное, без жаркости. И в воздухе печаль. Снимали хлеба. В осенней стрижке своей печальными стали поля. Павел из волости в Акгыровку приехал, листки с номерами привез. Много номеров, всех и не упомнишь, даже башкирский русским дали. В волость в назначенный день везти, в ящик складывать. Сначала шумели мужики, что не будут те листки отвозить, мытариться. Но опять суматоха за сердце забирала. Война все не кончалась. Из-за земли спор с башкирами пошел. Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названьем нерусским, под башкирской шапкой, ходила деревня. Ак-гырь — белая лошадь. Белолошадовкой надо бы звать. Аренда кончалась. Башкиры грозили землю отобрать, меж собой делить. И деревню русскую обещали совсем уничтожить. Жатву с горем и с боем снимали. И про войну, и про землю, мол, решит Учредительное собранье. Оттого, как близко время ко дню выборов подошло, затревожились. Стали списки разбирать, какой к чему. Один только можно опустить — выбирать надо. Бабы к Вирке забегали, чтоб разъяснила, какой листок опускать:
— Уж скажи, касатка! Как ни то помоги! Сперва было ровно совестно. Куды бабам лезть? А теперь мужики сами заставляют, а што к чему — не рассказывают.
— Вирка, какой из этих листков на конец войны? Ну-ка расскажи!
— Слышь-ка, мужик велел мне перьвый опускать. Мы, мол, с хорошим достатком, наш номер перьвый. А я к тебе тайком: сын у меня еще не вернулся. Ты мне скажи, какой большаковский-то. Я его тишком суну.
— Пятый, тетка! Суй пятый. Против вашего брата он, а все одно — суй. На конец войны он.
— А пускай против, там разберемся. Сынок-от бы хошь вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается, дак не то листка — ножа вострого не побоится. Пущай что хочут делают, только бы живой воротился.
Бабы горились, что цифирь разбирать не умели.
— Какой он тут пятый, разве упомнишь с непривычки. Другие-то изорвать бы, мужик ругается. Он за третий. Ну-к, Вирка, капни маслицем, который пятый. Я его и положу.
— Павел сказывал, выкидывать будут меченые-то.
— А небось не выкидают. Много ль грамотных? Все пометят. А ты легонько, чтоб сгоряча не увидали. Вот игде-нибудь в уголочку.
И Вирка капала. Помечала малой отметиной.
Ясный, ведреный, весь прозолоченный день выдался, когда подводы из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.
Волость — деревянный дом с высоким крылечком, на выезде села, почти в поле, окружен подводами был. Как табор цыганский, шумливый и пестрый. Крыльцо серело солдатскими шинелями.
В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов царя и царицы, большая пыльная икона и новые приказы, стоял длинный стол. Сбоку около него деревянный крашеный, из города присланный ящик. За столом, с деревянными от напряженья и важными лицами, сидела комиссия. Посредине председатель, учитель волостного села. У него был тик и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительно. Все время делал указания, как подходить, опускать. Лишние расспросы обрывал:
— Раньше надо было на собранье хорошенько слушать.
Павел, красный и потный, но с уверенным и спокойным взглядом, у самого ящика сидел. На улице и на крыльце стоял шум разговоров, восклицаний и смеха. А в горнице, где ящик, стояла тишина. Нарушали ее только подходившие к урне. Мужики подходили поспешным шагом, супили брови, опускали листок в молчанье. Бабы со сконфуженным смешком, с присловьем. Сначала молились в угол на икону, потом уж оглядывали ящик и дрогнувшей рукой долго толкали листок в отверстие. Почти каждая спрашивала:
— Куды класть-то? В этот в самый? А как класть-то?
Разбитная, смешливая солдатка опустила листок и, сверкнув смеющимися глазами, сказала:
— Баба и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, клади за пятый!
Учитель сердито крикнул:
— Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходи.
— Чегой-то? Ты больно-то не ори, отошло ваше время орать-то. Пятый самый правильный.
Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руки две молодые бабы. Она, шаря кругом невидящими, неподвижными тускло-синими глазами, спросила:
— Где икона-то? Чтой-то сбилась я в углах с перепугу-то.
Перекрестилась истово и громко, торжественно сказала:
— Помоги господи, не в зло, а в добро. Допусти постараться в дело!
Поклонилась поясным поклоном и позвала:
— Ну-к, Марька, веди, где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то мою.
Председатель завозился на стуле и крикнул:
— Нельзя, нельзя! По закону лишены права голосовать. Слепые не допускаются...
Старуха властно оборвала:
— А ты что за человек, и какой такой закон? Бог обидел, и люди обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком несла... И я сыновей для войны родила, и я над землей тужилась, а мне нельзя! Кажи, Марька, куды опускать. Не может он не допускать меня!
— Но я не имею права. В законе ясно сказано...
И за столом, и в дверях, даже за открытым окном на улице начался шум:
— Пусть опускает! Для бедного народу будто бы стараетесь, а она из бедных бедная.
— Правда, пешком шла. Лошади не достали нигде, а на чужую подводу некуда.
— Сами семьями приехали. Чать, не виновата, что ослепла!
— Опускай, баушка, не слушай! Теперь слабода, а они все с издевкой!
— Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то! Эй, востроносая, покажи, говорю!
— Энтот там расселся посередке-то! И вытряхнуть недолго, коль бедным запрет делает.
Суслов привстал и громко утвердил:
— Опускай, баушка! Всякому закону по делу да по нужде должно быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят, а не обиды.
Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:
— Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.
Старуха опустила листок и опять помолилась:
— Господи, помоги.
Бабы увели ее.
В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.
— Тебе чего, малайка? Куда лезешь?
— Башкирскай листка номер втарой айда, давай. Отбирай мужикам. Ваша ни нада, наша ни хватаит. Ваша вота.
Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:
— Айда атбырый, пыжалыста, скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!
Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел. Быстро встал, достал со шкафа пачку листков и сунул башкиренку:
— Дуй!
Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы.
Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум все сильней становился. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко определяли:
— Этот краснорожий номер первый. Эй, Павел, садани его от ящика.
Злой мужичий голос с улицы крикнул:
— А за пятый — самая прохвостня! Конокрад битый нашинский пятый номер понес, я видал.
— Прошу без агитации. Где милиционер?
Солдат, стоявший у ящика, громко и наставительно объявил:
— Когда мы на фронте выбирали, дак у нас так-то было постановлено...
Председатель завопил:
— Послушайте, товарищ, уходите от ящика! Вы не имеете права второй раз голосовать. Чертова окраина! Выбираем не в один день с другими, а с запозданием, вот и... Я вам говорю, вы не имеете права! Я сообщу — все выборы пропадут. Опротестуют.
— А тебя кто тянет сообщать?
— Да ведь я же обязан!
— А ты для нашего брата старайся, а не против нас! Мы кровь проливали, да не смей в своей волости.
И потянулся к ящику. Но Суслов удержал его за рукав:
— Не скандаль, нельзя. Еще, правда, всем навредишь.
— Так и ты против солдат?
— Говорю, не скандаль. Уходи!
Тот сплюнул, но Павла послушался, скомкал листок и бросил его на пол.
А у стола новая заминка. Кривоногий, встрепанный мужичонка совал председателю штук шесть листков.
— Который тут третий? А? Я заспешил да спутал. Ровно отдельно клал, а на же поди, сбился. Ну-к, покажи.
— Да понимаете вы, тайное, тайное! Нельзя показывать.
— А какие тут тайности! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел, да на третий меня сбили. А какой лучше-то?
Председатель безнадежно схватился обеими руками за голову:
— Совершенно невозможно! Разъясняли, все деревни изъездили. Да что же теперь делать?
Суслов засмеялся, встал, взял мужичонку за плечи и вывел его из горницы. Дальше гладко дело шло. Только шум с улицы мешал.
Вдруг опять зычный голос на улице шум покрыл:
— Макрушкин со своего хутору целу подводу с первым номером привез. На тройке приехали. Не пущай его!
Но толпа привычно расступилась перед Макрушкиным. Он, сверля встречных черными острыми глазками, сладким голоском теноровым отшучивался:
— А кто видал, что первый? Я второй привез. За башкир, они — народ покладливый. Они мне больше русских по душе. От них, можно сказать, жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.
Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:
— От их награбастал землю-то под хутор, обжулил! Знаем, мертвые под приговором о продаже-то подписаны.
И кривоногий мужичонка поддержал:
— Погоди, дай срок, все начистоту выведем, а землю-то для трудящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко.
Но Макрушкин, не смущаясь, пробирался вперед с длинным хвостом приехавших с ним на двух тройках и поодиночке на пяти подводах. Ответил опять шутливо:
— А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеданья. А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит. К башкирам, к башкирам я...
Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки удалось закончить. Ящик провожали конные доброхотцы, разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха не вышло.
С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будоражливым приходил. В Акгыровке загалдели те, кто раньше голосу не подавал. Беднота, с постройки рабочие. Требовали землю и мир. Павел Суслов их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над всей страной власть взяло, и он главным в волости утвердился. Колгота по разноплеменному уезду большая шла. Вирка говорила Павлу:
— Не сносить тебе головы. На такую линию вышел. Нет, чую, не сносить.
— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?
— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя.
— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык я к тебе. И к первой жене, ни к одной бабе так не прилипал. Все одно — жена теперь ты, баба моя до старости, а там и до смерти. Одно только — родить тебе надо. Чего ты не тяжелеешь?
У Вирки сгасли глаза. Опустила голову, как виноватая. С тяжелым вздохом сказала:
— Неплодная, видно, я. Ваську-то винила, а знать, сама неплодная.
И долго сидела молча с поникшей головой.
Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей-башкир под свою руку сбили, обещаний им всяких надавали. На волость даже нападение было. Отбились. Но зимой война настоящая разгорелась. В сорока верстах от Акгыровки бои начались.
Павел Суслов с фронта один раз сумрачный приехал на день домой. Всю ночь с Виринеей тихо и долго говорили. Встала с постели она с прожелтевшим лицом, но с твердо сжатым ртом. Морщинка у губ обозначилась. И не пропала даже тогда, когда объявила среди дня тихонько и боязливо Павлу:
— Слышь, я затяжелела. Боялась верить, а выходит — правда.
Он посмотрел в большие тревожные глаза ее, в молящее лицо и усмехнулся:
— Ну, рожай! Отобьемся от казаков, на сынка порадоваться приеду. Ну-к, собери, чего кусать мне даешь. Ехать надо.
Уж выезжать собрался со двора, как вошел во двор совсем седой, но все еще лохматый и дюжий Магара. Вирка вскрикнула и побелела. Не пуглива была, но неожиданное появление Магары напомнило ей о прошлом. И сразу, как дурное предчувствие, в сердце ударило. А Магара прямо к Павлу.
— Айда забирай меня с собой. В силах я еще, постоять за правду хочу. Где вашинско-то войско?
Про Магару Павел слыхал и знал его. Усмехнулся.
— А тебе чего в нашем войске, божий старатель делать? Айда зятя с добром, тобой нажитым, застаивай. Откуда ты?
— Из тюрьмы. Теперь вот выпустили.
Вирка дрогнувшим голосом спросила:
— За этого... за инженера отсиживал?
Магара даже не оглянулся на нее. От Павла воспаленных глаз не отрывал. Но ответил ей:
— За богохульство и кощунство сцапали. Еще до перевороту до этого. В церкви на икону плюнул и изругался. Святой там один нарисован, схожий с энтим, кто меня спервоначалу на молитву-то...
И добавил глухо:
— Замаялся я с богом. Теперь опять для него за правду стараться хочу. За бедный народ стоять пойду, за мужичий за весь род. Растревожили мужика, а ходу ему нет. Богатый в торговцы лезет, а бедному нет земли, чтоб в правильности... С вами постараться хочу. Для бога за вас пойду. Для бога грех принял, человека убил. Такое он на меня возложил дак я и пойду для правого дела убивать.
Павел вздохнул.
— Мозга у тебя повреждена. Уж правда, что богом ушиблен. Ну что ж, айда. Долго с нами вряд ли пробудешь, а сейчас пока нужен. Дюже сражаться можешь. Сейчас тебе лошадь раздобуду.
И уехали они вместе с Магарой.
Убили Магару скоро. Дуром с гиком один на казачий разъезд кинулся. Как приезжал Павел в последний раз к Вирке на короткий час, то сказал про это, Вирка вздохнула:
— Знаешь, Павел, а много народу у нас в деревне по-разному повредилось. Сидели, сидели сидняком-то: видно, от просидней гнить начали. Кто вот ругается, какой страх и беспокойство пришли. А я думаю — час такой. Нельзя больше было мужикам по-старому.
Павел не ответил. Поднялся и собираться стал. Поцеловал детей. Вирка припала к нему и замерла. Он быстро, будто укусил, поцеловал ее, легонько отстранил и к двери пошел. Но у порога задержался. Не поворачивая головы, стоя спиной к ней, сказал:
— Себя блюди, шибко я к тебе привык. Не распутничай. Дите родишь, жалей, обихаживай. Я об нем что-то думаю. Жалко, не дождался, не поглядел.
И потом, повернув голову, усмехнулся невесело и нежно:
— Дело наше тоже справляй. Через тебя слух давать буду. Ну, ладно. Давай еще поцелуемся. Прощай.
Уехал. Она глядела ему вслед. И вдруг ярким, редким для слеповатых человечьих глаз светом будто осветилась перед ней вся ее жизнь с Павлом. В короткий миг вся перед глазами прошла, подлинно такая, какой она у них была и какой она еще не видела. Как жили вместе — часто сердилась, томилась недовольством каким-то, враждой к нему. Считала его желанным и даже привыкать стала. Но ни разу с таким захлебнувшимся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А вот, когда он не слышит и ей не догнать его и, может быть, свидеться больше им не дано, — ощутила, как он дорог ей. Как один только может быть дорог одной.
— Павел... Пашенька...
Целый день как в чаду ходила. Терзалась: слов своих, вот тех, что сейчас сердце жгут, не высказала ему. Воротить бы его!.. Хоть бы на недолгий час... Сказать бы только ему!..
XII
Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и хлопоты по его делу вложила. Акгыровка стояла в стороне. Казаки расправу чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех Павловых пособников кержаки с горы — Кожемякин и еще пятеро богатеев. Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужиков из акгыровской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму. С десяток в волости пороли нещадно. Вирку тоже в волость таскали на допрос. Она отвечала сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только глаза прятала:
— Ничего не знаю. Невенчанная ведь жена, так... полюбовница. Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где — нету слуху. Я вот тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала где, сама бы хоть за себя наказала бы его. Не смолчала бы, выдала. Все одно он со мной жить не будет.
Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком по столу стукнул:
— Врешь, потаскуха! Как провожала его, видали люди.
— Провожала, просила не бросать одну с детями, без всякого запаса. А куда уехал, не сказал.
Три дня в холодной при волости отсидела. Потом опять пытали мужики. Уж не про Павла, а про пособников его и про то, кто к большевикам сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнаньем, только все на обиду от Павла жаловалась, что с детьми без помощи всякой бросил ее. Помаяли и отпустили. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей в потайных углах со своими видеться, быстро ходить и еще работой себе пропитанье добывать. А тут еще Павел два наказа в тайности выполнить велел. Один: за десять верст в деревню письмо верному человеку отнести. Другой: мужика одного целую неделю прятать. Когда первый наказ передали ей, вздохнула она. Потом сказала худощавому старику в беженской одеже:
— Сама пойду. Кого пошлешь? Сноровку надо, а главное — чтоб без страху.
И ходила сама за десять верст будто бы в больницу. В том селе как раз больница была. Обратно чуть ноги тащила по неровной снежной дороге. Но дотащила и концы чисто схоронила. Другое было трудней. Но все-таки уберегла в подполье. Даже соседские бабы ничего не унюхали. И чем больше старалась, тем дороже становилась ей ее вторая, тайная, жизнь. Теперь с подлинной верой говорила своим при встрече:
— Хучь мы и пропадем, а тем помогать надо. Совсем задавили маломощных.
Видеться было трудно. В деревне каждый вздох слышен и каждая новая щепка на дворе заметна. Но вот пришел слух, что Павлов отряд к Акгыровке подвигается. Павел на словах с парнишкой безусым, но строгоглазым передал:
— Хорошо, кабы вы с затылку их нажгли. Какое-нибудь восстанье бы наладили.
Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давно забросили, но беженцы и бездомовые, работавшие раньше на дороге, в бараках жить остались. Шибко шла, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Никого не встретив, дошла. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо семейных. И все были одного, большевистского, толку. Оттого Вирка без опаски вошла. Но разговор не сразу начала:
— Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?
Дарья от печки отозвалась:
— Здесь, дома. Ты чего, Вирка?
— Да вот к тебе, пощупай-ка ты меня... В повивалках ходишь, знаешь. Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?
Дарья усмехнулась:
— И щупать нечего. Так видать, — не боле недели носить. Да ты говори дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.
Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:
— Ну, мужики, зачинать драку надо.
И, откашлявшись, уж спокойно и ровным голосом рассказала, что Павел передал.
Мужики не сразу отозвались. Долго раздумчиво молчали. Первый, белесый и хлипкий, Васька Дергунцов заговорил:
— Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не подобьешь. Мается, а молчит.
И другой, с седоватыми, коротко и неровно остриженными волосами, подтвердил:
— И думать нечего! Как блох, переловят.
— Подождать надо. Может, как совсем близко наши к деревне уж подойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.
Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:
— Это и весь сказ?
— А дак чего же?
— Больше ничего нельзя.
— Дело не выйдет...
— У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам пробраться, тогда подмогнем. А сейчас ничего не сделаешь.
— Ах вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще такой — дурной бабе, учить вас али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете! Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил: стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать.
Глаза у ней жгли и молили, а голосом твердым говорила:
— Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задницей повернетесь? Ну, дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна пойду дело заводить. Охота дале в голоде да в побоях жить — живите. Вот этот кобелишка-то хилой тявкал: сердце чешется против кержацкого насильничанья. А теперь еще казаков ждать будут! Все одно не помилуют, хуть вы им ноги все излижите! Давно косо глядят, чуют, какая дума-то у вас. Наши подходить станут, все одно с вами расправятся. Ну, ладно, нечего мне с вами, видно, и разговаривать.
Пошла было к двери. Но мужики опять загалдели. Ругали Вирку, спорили, а все же порешили сделать, как Павел указывал.
Вирка со светлым лицом уходила. Будто на большую радость спешила идти, а не на трудное дело. Седоватый, стриженый сказал ей со смехом:
— Ты, баба, выходит, у нас и за командира, и за попа полкового. Ишь ты, начесала сколь. Целу проповедь высказала!
А командир чуть домой дошел. По дороге схватки начались. Но все же сама за бабкой Козлихой зашла:
— Айда скорей! Рожать, видно, я наладилась.
В избе у себя Вирка долго не хотела лечь. Ходила по избе, крепко стискивала зубы.
Козлиха прикрикнула на нее:
— Чего ты молчком? Кричи, кричи! Легче будет. Первый раз эдаку каменную бабу вижу. Без крику рожать собирается.
Вирка улыбнулась коротко и тускло. И опять, сморщившись, сказала прерывисто:
— Пускай с радостью-то на све-ет выходит. Шибко долго я его ждала... Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.
И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга. И тогда несказанная легкость усладила тело, услышала на диво звонкий крик рожденного.
— Ишь ты, какого орластого выродила. Да большой. Отцу поглянется. Ты чего? Не сомлела?
— Не-ет. Покажь... Сыно-ок!
— Откуда узнала? Ишь ты, дошлая. Ну-к пущай полежит, потружусь околи тебя.
Недолго Вирка на сына радовалась. Через пять дней, когда ждала от своих извещенья, как у них там наладилось, ночью в дверь тревожно и тихо кто-то застучал. Вирка к двери, спросила шепотом:
— Кто?
Бабий напуганный голос сказал:
— Открой скореича, впусти.
Но в избу Дарья не вошла, из сеней тихо спросила:
— Козлиха-то у тебя?
— Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?
— Где она?
— На печке спит.
— Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама айда беги немедля. Через огороды, туды, к речке, а там тебя Парфен ждет.
— Дак ты что? Ребенка-то я как?..
— Ребенка! А коль саму прикончут? Павлу надо успеть слушок подать, а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоишь?
— Да чего ты сразу...
— Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Кожемятов батрачишка-то с им ездил. Слыхал, что пронюхали. Анисим дознался про наше дело. С доносом в станицу ездил. Ну, только называл, что тебя да мово мужика. Мой-то схоронился, айда беги. Ой, кабы меня тут не застали. Дак огородом-то... Огородом к реке.
И нырнула в темноту. Вирка взяла ребенка из зыбки.
— Баушка, баушка... На-кось.
— Ну чего ты взгомозилась? На печку его? Ко мне? Ну, давай.
Сильно вздрогнула, будто от тела оторвала теплый живой сверток и подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов быстро накинула платок и полушубок и выбежала из избы.
— Вирка-а! Вирк, ты куда? Что это, осподи, попритчилось, что ли, ей что?..
Поняла только, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала унимать заплакавшего мальчишку.
— Ну-у, ну-у, распелся, на ночь глядя. Ш-ш-ш!
— Ты, старая хрычовка, где баба?
— Убегла куда-то. Я не спрашивала. Мне на што? Думала, скоро вернется. Мне чего? За ей не побегу, не молодая.
Рыжеусый казак шашкой пригрозил:
— Сказывай, а то не удержишь башку на плечах!
— Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла, слова не сказала. Хуть кишки выпусти, — чего я скажу боле? Не налезай на дите-то, злыдень. Задавишь неповинную душеньку.
Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:
— Ничего теперь, ваше благородие, не добьешься. Она правды старухе-то не скажет. Следить за избой надо.
А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого письма, Антип-кержак сказал:
— Пущай ребенок с бабкой тут остаются. Сама придет. Молоко ее к дитю приведет.
На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Днем искали, не нашли. Три ночи караулили. На четвертую, уж за полночь, в самый глухой и темный час, насторожился под навесом рыжеусый кержак и шею вытянул. С огорода темная женская фигура двигалась. Дыханье, как охотник, видя зверя, затаил. И Вирка шла легкой, сторожкой поступью зверя. Как волчица к волчонку своему, пробиралась. Будто след нюхала, выгнув шею и влекомая своим запахом, — запах крови, из ее жил взятый, — шла кормить или выручить детеныша своего.
У самой двери в сенцы была, когда крикнул резко рыжеусый другим, укрывшимся темнотой:
— Имай! Держи ее! А-а, поймал! Беги, Сычев, зови его благородье!
Вирка закричала пронзительным, долгим криком и забилась в дюжих руках приземистого казака.
— Стой!.. Стой!.. Увертливая какая! А, ты кусаться, стерьва! Стой!..
Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила казака в переносицу. Выгнулась всем телом, ударила ногой его в пах. Казак взвыл от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной. Она билась, качала казака во все стороны. Он неловко повернулся, зацепил ногой за ступеньку крыльца и упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она закричала еще раз резко, пронзительно и смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобку для отскребанья грязи, вбитую на доске около крыльца. И тогда же из избы донесся живой и требовательный плач ребенка. Виркины глаза встрепенулись в последнем трепетанье — и погасли.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





