ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Шагинян Мариэтта 1966
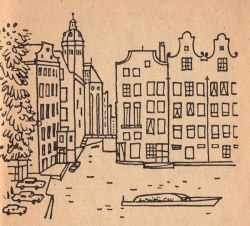
1. ПРИЕЗД С ПРИКЛЮЧЕНЬЕМ
Кажется, Смолетт сказал, что лучшая форма путешествия — это пешком. Но уж если нельзя на своих двоих или на четырех лошадиных ногах, так лучше поездом — поездом с попутчиками, проводником, чайком, остановками на станциях и теми разрезами социально-географических пластов, какие бегут перед вами в окнах, справа и слева. Когда мне пришлось опять, после девятилетней разлуки, отправиться в Англию, я поехала не старым своим путем через Прагу — Париж — Лондон, а новым — Через Берлин — Роттердам — Харидж, чтобы на несколько дней остановиться в Голландии. Наш вагон, единственный беспересадочный, должен был пересечь кусочек Западной Германии и через Бенилюкс подъехать прямо к пристани голландского порта Хук-ван-Холланд, откуда пароходы идут в Англию на Харидж.
Было уже темно, когда поезд подошел к Берлину. Должно быть, немало советских людей наблюдало из окон эту панораму сменяющих друг друга частей Берлина, демократического восточного с его остановками «Берлин-Ост» и «Фридрихштрассе» и — Западного Берлина с его станцией «Зоо» («Зоологический сад», или, как называли его у нас в старину, «Зверинец»). По сути, небольшая западная часть Берлина использована Бонном, как своеобразный плацдарм для рекламы западно-немецкого «процветания». Не успевает поезд отойти от «Фридрихштрассе», как начинается эта реклама: море ослепительных разноцветных огней, заливающих широкие улицы, как комнаты и коридоры раскрытого настежь дворца. Станция «Зоо» — вся из стекла, в модных квадратных линиях.
Рассчитанная поразить своей нарядностью, эта часть Берлина производит скорей впечатление искусственной театральной декорации, за которой нет живого мира. Не знаю, как на других, но на меня гораздо более сильное впечатление произвели два разных киоска, перед которыми остановился наш вагон. На станции «Фридрихштрассе» — это книжный киоск, доверху полный заманчивыми книжными обложками; на станции «Зоо» — это винный киоск «Шультхейс» со всеми видами бутылок на его витринах. Как ни примитивно такое противопоставление, оно невольно заставляет задуматься.
Когда вы въезжаете в большие города любых государств, от Москвы до Парижа, — их органические центры, выросшие вместе с историей всей страны, начинают мелькать первыми своими очертаниями в окнах поезда отнюдь не театрально-нарядным зрелищем, а непременно деловитыми задворками — той черновой, окраинной жизнью труб, глухих стен, расходящихся путей, мостов, коротких туннелей, за которой чувствуешь биение пульса огромного, надвигающегося на вас центра. И эфемерная картинка западноберлинского «процветания» по сравнению с ними сразу обнаруживает свой рекламно-показной характер. Право же, скромная станция «Фридрихштрассе» с ее книжным киоском больше похожа на добрую старую Германию книг и музыки до войны 1914 года, — где пришлось мне готовить в Гейдельберге свою магистерскую диссертацию, — чем этот американизированный бар на «Зоо».
Спать не хотелось, и я долго ворочалась на своей койке, чтоб с пяти прилипнуть к окну. Белый, тусклый свет начал расцеживать ночь. Мы проезжали Вестфалию. Здесь уже запахло северным соседством, Скандинавией. Начала меняться архитектура. Красные кирпичные домики, вытянутые треугольничком вверх; на одном, плоскокрышем, — нечто вроде огромного самовара по форме, не поймешь — труба или какая-то установка. Появились на красном белые обводные черты: белые наличники, белые рамки вокруг окон, по карнизам, — словно все обшито тесьмой. Сыро и вымочено, солнце бледным анемичным шаром катится за поездом, все кажется в дыму, и в дыму наплывает курорт для ревматиков. Границу вы сразу воспринимаете «орфографически»: по эту сторону Ольденцаль, по ту сторону Ольдензаал, — милое голландское дублирование буквы «а»; и, переехав границу, вы как бы сразу попадаете в дублирование тех первых черточек нового в пейзаже, в архитектуре, которые только намечаться начали в пограничной Германии.
Не знаю, какую другую страну можно полюбить так сразу, как Голландию. И совсем не знаю, за что. Может быть, за то, что современный человек, изнервничавшийся от всевозможных экспериментов, экстравагантностей, эксцессов, — вообще всяких «эксов» западной культуры, укорачивающих ему жизнь, которую он как будто бесчисленно, до самой смерти, пробует и начинает, пробует и меняет, — тут вдруг, на голландской земле познает солидность и серьезность единственного, позабытого новым веком, старомодного качества: постоянства. Я пишу не об экономике и культуре, а о том первом впечатлении, какое получаешь от характера реклам, витрин, новостроек, уличной жизни, одежды людей, в их какой-то стабильности против моды и новшеств. Даже на самых людных улицах голландской столицы пришлось мне проверить это впечатление...
Но возвращаюсь к дороге. Красные треугольнички домов, замелькавшие в окне поезда, постепенно приняли свой склад и лад. В противоположность старинным немецким вторым и третьим этажам, выдвинутым, как ящики комода, над первым этажом и слегка нависающим над улицей, — появилась деревенско-голландская, выдвинутая вперед, как подбородок, коробка первого этажа, ступенью на улицу, а над ней — отступающий назад второй этаж, выходящий на крышу первого, как на балкон. Черные с белым коровы пасутся в одиночестве, каждая — на участке своего хозяина. Окна кажутся у нас впалыми, как глаза, вдвинутыми в стену, смотрящими изнутри. У голландцев окна похожи на очки, нахлопнутые снаружи, и обязательно с белыми наличниками, белой рамочной оправой. Так и выпучены эти окна, словно рыбьи глаза или корабельные иллюминаторы, на вас. Любовь к выпуклости, пузатости, — пузатенькое авто, лобастый электровоз, — по Голландии мы едем на электрической тяге. Скошенное сено на лугах собрано в прямоугольники, похожие на чемоданы, а большие стога, словно чайники, под деревянными крышками, и эти крышки повсюду — над сеном, над сжатым хлебом. Белоснежные гуси на пруду, как россыпь водяных лилий. Круглые бензобаки стоят шарами, на ножках, изогнутых как у стульев рококо. А вот плоскокрыший одноэтажный дом на несколько квартир, — окно и дверь, окно и дверь, у каждого квартиранта своя дверь, и то ли для красоты, то ли чтоб не перепутать, одна дверь покрашена в розовую, другая в голубую, в красную, синюю краску. Городок на канале, как в Венеции. Лодки на причале у каждой двери, как в Венеции...
Все это — еще не Голландия, все это лишь тот социально-географический разрез в окне поезда, о котором я сказала выше. Но вот мы проехали индустриальный Амерсфоорт, проехали Утрехт, и проводник — наш советский проводник этого советского вагона — торопливо сказал мне:
— Вы хотите в Роттердаме слезть? Сейчас Роттердам. Поторопитесь, тут стоит полминуты.
Полминуты! Вся сырая женская душа всколыхнулась во мне, и я, уже ничего не спрашивая и не слушая, не глядя в окошко, поволокла опрометью свои вещи на площадку. Проводник едва успел вынести их за мной, как поезд двинулся, и кусочек родного дома, родной советский вагон уплыл от меня. Я осталась одна. Я была в Голландии. Я была в Роттердаме. Но позвольте, что же это за Роттердам? Перрон, на который я слезла, был совершенно похож на наш дачный, высоко над полотном, безлюдный. И по обе его стороны тоже безлюдно, а города — никакого. Ни даже станции, ни даже носильщика. И меня решительно никто не встретил, хотя мы надавали множество телеграмм. А из всего голландского языка я знала только фразу, зазубренную в детстве с балладой Жуковского «Каннитферштан». По опыту долгой жизни я была уверена, что нигде не пропаду, но все-таки, если говорить начистоту, самую малость струсила. Тяжелые вещи таскать мне одной не под силу, а главное — неизвестно, куда таскать, и отойти от них было страшно. Мысленно я уже писала письмо друзьям, заманчиво составлявшееся: «начать с того, что я не там слезла». Но где я слезла?
Тут показалось в этой пустыне живое существо — небольшого роста юноша с рюкзаком за плечами, в треуголочке и куртке защитного цвета, с чем-то на плечах вроде простых нашивок. Разговорились мы с ним по-английски, и я узнала, что настоящий Роттердам, Роттердам-Центральный — в нескольких километрах отсюда и наш поезд там не останавливается, а проезжает прямо в Хук-ван-Холланд, и, должно быть, именно там и встречали меня. А теперь надо пробираться в Роттердам на дачном поезде или в такси. Мой спаситель не оставил дела на полпути, подхватил мои вещи, освоился очень быстро с моим характером, услышал мою биографию, рассказал свою. Он был студент, возвращавшийся на побывку к отцу в Роттердам, и звали его Петер Вальт-хаус. Но вот Роттердам-Центральный. Где уж тут смотреть, встречают ли! На перроне столпилось множество народа, приходили и уходили поезда, выбрасывавшие новую и новую порцию народу.
Петер сделал мне знак — и мы опять пошли. Перед окошком какого-то бюро, где проверяют билеты и дают информацию, мы в два голоса начали рассказывать мою одиссею. Из кассы выглядывало прелестное молодое лицо голландки того же розово-белого цвета, как цветы в вазе. Она выслушала, потом проверила мой билет и взяла телефонную книгу. Через секунду в советском посольстве отозвались.
Но советское посольство находилось за десятки километров, в Гааге. Покуда за мной приедут, надо было ждать, и я позвала Петера, хорошенькую голландку в окошке, сестру ее, сидевшую за стеной, подругу сестры — всю голландскую компанию, принявшую участие в моем спасении, — попить в ресторане кофейку. Из сумочки я торжественно извлекла десять гульденов, и на все десять гульденов мы славно отведали хлеб-соли на голландской земле, а когда принесли сдачу, то в сдаче оказались целехоньки все эти десять гульденов, и мои новые друзья чуть ли не клятвенно уверили меня, что именно так полагается.
Друзьями мы сделались настоящими. Голландские девушки — Фелиситас и Майелла Шмитц рассказали, где они служат, как работают, сколько получают и чем добавочно пользуются от компании (прежде всего — скидкой в ресторане). Мы разговаривали по-немецки и по-французски, по-английски и по-голландски, — и в последнем случае я усиленно дублировала все гласные буквы, сопровождая их могучим «каниитферштаном». Мы хохотали от каждого слова, и нам было весело. Нам было хорошо, потому что мы сделались друзьями и потому что голландцы — это голландцы. Народ, который всерьез принимает жизнь и ничего не делает наполовину.
Я до сих пор переписываюсь с Петером, Фелиситой и Майеллой, и мне хочется послать им сейчас через весь Бенилюкс свое сердечное пожеланье доброго счастья в новом году!
Приехавшие за мной ожидали, вероятно, встретить смертельно перепуганную заблудившуюся старушку, получившую хороший урок: не слезать где попало или, по русской поговорке, не соваться в воду, не зная броду. Но я встретила их с гордым достоинством, окруженная молодыми голландскими друзьями, тем поколением, которому интересно, что такое Москва и советский писатель. И в руках у меня был большой букет красных и синих гвоздик, первый букет голландских цветов, полученный в подарок от голландцев.
Гаага
2. ГЛАЗАМИ ПЕТРА
Голландцы называют Гаагу «большой деревней». Она белая и очень тихая, но тишина в ней совсем не деревенская, а скорей дворцовая или тишина большой приемной, где ожидающие разговаривают, понизив голос. Чем-то, может быть, своими функциями, она похожа на Вашингтон, — именно в ней происходят конгрессы, совещания, заседания, дипломатические приемы. Если б в ней не было «Мадуродама», о котором разговор напоследок, я сказала бы, что из всей Голландии — в Гааге меньше всего голландского.
Первый свой визит мне хотелось отдать царю-плотнику, но не потому, что это — проторенная дорожка для всех наших туристов. Календарь придвигает к нам дату, немаловажную для русской культуры. Мы будем ее справлять во всех частях света и уж во всяком случае — вместе с Голландией. Дата эта —30 мая 1972 года — не так уж и за горами; триста лет со дня рождения Петра Великого.
Почему Петр выбрал своим первым «визитом» в Европу именно эту маленькую страну и вдобавок — маленький город в ней, Заандам? Из-за кораблестроения, которому хотел выучиться? Обычно так отвечают историки. Голландия долго шла первой в важном деле создания кораблей, ультрасовременном тогда, как у нас теперь самолетостроение. Но к году посещения ее Петром в самом конце семнадцатого века, слава ее уже слегка померкла, и на первое место начала выходить Англия. Петр не мог этого не знать — не зря он из Голландии переехал в Англию. Историки не любят «личных мотивов», как любим их мы, писатели. Но есть, при въезде Петра в Голландию, одна личная черта, на которую нельзя не обратить вниманья. О ней задумываешься, ее невольно хочешь развить.
Летом 1697 года, — чтобы быть точной, 18 августа, — в самом начале дня, Петр Первый приехал в Заандам в одежде простого рабочего, под именем Петра Михайлова, но, хотя это был приезд «инкогнито», все уже знали, кто к ним едет. И вот, не успевши ступить с борта корабля на землю, царь разглядел среди заандамовцев знакомое лицо, некоего Геррита Киста, — и, здороваясь, кивнул ему. В домике Киста он и остановился, прожил в нем, работал и спал в нем, согнув к подбородку свои могучие колени, чтоб уместиться в спальной нише, и прославил этот домик на века.
Мне кажется, даже царю в его молодые годы, да еще из такой неотесанной страны с диковинными нравами, как старая матушка Русь, не очень-то ловко было попасть в новый западный мир в простой одежде, без придворной знати, без царских регалий. Как и всякому человеку, молодому царю должно было быть вначале конфузно (западные историки без конца упоминают о его плохих манерах и перечисляют ошибки в этикете), и огромнейшим подспорьем для него могло стать знакомое лицо там, куда он впервые попал, — друг заандамовец, мастер Кист, с которым он еще на родине познакомился, возможно, даже говорил с ним о Голландии, был им приглашаем туда. Человек, знакомая душа, опора в чужой стороне — вот, вероятно, личный мотив приезда Петра прежде всего в Заандам, веселый кивок его через толпу, и такое простое, сердечное, легкое для него житье-бытье в домике рабочего-мастера.
Миром, окутанным легендами, сделалось пребывание царя в Заандаме. И надо сказать, что нигде в отечественных музеях у себя на родине Петр не окружен так своими земляками, как в этом бедном домике, закованном его царскими наследниками (вплоть до последнего Романова) в безвкусные каменные оболочки — футляры. Множество русских записей в книге посетителей падает не на годы и даже не на месяцы, а на каждый день. Мы поставили свои подписи в середине дня, после того как с утра этого дня, 22 июля, несколько страниц было уже заполнено подписавшимися.
Сюда, на встречу с царем-рабочим, гостившим у рабочего, являлись во множестве моряки советских кораблей, заходивших в голландские порты, группы наблюдателей за судостроением (по советским заказам), туристы, писатели, артисты, композиторы, художники, — и не просто, постоявши, расписавшись и уйдя обратно, а (неизвестно, кто первый!) придумав оставить тут, царю на память, что-нибудь, малость какую-нибудь из новой, советской земли: коробку спичек, открытку, вид Ленинграда. Эти дары сторож-голландец свято бережет за особой витриной, где, кстати сказать, раскрыта и книга Алексея Толстого о Петре в переводе на голландский язык... Потомки Геррита Киста еще живут в Заандаме, и, кажется, сторож домика — один из них.
Под плоховатым бюстом Петра четыре знаменитых стиха «То академик, то герой...» написаны по-голландски и читаются удивительно понятно.
Кстати, о переводах. Друзья частенько смеются над моей привычкой прихватывать за рубежом один и тот же текст выступлений на разных конгрессах в переводе на многие языки. Но как часто самая, казалось бы, незначительная разница в переводах дает уловить характерную черту той нации, на язык которой переводится документ!
В домике Петра лежит для туристов справка о нем, переведенная на три языка. Для примера вот некоторые сравненья. Французский перевод начинается так: «Царь Петр, желая образовать подданных своей империи...» Немецкий: «Петр Великий, чья основная мысль была — внутреннее строительство своего могучего государства...» И, наконец, английский: «Царь Петр, чье большое желание было сделать свою империю великой...» А ведь текст, с которого перевод сделан, один и тот же! Но первый напирает на просвещение, второй — на благоустройство, а третий — на величие империи, по-своему истолковывая мотивы русского царя.
Еще интересней то место, где говорится о непосредственной работе Петра. Француз — о том, что делал Петр, поступивши на верфь к предпринимателю Рогге: «Он работал инструментами и изучал чертежи». Немец: «Царь не только живо интересовался чертежами, но и работал своими руками на производстве». И, наконец, англичанин: «Он возился с инструментами» (plied the tools), «но его главным интересом были чертежи» (but his chief interest was the designs). Ну, разве не встает перед нами в этих простых примерах направление мыслей если не трех народов, то трех представителей языка этих народов — французского, немецкого и английского? Вежливое и слегка равнодушно-формальное французское объяснение замысла и деятельности Петра. Немецкое (при основной склонности немцев к теории, к абстрактности) удивленное подчеркиванье практических свойств Петра — не брезгал работать даже собственными руками!Английское, где здравый смысл практичного англичанина, привыкшего смотреть на соседей «в оба», сразу заподозревает в Петре и замысел увеличить империю, и главный интерес не к работе с инструментами, а вот именно к чертежам. Разве не поучительны эти разные интерпретации одного и того же текста, одного и того же факта?
А как сами голландцы?
У меня не было такой справки на голландском языке, но зато был перевод известного четверостишия, и так как переводчик не старался соблюсти «художественность», ритм и рифмы, им должна была руководить при переводе только точность. Перевод действительно точен, но не совсем. Там, где на русском языке Петр предстает перед нами в разных аспектах, то академиком, то героем, то мореплавателем, то плотником, — голландский переводчик уточняет не свой перевод, а текст, который он переводит. Вместо «академика» у голландца «ученый» и вместо словечка «то» у голландца всюду «то как», а это меняет дело. Не плотник, а как плотник, не герой, а как герой: в довершение всего заключительная фраза «на троне вечный был работник» переведена как «на троне был вечно работающим, вечно деятельным». Иначе сказать, для голландца Петр не перевоплощался то в одного, то в другого, но, оставаясь самим собой, овладевал многообразными функциями и проявлял их. Это, быть может, тончайший нюанс, в переводе вряд ли даже заметный, но для меня он был очень важен. Я ехала в Голландию, чтоб взглянуть на нее глазами Петра. А он первым долгом поискал глазами знакомого голландца... И вот этого голландца, символического «Геррита Киста», я и хотела увидеть, разгадать, понять, — представить себе человеческие особенности народа, в страну которого я приехала.
От Гааги до Заандама — не очень далеко, вся Голландия малюсенькая по сравнению с нашими пространствами. Мы мчались вдоль больших квадратов осушенной земли, поросших густой травой, — на ней лениво лежали сытые, выхоленные коровы. Осушенные квадраты земли — польдеры — до того уж известны советским читателям, что слово «польдер» прочно вошло в наш очерковый лексикон. О странной земле, лежащей ниже уровня моря и отвоеванной у воды, писали все, кому удавалось побывать в Голландии. Кое-что, правда реже, упоминается и о том, чем эта отвоеванная земля отмечена в статистике.
Наиболее интенсивно населена — Голландия.
Очень большое долголетие людей (средний возраст 72 года) — в Голландии.
Одна из самых низких цифр детской смертности — в Голландии.
Наивысший урожай с гектара в мире — в Голландии.
Наивысший доход с квадратной мили — в Голландии.
Наивысший удой с коровы — в Голландии.
Наивысшая цифра рождаемости в Западной Европе — в Голландии...
Но если обо всем этом читатели наши наслышаны, то совсем мало или вовсе не знают они главного: чем была эта благодатная земля, на которой первые голландцы поселились, и чем были сами голландцы, когда начали свою работу на ней.
Есть одна неприхотливая и совсем не рекламная книжка, написанная не голландским писателем, а голландским инженером из голландского водного управления, Иоганном ван Фееном. В ней он просто, в сопровождении технических рисунков и графиков, рассказывает об истории строительства голландской земли... земли, которой сперва не было вообще.
Один из арабских купцов-путешественников посетил в девятом веке север Европы, нынешние Нидерланды. Он шел по непроходимой смеси воды и грязи, оставив в своем описании презрительное слово «себша»: земли там нет, одна себша, то есть соль с трясиной. Фризы, саксы и франки получили в дар от судьбы вот эту самую «себшу», вдобавок непрерывно объедаемую, ломоть за ломтем, ненасытной пастью моря, и они не убежали от нее, бежать было некуда. Они приняли то, что природа, наделившая германцев, славян, кельтов горами и лесами, долинами и рощами, сунула им под самый конец, эти ошметки земли без земли, воды без воды, — и стали на них работать. Двадцать два столетия работали тут племена, составившие голландский народ, — из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, с часа на час, с малых лет и до самой смерти отвоевывая у моря свою «себшу», осушая и превращая ее в сушу и создавая из бесструктурной, мертвой, соленой земли плодоносную почву.
Есть хороший фильм — «Голый остров». Но что такое «Голый остров» перед титанической былью истории, называемой сейчас «Голландия»? Ехать учиться у нее можно многому. Десятки видов и форм плотин, дамб, укреплений; сотни форм каменных кладок и сцеплений; машины, переворачивающие землю на полтора метра вглубь; машины, укладывающие дороги с нежностью, с какой мать укладывает ребенка спать; машины, вычерпывающие моря и озера, словно это котелок с борщом; особый вид тростника, reed-seed, которым засевают с воздуха осушенную почву, делая ее структурной и внося в нее бактериальную жизнь...
Началом всех этих работ был человек, его рука и лопата. А рука голландца — не простая. Мне рассказывали мои друзья, что когда родится ребенок в голландской семье, от самой бедной до самой богатой, мать берет его ладошки — чуть только он начнет понимать — и показывает ему на них две извилинки (они всегда есть на ладошках!): знак М, а если перевернуть, будет W (посмотрите у себя, вы их найдете!), и говорит своему ребенку: М — это человек (Mens по-голландски), a W— это работа (Werk). Человеку надо работать, человек родится, чтоб работать,— и это большое счастье, большое, большое счастье с первых шагов на земле знать свое назначенье.
Даже если то, что рассказали мне мои голландские друзья, только легенда, переходящая из рода в род, надо преклониться перед создателями такой семейной легенды! Но я думаю, что слова матерей, сказанные детям на заре их жизни, отнюдь не легенда в Голландии, а великая воспитательная традиция. И мне кажется — острые глаза царя Петра отличили еще в России, на ладонях знакомых голландцев, на ладони Геррита Киста, этот особый знак М — W, человек — работа, и захотели повидать страну, где люди умеют трудиться, любят трудиться и считают труд назначением человека.
Заандам
3. ПРОГУЛКА ПО АМСТЕРДАМУ
Из Заандама, если следовать обычными тропами туризма, едут в приморские рыбачьи деревушки-музеи, где всё как будто (и сами туристы в это свято верят) рассчитано именно на показ, за который если не платят деньгами, то расплачиваются покупкою дорогих сувениров — деревянных башмаков, моделей лодочек и яхт, всякого рода кукол в национальных одеждах.
Я тоже отдала дань этому маршруту, заехала в Фолендам, но сильно сомневаюсь, чтоб серьезный народ так уж и ходил в своих тяжелых деревянных шлепанцах ради удовольствия одних только туристов. Не забудем, что в лаптях ходят еще кое-где и у нас, а во время последней войны по улицам больших сибирских городов четко постукивали деревянные подошвы сандалий. Такие же яркие, необыкновенные, сохраняющие весь свой старый быт, все сложности национальных одежд, рыбацкие деревеньки есть и на знаменитых островах Эстонии; туда тоже ездят туристы, но было бы смешно воображать, что тамошние рыбаки соблюдают свой уклад и внешний свой облик только «для красоты» и чтоб наезжие надоедливые зрители глазели на них.
Описать всю прелесть Фолендама очень трудно, не впадая в стиль восклицательный. Вы подъехали к самому серому морю (оно тут серое, гривастое, грозное). Волны, как молоты, бьют и бьют о высокий берег. На самом берегу, стена к стене, лепятся узкие, в острых треугольниках черепичных крыш, разноцветные домики из знаменитого голландского кирпича (смеси торфа и глины). В море колышутся тоже разноцветные паруса рыбачьих лодок, синие, желтые, красные, и тоже в форме острых треугольников; а переведя с них глаза на деревенские домики, вы невольно представляете себе и эти домики как тесную флотилию лодок со вскинутыми крышами-парусами.
По узкой улице снуют жены рыбаков и девочки в длинных платьях с нарядными белыми фартуками и в белых накрахмаленных чепцах — тоже острой треугольной формы. Улица, правда, полна лавчонок с сувенирами, и немало стоит туристических машин, держась чуть не на честном слове, — на узких пятачках крутого берега, но кроме сувениров, — рыба, рыба, еще подпрыгивающая на прилавках, морская живность всех ракообразных пород, а рядом жарят картошку (горячая жареная картошка очень популярна на Западе, а у нас почему-то этого вкусного и дешевого лакомства нет в отдельной продаже), пекут рыбу, все пропитано рыбьим запахом, но не противно.
Фолендамцы живут отнюдь не сувенирами, а рыбой. И попробуйте-ка попросить в лавке фунтик картошки, когда пробил час закрытия торговли. Не отпустит вам хозяин ни за какие деньги — пришел час для семьи, на велосипедах съезжаются из школы ребятишки, задул северный ветер... И тут удержишься на ногах только в тяжелых деревянных башмаках — рыбацких башмаках — профессиональной, отнюдь не маскарадной обуви. Ветер рвет паруса в грозном сизом море; раздувает, как паруса, крахмальные чепцы и гофрированные фартуки; зажигаются и мигают лампы в домах. Нелегкая, но целесообразная жизнь в Фолендаме, отлично рассчитанная на дружбу с сердитым морем. Фольклор родится не как эстетика, он дитя нужды и надобности, и там, где на колючей стерне разрывается городская обувь, куда уместней дешевые лапти.
Уже стемнело, когда мы въехали в Амстердам. Вечер я потратила на чтение путеводителя об этом тысячелетнем городе, построенном «на костях селедки», как шутят сами амстердамцы, — тысячу с лишним лет назад здесь была бедная рыбачья деревушка. По путеводителю в нем такое множество вещей, нужных для осмотра, что я оставила лишь самое для себя важное: дом Рембрандта, городской музей с Ван-Гогом и Карелом Аппелом и архитектуру, не показную в городе, а разные мелкие уголки и улочки, куда редко забегают приезжие.
Чтоб попасть в дом Рембрандта, нужно было как раз пересечь по грахтам (улицам, идущим вдоль каналов), переулкам со съестными лавочками, крохотным площадям и подворотням, — чуть ли не весь город к вокзалу, туда, где раньше был еврейский квартал и где на Йоденбреестраат (Еврейской улице) стоит старый дом великого художника.
Развернув план, я отправилась в свою многочасовую пешеходную прогулку по Амстердаму. Мне хотелось прежде всего посмотреть вдоль грахт жемчужины старой амстердамской архитектуры, так называемые «старые дворцы», где, по каталогу, туриста ожидает интересная вещь.
Пятьдесят лет назад мне довелось стоять жарким январским днем — потому что даже январь в Греции жарок — перед розоватыми от бактерий колоннами Парфенона. Не было слов выразить свое наслажденье от синевы неба, на которой почти телесно, почти с совершенством живого, теплого тела человеческого, поднимались эти колонны, казалось бы, такие далекие от человека с его земными горестями и радостями. А они — как ни парадоксально звучит это — очень близки человеку, ближе, чем самая утилитарная постройка нового времени. Дело в том, что греческая архитектура в своей высокой мудрости щедро использовала оптический принцип, она всюду в своих величайших постройках учитывала, как будет видеть человек эту постройку; и секретами своего строительства шла навстречу человеческому зрению так, чтоб он видел перед собой именно гармонию, а не ее, пусть ничтожное, нарушение из-за особенностей человеческого зрения. Если строить колонны абсолютно одинаковыми по толщине снизу доверху, то человеческому глазу они покажутся в середине как будто чуть похудевшими, ставшими тоньше, и для того, чтоб этого не случилось, греки-архитекторы делали середину колонны чуть потолще, чуть припухло. Глаз не видел утолщения, он видел гармонию ровной, стройной колонны.
Эта высшая степень архитектурного искусства — ответ на запросы человеческого зрения, то, что делает искусство треков бессмертным, — оказалась налицо в Амстердаме, в знаменитых дворцах-домиках на грахтах, построенных еще тогда, когда грахты были в центре города. «Дворцами» они были во времена их созданья; сейчас это узкие, многоэтажные, плотно сдвинутые старые особнячки с крышами-треугольниками, с течением времени усложнявшимися: сперва — старая, простая форма гребней с карнизами по углам, потом более сложная, где гребни идут кверху ступеньками и справа, и слева; нарядная, где ступени заменены витиеватым рисунком, заканчивающимся наверху колпачком; еще более нарядная, в завитках рококо, с лежащей наверху скульптурой животного. Следующим этапом развития была уже плоская, как стол, аттика, с украшающими ее стоячими скульптурами. Но об аттике речь здесь не идет.
Когда вы смотрите на эти прелестные старые домики, вам кажется, что они наклоняют к вам треугольные головы, как в поклоне, — вот это и есть учет человеческого зрения, оптическая иллюзия, достигавшаяся строжайшими правилами, по которым архитектор в те века строил. Если б не эти правила, учитывающие человека в его главном органе восприятия, зрении, — возможно, домики как бы откидывались от вас назад, то есть отходили верхушкой от вашего зрения... Пишу «возможно», потому, что не знаю причины этого строительного фокуса. Но самый принцип, высокий принцип человечности в воздвижении зданий, огромное использование оптической иллюзии в древней и средневековой архитектуре кажется мне завидной чертой гуманизма, которую новое (новейшее) время частенько совершенно забывает.
Так я шла, глядя вокруг, и раздумывая, и вспоминая приверженность голландцев к точному соблюдению правил в другой области, правда, тоже у них знаменитом: в области выращивания тюльпанов. Сколько об этих тюльпанах писалось! Как ездили и описывали наши туристы Алкмаар и его цветочную, выставку! Сколько привозили для своих садов и огородов купленных луковиц... А вот об одном не пишут у нас: какое многовековое знание, выработавшее целый ряд правил, лежит в основе голландского разведения тюльпанов. Было, например, на опыте доказано, что тонкие тюльпаны хорошо растут на песке дюн лишь при условии, чтоб уровень воды (water table) всегда держался на 22 дюйма ниже земли — не на 21 или 23, а вот именно только на 22. И с величайшей, ювелирной точностью голландцы — выращиватели тюльпанов — соблюдали этот уровень, словно грань бриллианта. Не потому ли они и цари граненья бриллиантов, что умеют ювелирно соблюдать точность даже там, где действует не тончайший резец, а лопата?
Хоть я и шла по городу, заглядывая в двери съестных лавчонок, а думала не только о городе, не только о грудах живности, о незнакомых видах рыб, салатов, копчений, начинок, паштетов, то и дело отпускавшихся с прилавка в чаду ароматнейших запахов, — я думала о почве, какую голландцы сумели сделать из своей «смеси грязи и соли».
Немцы, в последнюю войну грабившие все оккупированные ими страны, вывозили из Голландии вагонами — знаете что? Почву. Почву, ювелирно возделанную, творчески созданную столетиями. Почву, дающую (цифры 1948 года) с одного гектара 4260 килограммов урожая пшеницы, в то время как Англия в этом же году дала 2820 килограммов, Франция — 1910, а хваленая Америка — 1110.
Но вот шумный «проезжий» угол, где надо не зевать, переходя на улицу Йоденбреестраат с ее синагогой и церковью Арона и Моисея, почти упирающуюся в Ботанический сад. Здесь тридцатитрехлетний Рембрандт купил себе дом (№ 4—6) и прожил в нем двадцать лет, пока не пришлось его продать в уплату долгов. Здесь пережил он смерть своей первой жены, Саскии, написал «Ночной дозор», сделал огромное количество рисунков на библейские и еврейские темы, пользуясь живой натурой, постоянно встречавшейся ему на улице и на паперти синагоги.
Рембрандта как великого живописца знает весь мир. Но Рембрандта как непревзойденного, гениального рисовальщика, умевшего двумя-тремя линиями жизненно точно передать натуру, знают гораздо меньше. Это знание получаешь, посетив дом на Йоденбреестраат, где не только развешано и показывается собрание почти всех его гравюр и кое-что из рисунков и документов, но и сохранены в специальной маленькой комнате возле прихожей все инструменты его гравирования и дается подробное объяснение его гравировальной техники.
Тем, кто читал переведенный у нас роман Тойна де Фриза «Рембрандт», будет интересно пройти по всему дому с его старинной мебелью, заглянуть в комнату учеников, в комнату сына художника, Титуса, в спальню Саскии. Должна честно признаться, что как ни хорош роман Тойна де Фриза, как ни приближает он к нам окружение великого мастера, события его жизни, образы его современников и особенно его смерть, но дано это, — подобно знаменитым нидерландским интерьерам, — семейной сценой, психологией любви и ненависти, влюбленности и дружбы; а так как материала для полного индивидуального раскрытия внутренних психологических коллизий членов семьи Рембрандта и его учеников было у автора мало, получился некий общий психологический портрет, причем больше сына Рембрандта, Титуса (как он учился, возмужал, женился), нежели самого Рембрандта.
Пишу это потому, что творческая биография великого нидерландца, великого, как крупнейшие фигуры итальянского Ренессанса, еще не написана, а многие загадки именно творчества Рембрандта так и не разрешены до сих пор, и даже Тойн де Фриз, к сожалению, почти не поставил их перед собой.
Идя бесконечным рядом рембрандтовых гравюр и стараясь проникнуть в духовный интерес и творческую мысль, двигавшие художником при выборе той или иной темы, я набрела на одну из таких загадок и не нашла ни в Голландии, ни в Москве, ни у Тойн де Фриза и ни в одной из доступных мне книг о Рембрандте ее разгадки. Примерно в 1652 году, сорока шести лет от роду, Рембрандт рисует странную фигуру ученого над манускриптами; ученый в халате привстал из-за стола и глядит в окно, а из окна льется свет, видна таинственная криптограмма типа масонских,— и надпись на этой гравюре: «Доктор Йоханнес Фаустус», в скобках: «(Иоганн-евангелист?)». По каталогу англичанина Хайнда (А. М. Hind. «А Catalogue of Rembrandt's etchings», London, 1923) это рисунок № 260 во втором томе. До Рембрандта, сколько знаю, никто не отождествлял автора Апокалипсиса, юношу-евангелиста, со средневековым доктором Фаустом. Вопросительный знак, знак сомнения (в авторстве? в собственном предположении?), поставлен ли он музейными работниками или самим Хайндом? Даже этого я не могла узнать на месте. Гравюра сделана в один год с другими библейскими рисунками Рембрандта — «Молящимся Давидом», «Поклонением волхвов», «Христом, произносящим проповедь», «Звездой трех царей» — той самой, какая вела пастухов и царей к яслям Вифлеема. Много ландшафтов писал в этот и предыдущие годы Рембрандт, а за год до своего странного евангелиста-Фауста он создал потрясающий рисунок слепого Товия, сгорбясь пробирающегося вдоль стен не библейского, а как будто амстердамского закоулка, словно сам больной Рембрандт перед своей смертью.
Когда я вышла из дома Рембрандта, меня охватили шумы и краски нашего двадцатого века. Но Амстердам, почти и не виденный мною, вдруг показался до того знакомым — через Рембрандта, через все, что передумалось в его доме-музее, что я, почти не спрашивая, по старым, незнакомым улицам, по какой-то площади России, вышла к узенькой Ломбардстеех — прямо к дому, где знаменитый голландский поэт семнадцатого века Йост ван ден Вондель работал в последние годы своей жизни бухгалтером. И он, этот Вондель, был, как добрый знакомый; и в Государственном музее, куда я добралась через весь город, добрыми знакомыми были современники Рембрандта, Франс Хальс и Рейсдаль, и ученики его, Филипс де Конинк и Говерт Флинк, узнанные через роман Тойна де Фриза, хотя, может быть, и не такие, как у него. Но так велика сила художественного слова, что оно может продиктовать вам свою трактовку истории.
Амстердам
4. «ЕЩЕ ОДИН... ДАМ»
Кроме Государственного, в Амстердаме необходимо посмотреть Городской музей, где хорошо представлен Ван-Гог, во всей детской чистоте его красок и наивной привлекательности его штриховой манеры в портретах. После этого гениального большого ребенка в живописи — с его добрым взглядом и свежим воздухом его лаконичных пейзажей — идите смотреть Карела Аппела.
Вам покажется сперва, будто вы попали в мастерскую сумасшедшего обойщика, буйно размазавшего все свои краски в поисках лучших образцов для стенных обоев. Но терпенье всегда лучший судья. Терпеливо идя из залы в залу, разбираясь в этих судорогах красного, черного, фиолетового, оранжевого, синего; в завитках, бубликах, кружках, спиралях, — вы начинаете различать то, что можно обозначить человеческим словом. Во-первых, глаза. Из яркости необыкновенно интенсивных красок и коловращения их завивающихся потоков, словно стекающих с кисти, почти всюду на вас смотрят глаза или то, что можно назвать глазами: два неодинаковых круга, две впадины, две выпуклости, устремленные на вас с полотна. Облик этих картин страшен — челюсти (если это челюсти) выдвинуты вперед, и кажется, будто вы слышите зубной скрежет (масло, 1964, под названием «Спор»); белоглазое нечто на голубом подобии лица тащит за собой желто-синей тряпкой — подобием руки, — как ребенка, красную круглую голову-шар (масло, 1964, «Женщина с головой»). Это — из более постижимого в его живописи. Об этой живописи написано с десяток монографий; ее можно увидеть в галереях голландских городов, Нью-Йорка, Лондона (Тэйт-галерее), Белфаста, Брюсселя, Цюриха, Осло и у множества частных коллекционеров. Карела Аппела воспевают в стихах. О нем пишут, как о «варварской музыке». Вот строки поэта:
Он подобен земле,
большой горячий желудок.
Это — натуральная вселенная.
Это — Аппел.
Сперва вы склонны иронизировать и даже возмущаться. Но повторяю — терпение хороший судья. Во-первых, как там ни остри, но два длинных яйцеподобных лица — это действительно двойной портрет профессора Лупеску и Мишеля Тапье, по которому нельзя не почувствовать человеческие индивидуальности. Во-вторых, — комочек вихрей («Долли», 1962) — это настоящая собака. В-третьих, все это дано в вихревом движении; поразительная чистота и цельность этих красок, не знающих нюанса, — букет их сам по себе отраден зрению; и хотите вы или нет, — стихийный мир Аппела притягивает вас. Карел Аппел в Голландии, в этом классическом царстве реалистической живописи, занял свое место, каким бы он ни казался странным.
Уже под конец дня я вернулась из Амстердама в Гаагу, с грустью чувствуя, что не удалось ни повидать Лейдена, ни порыться у букинистов, ни поглядеть в архивах первые издания Яна Амоса Коменского и квартетов Мысливечка. Гаага в этот вечер жила дипломатическими приемами, и белые ее особняки светились ажуром своих окон.
Я уже боялась, что мне ничего другого, кроме прогулки по этим чинным, немым улицам, не предстоит, как друзья предложили проехаться, — совсем недалеко, в предместье Гааги, чтоб посмотреть «еще один ...дам».
На войне с немецкими фашистами, 10 мая 1940 года, отличился один молодой голландец, почти мальчик, — Жорж Ляйонель Мадуро. Он был командиром небольшого взвода зеленой молодежи. Набросав смелый план захвата занятой немцами за рекой Флит виллы Левенбург, он с необычайной отвагой, во главе своего взвода, выполнил этот план, бросившись в атаку и захватив в плен немцев. Ему присужден был посмертно рыцарский диплом. Но этот погибший смельчак был единственным сыном у своих родителей. Как увековечить память его? Как сделать, чтоб их мальчик, гордость их, остался жить в памяти у голландской молодежи, продолжал бы приносить пользу родному народу? Только родительские сердца и только, пожалуй, в Голландии могли найти поразительный ответ на такой вопрос.
Голландия, страна бесконечных плотин и многих городов и городков у плотин — Роттердама, Заандама, Фолендама, Амстердама, — почему бы не обогатить ее еще одним «дамом» — городком «Мадуродам», в основу которого легло бы любимое имя? Вот какая мысль мелькнула у родителей погибшего героя. Построить новый голландский город, Мадуродам! Идея захватывающая, но в основе ее — ничего особенного: еще один город среди сотен других... Нет, Мадуродам должен быть не просто новым городом. Что-то в нем должно ни на что другое, ни на какой другой город не походить — город вечной молодости, вечного детства... Так, постепенно — от одной мысли к другой, одного совета к другому — возникло и осуществилось под Гаагой нечто, куда мы сейчас, по зеленым аллеям улиц, мчались на машине.
— Мы едем удачно, — сказали мне друзья, — еще не совсем стемнело. Сперва увидим это при дневном свете, а потом посмотрим в вечернем освещении и останемся допоздна.
Что именно увидим, я еще не знала, потому что мне не договорили, на чем решили остановиться родители молодого Мадуро, чтоб увековечить его память. Но вот машина быстро сделала поворот, и мы подъехали к обыкновенной кассе, где продавались билеты. С каталогом в руках мы вступили в замкнутый мир, где на небольшом сравнительно пространстве, тесно сгрудившись башнями, колокольнями, зданиями всех эпох, прорезанный, как лабиринт, извилинами одной-единственной улицы, — возник город, где даже высокие постройки не везде доходили до подбородка двенадцатилетней девочки. Город-игрушка с улицей в три с половиной километра. Город-игрушка, где все было настоящее, строившееся крупными архитекторами с главным архитектором С. И. Боума во главе, но уменьшенное в 25 раз против настоящего размера.
Мы вошли в этот город, подчиняясь порядку следованья в каталоге, и увидели, какая мысль легла в его основу: показать на одной-единственной модели настоящего города всю Голландию, какая она есть, взяв из разных городов — Утрехта, Лейдена, Дельфта, Роттердама, Харлема, Амстердама, что у них есть самого интересного, и воспроизведя это в точной копии, добавив крестьянскую ферму с ее угодьями, гавань, аэропорт, все виды транспорта, увеселений, культурных памятников; соблюдая хронологию, — начав с тысячелетней давности и доведя до наших дней; и дать всему этому жить и дышать, колесам — двигаться, часам ходить, колоколам звонить, музыкантам играть, кораблям плыть, автомобилям мчаться... В дневном освещении мы увидели зримую, полную голландскую энциклопедию, в два с половиной часа дающую огромный объем знаний не в голых понятиях, но в образе и звуке.
Сперва мы подошли к старинной ратуше Бинненхоф, переделанной во дворец, где жила бывшая королева Вильгельмина и живет сегодняшняя королева, ее дочь Юлиана. Перед подъездом стояла крохотная золотая карета, а вокруг почетный караул. Раз в год, в третий четверг сентября, двери подъезда распахиваются, выходит королева, и зрители могут видеть парад и торжественную процессию по пути ее в парламент. Идя дальше по улице, вы последовательно проходите через века, от древней крепости на острове Оост-Воорн, городских ворот и водопровода XVII века, церкви Миноритов, виллы бургомистра, бюста Рембрандта — до бесплатной городской библиотеки, знаменитого голландского банка и здания газеты, на крыше которого бегут светящимися буквами новости дня, как у нас на крыше «Известий». Концертный зал, в воротах его автомат-касса. Бросьте в нее монетку — и из миниатюрного концертного зала польются настоящие звуки симфонического оркестра... Таких касс-автоматов много перед вокзалом, гаванью, казармой, каруселями, парком с народными увеселениями. Желающие положить монетку стоят живой очередью, и музыка звучит непрерывно, сменяясь — веселая на серьезную и опять на веселую; непрерывно хлопают двери, маршируют солдаты, крутит шарманку бродячий музыкант, взлетают качели, бегут и бегут под музыку лошади, верховые и впряженные в тележку, крутя в бесконечной езде публику на карусели; из туннеля выходит, гудя, поезд, ведя товарный состав; бегут по автостраде автомобили разных марок, и гордо, медленно отходит от пристани пароход с нарядной публикой на корме... Вся эта жизнь пробуждается вместе с монеткой, брошенной в кассу-автомат.
Но одно здание работает бесплатно; это — церковь. Церковная служба не требует ни завода, ни оплаты. Из узких окон доносится глубокая мелодия органа. Идет месса, поет хор, — как в настоящем храме... Мы побывали перед витринами огромного торгового универмага, точной копии с гаагского. Увидели здание конгресса, клуб студенческого объединения в Дельфте, фабрику из города Лейдена, старинные городские весы на площади против ратуши, почту, кино, университет в Лейдене... Перечислить все, что в течение двух с половиной часов разворачивалось перед нами, просто немыслимо, — это было настоящее странствование по городу, хотя самый город и был игрушечный.
Тем временем стемнело, и вдруг всюду перед нами зажглись огни. Вспыхнули лампы на улицах, прожектор осветил памятники, дом Спинозы. Одно за другим осветились окна в домах. Разноцветные рекламы, пестрые огоньки стадионов и парков, волна белого света на аэродроме, в гавани, на вокзале — все, как всамделишное; и как настоящий вечер в большом городе — воздух вокруг пропитался таинственными зовами неведомых встреч, зовом несбыточного, той странной душевной приподнятостью, когда ждешь от жизни чуда. Новые толпы зрителей наполнили узкую улочку Мадуродама. Со всех сторон опять полилась музыка. В игрушечных парках из игрушечной кишки стали поливать настоящие маленькие деревца, осыпанные цветами. И по-настоящему запахло в Мадуродаме душистым ароматом цветов.
Мы увидели странную группу: шли друг за другом большие взрослые люди, ведомые девушкой-гидом. Они останавливались возле каждого здания и, покуда девушка им рассказывала, протягивали руки и ощупывали здание, с потолка до фундамента, обводя пальцами окна и двери. А девушка объясняла им: это окно, это дверь. Впервые в жизни слепые сверху до низу ощупывали многоэтажный город! Так модель чуть ли не всей Голландии помогла тем, кто был слеп от рождения, почувствовать и через осязание, руками, — увидеть свою родину, понять, что такое окружающий их городской мир.
Невольно приходила в голову мысль о философском смысле тех элементов, которые, казалось бы, ничего философского не имеют в себе: размера, объема предметов. Уменьшение огромного города в 25 раз дало возможность слепому охватить его руками и познать его форму, что раньше было немыслимо для него.
Ну, а если нарушить размеры в другую сторону? Что такое любовь нашей современности к грандиозному, к небоскребам, к огромным залам и стадионам, а от них — к тем абстракциям в искусстве, в музыке, какие создаются без учета диапазонов человеческого восприятия, все меньше и меньше считаются с отпущенной человеку природою мерой вещей, с резервами его слуха, его зрения и — главное — его нервной системы? Значит ли это, что человек должен все время расти из своих пределов, учиться расширять диапазоны приемлемого для него в звуке и в зрении?
Так мы шли по сказочному Мадуродаму, прощаясь с милой Голландией и мирно философствуя. А наутро, наскоро простясь с Гаагой, мы уже мчались на машине к Хук-ван-Холланду, где в сизом тумане, на сизых волнах очень неспокойного моря покачивался у рейда пароход «Королева Эмма», который должен был повезти меня в Англию.
Хук-ван-Холланд
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
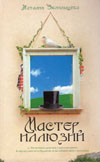
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





