ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


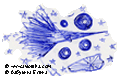
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Байрамукова Халимат 1984
— Пробуй, дитя мое, пробуй. Вы, городские, привыкли к тонким блюдам, и наше кушанье, может быть, не по вашим желудкам. Дети? Да они, сынок, целый день едят, зубки не перестают работать. Это они пришли на тебя глазеть, хотят с родственником своим познакомиться, а кушать-то кушали. Вон там столик у них, видишь, даже не тронули еду. Дай аллах тебе долгой жизни, вот с этими черномазыми у меня уже до сорока внуков. Эта? Эта курносая — самая младшая. Никак не хочет со мной расставаться, вот сядет на колени ко мне и сидит. Дай в лобик поцелую тебя, сердечко мое.
Пробуй, сынок, пробуй. Разве так кушают, как ты? Слава аллаху, есть что кушать. Кушай, пожалуйста, колбасу-то я сама делала. Вкусно? То-то оно, я и сама знаю, что вкусно. Выпей и чарочку, что там, подумаешь, с наперсток. Ну что ты, Хасан, постеснялся бы гостя... стара я уже... пить-то. Не старая? О-о, пусть вперед тебя помрет твоя бабушка, доченька. Никак не хочет, чтобы я старая была. Нет седых волос? Ну что ж, доченька моя, и без седых волос можно быть старой. Вот так всегда, и не дадут договорить мысли, как будто схватывают их и прячут где-то. Что я, бишь, хотела сказать-то... Да, да, вот вспомнила. Когда отец моих детей был еще жив, царствие ему небесное, он иногда потчевал меня чарочкой-то, а с прошлого года, с тех пор, как он умер, я и не пробовала, сынок, разве только когда вот такой желанный человек придет в дом, как ты... Горянки в этом деле очень сдержанны, сынок, ты же знаешь. Я-то? Хасан, я не посмотрю, что ты у меня человек семейный, и дам тебе кочергой. Вот у меня семья какая, сынок, слышал, как он подтрунивает над мамой-то? Да ведь это я сама их так приучила, что их винить! Я подруга для дочерей и невесток своих и друг для сыновей и зятьев, а ты сам знаешь, что у горцев это не принято.
А я, сынок, очень люблю веселье, очень люблю, когда семья с тобой делится и ты с ней, а не то что каждый себе особливо мыслит и живет. Люблю, когда в доме смех не из-за угла зубы скалит, а когда сидит на почетном месте, на подушке, как вот ты сейчас. Слово к слову, как говорится. Знаешь, сынок, вот мне читают книги, я слушаю радио, и мне очень не нравится, когда о горянке пишут, как о неживом человеке. Можно подумать, что она какая-то ледяная сосулька, что смех никогда не показывает ее зубы наружу, а она-то на самом деле и веселиться умеет, и держать себя умеет. А если смех не раскрывает ее белоснежные зубы, то в этом вина мужчины... Кушай, сынок, кушай. Это я сама тебе приготовила — у меня так и заведено: когда ко мне приезжает очень желанный гость, то я сама готовлю пищу. И выпей еще чарочку, ничего, ведь она с наперсток. Да не дури ты, Хасан, куда мне пить. Раньше? Раньше я была молода. А сейчас вот, слава аллаху, седьмой десяток, а я, сынок, такой молодой себя чувствую, что скажи мне кто-нибудь: переверни, мол, вон тот седоглавый Эльбрус, я, кажется, перевернула бы. Не смейся, не смейся ты, насмешник.
Да, да, сынок, ты прав, жизнь делает человека и старым и молодым. Да, правильно, и от семьи многое зависит. Вот они-то, вот эти насмешники, и держат меня молодой. Вставай, доченька, вставай, ногу уже пересидела из-за тебя. Иди играй. Две? Вот видите, вот эта моя черномазенькая каждый день считает мои морщинки на лице. Не беспокойся, доча, еще будут. Ну хорошо, что только две. Пойди поиграй. Разве кто скажет, что у меня фартук коричневый? Без конца приходят и садятся ко мне, и все хотят залезть с ногами. Знаешь, сынок, я сама бы не смогла без них ни одного дня. Я на них-то покрикиваю для виду, так просто. Ладно, потом переменю, дочка, не надо.
Пойди, доченька, принеси дрова, в коридоре они. Это дочь старшего моего, не говорила тебе, сынок? Она в Москве на большого доктора учится, приехала отдыхать, мать и отец ее в городе живут, а она как только из Москвы, сразу ко мне. На чем же я остановилась? Моим рассказам конца-краю не бывает — где с конца, где с середины, лоскутами как-то у меня всегда получается. Раз ты сегодня будешь говорить со всем аулом, не опоздай, сынок, иди, а вечером придешь. Спасибо, сынок, что ты приехал с такой хорошей вестью для аульчан.
А ты откуда прибежал! Не надо, око мое, не трогай рукава, что в них нашел? Не надо застегивать манжеты, родной мой. Он не может переносить, если у меня рукава закатаны, он знает, что я буду что-то делать, а он, видите ли, не хочет. Как это можно сидеть, заложив руки за пазуху?! Око мое, кончик моей души, пусть твоя бабушка покинет свет вперед тебя, иди играть, на вот это, положи в ротик, соси. А-а, пришла ты, келин [Кели́н — сноха.], на обед пришла? Садись, душа моя, вот с ними пообедай. Как с твоим планом, душа моя? Вот хорошо, так и надо работать. Четыре тысячи литров обещала келин надоить.
Ну что ты, Хасан, хватит с меня. Чего же еще хочешь, чтоб я рассказала? Ты оставь это, иди выспись, раз на ночь пойдешь работать. В Турции-то?
Да, Турция, Турция... Боюсь даже во сне видеть... Ведь тогда нам говорили, что в Турции бедняк становится миллионером, люди имеют большую свободу... Такая молва тогда ходила в Карачае. Какие-то люди бродили из дома в дом и поднимали нас с насиженных мест, а оказалось... Да что... Уж я-то знаю, чем это кончилось... Врагу своему не желаю того видеть, что нам пришлось видеть и в дороге и там... По три-четыре месяца ожидали пароходов у берега. Люди мерли, как мухи, от голода и жары. А когда сели на пароход, то с того момента нас записали в турки, кто не хотел стать турком, выбрасывали в море. Море, море... О, как я боюсь его с тех пор, ведь моя мама... Моя мама съедена акулами... Да, да, она дорóгой умерла, на пароходе, мы скрывали это от турков, везущих нас, но акулы все время преследовали пароход, их становилось все больше и больше. Турки стали догадываться и стали обыскивать, нашли закрытый тряпьем труп моей мамы и... и отдали... Бросили ее акулам... Тогда акулы отстали от нас... Прости меня за слезы, сынок...
Уже несколько месяцев мы влачили жизнь на земле турков, назывались турками. Ребят наших сразу взяли в армию, перерядили в шаровары, в которых горцы никогда не ходили, а мы все стали дешевыми рабочими для разных пашей. Мой брат там, в их армии, погиб, бедняга...
Но однажды я не выдержала. Сама не знаю, как очутилась в доме соседа-турка. Это был противный слюнявый молла, как сейчас помню. И знаешь, сынок, пошла без паранджи. Да, как только мы приехали, нас, женщин, заставили носить паранджу. Наши мужчины протестовали, говорили, что у нас сроду никто не носил паранджу, но турки и слышать не хотели. А у них-то все женщины ходили под паранджой. Девушка-турчанка наденет шелковые шаровары, на лицо — паранджу, сядет на ишака и помчалась, a у нас ведь не только девушка, но и мужчина не ездит на ишаке. Так вот я пошла к соседу-турку, и отсюда начались наши беды и счастье. Да-да, счастье.
Келин, душа моя, возьми с собой обед и для старшей келин, туда, на поле, а вечером, после работы, позвоните сыну: пусть приезжает в свой выходной день за мной, да не забудьте сказать ему, пусть приезжает на ЗИМе, на других машинах не хочу, так и передайте. Знает он сам? Я знаю, что знает сам, но напомните, ничего. Меня все тащат к себе гостить, а я-то привыкла у себя тут. Ну вот, и пошла и пошла я учить этого турка, советовать: почему фасад вашего дома повернут туда, а не сюда (а они-то на юг делают), и почему вы носите красные шаровары, надо носить шаровары темные. Курай не кладите близко к очагу, а то может случиться пожар... Я сидела спиной к стене, на которой висела шкура козла, на ней обычно молился молла аллаху. Как это она отцепилась от гвоздя и упала прямо на меня? А я возьми да скажи: «Проклятье, зачем ты на меня падаешь? Падай на тех, кто падает на тебя». Сказав так, я вдруг заметила, как молла сполз с деревянной кровати, на которой сидел, и с палкой кинулся в мою сторону. Тут я поняла, что делаю что-то не то, и стремглав выбежала из его дома. Вслед мне посыпались слова наполовину турецкие, наполовину карачаевские: «Бесстыдница, карачайка, осмелилась прийти без паранджи ко мне, поучать мужчину», — а дальше уж и не знаю. Жена его тоже что-то кричала, не то мне, не то уговаривала мужа успокоиться. Дочка, нарежь еще мяса и жарь. Я прибежала к себе, а отец моих детей вышел искать меня, теперь только заметил, что я выскользнула. Он был шутник. «Кого-то уже наставила на истинный путь, кого-то уже поучила, мать, а я-то хотел, чтобы ты нам самим что-нибудь присоветовала...»
— Отец, отец, — сказала я, — если до сегодняшнего дня я принимала участие в домашних советах, то теперь, если хочешь, распоряжайся сам всем. — Сказав так, я села прямо на землю — не могла стоять на ногах, так дрожала вся.
Примчался молла. Как только не обзывал и меня, и отца моих детей, что он меня не держит в вожжах. Он сказал, что меня будут судить по Корану за то, что я открыла мужчине лицо, за то, что я старалась наставлять его, мужчину. Мы-то знали, что таких женщин сажают на ишака и водят по всему селению напоказ и каждый вправе плюнуть ей в лицо и бросить камни. И до этого случая мы, несколько семейств, замышляли побег, ну а теперь обязательно надо было бежать. И вот пять семейств в ту же ночь бежали, не захватив никаких вещей. К счастью, тогда у нас один только был ребенок, старший сын, на руках.
И вы не спрашивайте, и я не хочу вспоминать, как мы через два месяца добрались до родных гор, по дороге просили милостыню...
Наконец мы в старой своей заброшенной сакле. Какое это счастье, о-о, какое это счастье — вдруг очутиться в своем доме, в родном доме! Отец моих детей был шутником, бедняга. Когда мы перешли порог избы, он сказал: «Вот теперь-то твой совет молле повернулся в нашу пользу».
А землицу-то нашу, оказывается, уже прибрали к рукам баи. Оказывается, они поэтому и уговаривали нас покинуть родные горы... О, сколько мы пережили из-за этой землицы своей, но так бы, наверно, и остались бы ни с чем, если бы не Ленин...
Моим рассказам, сынок, конца-краю нет, надоела небось тебе. Нет? Знаю, знаю, старухе снисхождение делаешь, ну что же, пусть, пусть. А вот моя семья привыкла меня слушать или это делает для того, чтобы я не скучала, что ли, не знаю. Этот вот, что с тобой сидит да посмеивается надо мной, это самый младший в семье. И сыновья и дочери мои — веселый народ, снохи тоже такие.
Веди, Хасан, гостя в сад, покажи ему наш сад, воздух такой чистый, хочется не дышать им, а пить его ковшами. Вообще-то, когда пройдешь через ужасы в жизни, тогда лучше умеешь ценить хорошее. Идите, а то надоела я вам. Что ты, сынок, я ведь не умею рассказывать: с конца, с середины, так себе. А что о Ростове рассказать? Ты не копайся в моей памяти, Хасан, иди поспи, ведь тебе ночью работать надо. Ростов? Ростов много оставил в моей памяти. Доченька, достань-ка в правом углу в сундуке фотографию. Да, завернута в плюш. Дай-ка мне ее. Вот, посмотри, сынок, это хозяйка Ленина — Надежда Константиновна Крупская, а вот рядом с ней... да, правильно узнал, сынок, это я. Вот это Клара Цеткин, рядом с ней наша Конфет, а это Мария — сестра Ленина, это Саша. Что ты, сынок, какая я красавица?! Ну да это верно, симпатичною меня всегда называли. Да нет, разве я сохранилась, что ты, сынок, прости тебя аллах, а впрочем, вам видней, я ведь теперь в зеркало редко смотрюсь. Что? Те же брови дугой? Как фотографировались? Тех дней я никогда не забуду, они меня сделали другим человеком...
...Вернувшись из Турции, мы тяжело жили. Соседи, родственники старались нам помочь, поставить нас на ноги, но как? Ни клочка земли, ни скота — ничего, а семья все растет. Отец моих детей нанялся в батраки, но что он там зарабатывал — пять лет пас отары бая и днем и ночью, а получил только одну корову... Ох, как нам было тяжело.
...А потом пришла в горы наша власть, отец моих детей сразу стал помогать этой власти — он был проводником в горах для буденновских ребят — проводником, значит, Советской власти. Получил землю, стали жить по-человечески, хоть нехватки были, ясное дело. Когда дом строишь, то в другом надо сдерживать себя. А потом, вот до прошлого года, до смерти, он получал пенсию за то, что раньше работал на лесопильном заводе. Дети выросли, ну, жить стали, как надо. Он радовался, бедняга, этой жизни. Ох, это был доброй души человек. Как он хорошо относился к женщине! Никак не мог простить себе, что когда-то украл меня. Да, сынок, украл. Друзья его подбили. Я шла за водой. Вдруг настигли меня какие-то всадники, закрыли мне рот, бросили в седло и умчали. Когда отъехали далеко от аула, открыли мне лицо и первым увидела я будущего отца моих будущих детей. Он скакал рядом со всадником, на седле которого я была. Я обрадовалась и со слезами сказала ему: «Меня куда-то везут, ты, пожалуйста, спаси». Он, бедняга, отвернулся и не мог ничего ответить. Я-то не знала, что меня везут для него. Потом он признался, что в тот момент, если б мог, провалился бы сквозь землю.
Однажды он пришел поздно вечером. Помню, я подметала полы. Он говорит: «Сейчас я, мать, порадую тебя: в Совете я записал тебя в делегатки. Теперь ты должна учить женщин жить, учить строить нашу власть». «Аллах мой, я же сама ничего не знаю, чему я могу учить?!» — сказала я, верите, ни жива ни мертва.
Утром мы собрались с ним в Совет. Я не знала, что такое Совет, шла впервые. Была зима. Я надела самую хорошую свою шубу из мерлушек, повязалась темным бахромчатым платком, обулась в сафьяновые чувяки, и вот мы с ним отправились...
Убери-ка, дочка, со стола. Ягненочек мой, уснул на руках. Возьми-ка, Хасан, осторожно, положи на диван. Пусть спит. Включай-ка радио, уже должны говорить известия. Мой-то рассказ? Ты прости меня, сынок, но я не могу радио не слушать, потом расскажу. Новости я жду каждый день с нетерпением. Вот эти ребята, что на землю со стороны посмотрели, космонавты, о-о, это смелые ребята. Спасибо их матерям. Я этих ребят люблю так же, как вот своих. Как хочется их видеть не только на карточках, а посидеть бы, зарезать барана для них и гладить их по голове. А что? Я верю, если б я написала, что я, старая горянка, хочу видеть их у себя в доме, я верю, они бы приехали, только не хочу я у них отнимать время, у них работы много. Постой, кто говорит? Ой, слышите, старый Джансох собрал бригаду из стариков и пошел косить сено колхозу. Он такой всегда, я знаю. Работу любит, ведь на крутых местах машиной косить нельзя, а чтобы сено не пропало, он и организовал, молодец. Мы с ним на одних свадьбах танцевали. Свадьбы? Да кто ж не любит свадьбы? Я ведь к тому же гармонисткой была. Сейчас? Сейчас тоже понемногу играю, но уже не то. Бывало, когда на свадьбах выходил парень, который мне не особенно нравился, то я для таких не мелодию играла, а просто водила по басам и все. Что только не выделывала...
Так вот, стала я называться делегаткой в Хурзуке. А с женщинами я находила всегда общий язык, они меня слушались. Приходилось ругаться с некоторыми мужьями, кто не разрешал жене ходить на собрания, всякое бывало. Мы работали, ие жалея себя, и я думаю, что немало сделали. Вот в те годы нас и пригласили к себе в гости хозяйка Ленина и друзья ее. Это было в Кисловодске. Они нас учили многому, рассказывали, как мы должны работать. Так тихо, так душевно говорила хозяйка Ленина, о-о, как мы их полюбили! В те дни мы еще раз заново родились на свет. В Ростове-то? В Ростове был большой съезд всего Северного Кавказа. Никогда не забуду. Шли мы по большому мосту через реку Дон. Зима была. Шли на экскурсию, с музыкой, с танцами. А как же, сынок! Выступала, говорила, с трибуны говорила. Когда я выступала, всегда чувствовала на себе взгляд нашего Умара, знаешь, конечно, Алиева Умара, который фотографировался с Лениным, с Кировым, с Орджоникидзе. Рядом с ним в президиуме сидел Ислам Карачайлы, то есть в газетах он так писался, а фамилия его Хубиев, он был моим толмачом, мои слова, что я там говорила, он переводил людям. Я чувствовала, как они вроде говорили мне: «Мадалес, мадалес, Хауа, правильно говоришь, так, так»... Ох, какие это были люди... Что говорила им? То, что мне сердце подсказывало: «Дорогой товарищла, джолдашла, — сказала я, — по-русски я не знаю, — сказала я, — но на каком бы языке я ни говорила, вы должны меня понять, — сказала я, — потому что у нас говорят: от сердца к сердцу есть дорога. Горянка теперь вышла на широкую дорогу, — сказала я, — и по этой дороге ведет ее мысль Ленина, и она приведет ее, горянку нашу, на самую вершину Эльбруса и скажет: видишь, как ты высоко поднялась, у тебя есть крылья, у тебя есть ясная дорога, голова твоя касается неба, ноги твои на крепкой земле, впереди солнце, — сказала я, — и вот за это, — сказала я, — мы любим Ленина, мы будем делать все, чтобы все было по Ленину. Пишите, — сказала я, — пишите меня, в партию Ленина, она наша, эта партия», — сказала я и первая из женщин-карачаевок вступила в партию. Вот видишь, сынок, он, мой билет, всегда при мне, я горжусь этим. Как закончила? Да так же, как и начала, все по сердцу, то есть, что сердце скажет: «Да здравствуйт джолдаш Ленин! Здравствуйт Советский власть! Если я неумело выступила, дети мои, вы все равно поняли меня»,— сказала я. Так стали хлопать мне, аж, наверно, и в моем Хурзуке было слышно. А потом я уже отошла от трибуны, но вернулась и с комом слез в горле добавила: «Товарищла, надо знать цену всему, дорожить умейте всем, что мы получили, то есть свободой дорожить умейте. Что бы было со мной, если б я так и осталась в Турции?!»
Я заплакала перед залом, но это уже были другие слезы.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





