ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

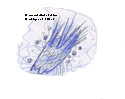

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Серебрякова Галина 1958
НАЧАЛО ЖИЗНИ
У меня не осталось воспоминаний раннего детства. Когда окружающие рассказывают о том, что они переживали детьми, я не верю им так же, как не верит глухой в существование звуков. Может быть, причиной тому — частые болезни той поры, которые сделали смутным минувшее. К тому же вокруг не было людей, своими рассказами сохранивших для меня начало моей жизни. Близкие умирали, и с ними исчезали воспоминания о моих детских словечках и шалостях — начале пробуждения человеческой личности.
Мать является мне каждый раз как новый образ, созданный воображением. Не помня ее живой, я люблю и тоскую по ней.
Родственница матери взяла меня к себе, когда мне минуло семь лет. И началось мое детство в странном несчастном доме, который мне суждено было называть отчим. Меня приняли в нем ласково и очень скоро предоставили самой себе.
Теперь, издалека, я начинаю по-иному понимать свое прошлое.
Жизнь — что восхождение на гору. С каждым шагом открывается новая панорама. Все как будто то же и вместе с тем другое, с каждым новым уступом оставшееся позади представляется в новых очертаниях.
Девочку, которая стала моей нареченной сестрой, звали Катей. Сначала я ей завидовала. У нее было много игрушек, ей позволялось капризничать. Позднее я поняла, что она попросту была дурно воспитана, вернее, никто по-настоящему о ней не заботился. Впрочем, ее мать, отец и дед полагали, что она, наоборот, избалована чрезмерным вниманием.
Рядом с комнатой, в которой находились мы, была комната нашего деда. В человеке этом старость олицетворялась во всем могуществе его разрушения. Седые волосы, морщины, вставные челюсти, пустые, глубоко запавшие глаза, дряблые губы, искривленная спина, руки, жизнь которых проявлялась в вечной дрожи, желтые руки, всегда что-то перебирающие. Когда руки деда бывали спокойными, они, казалось, умирали. Часто, наблюдая старика спящим и глядя на его синеватые затвердевшие пальцы, я с трудом сдерживалась, чтобы не закричать:
— Дедушка умер!
Но он жил. Жил напряженным сожалением о прошедшем, сожалением о напрасно прожитой жизни.
Он был атеистом. Смерть не обещала ему ничего, и тем мучительнее были для него мысли о прошлом. Это было унылое подведение итогов нелепо растраченных лет. Теперь я поняла его трагедию, которую домашние называли старческими причудами. И старик этот всегда будет олицетворять для меня суровый вопрос: так ли живешь?
Жизнь его прошла бурно. Были в ней любовные похождения, кутежи, карты, брак по расчету, богатство и разорение, честолюбивые взлеты и падения, множество детей, законных и незаконных.
И вдруг годам к шестидесяти проснулся человек сразу состарившимся и огляделся вокруг. Отчего это произошло? Старик не знал сам, чем объяснялось то, что он считал «просветлением». Но внезапно он оставил вздорную вдову, с которой много лет был в связи, объявил всем, что стар, болен и готовится к смерти.
Иногда он читал нам отрывки из своего исторического романа — по преимуществу длинные рассуждения, вялые и лишенные смысла. Над ним смеялись.
Анна Павловна и Петр Петрович, родители Кати, очень долго казались мне такими, как положено быть взрослым.
Я воспринимала их, как все дети воспринимают родителей, не задумываясь ни над их внешностью, ни над возрастом, ни над особенностями характеров.
Однажды, лежа в зарослях бурьяна, росшего под окнами дома, и радуясь тому, что остаемся невидимыми, мы с Катей заговорили о них. Катя, грустно глядя вверх, сказала:
— Опять Ольга приехала. Снова пойдет канитель, мама будет плакать, а мне придется кривляться. Ольга любит папу. А мама говорит, что у всех детей должен быть папа и что Ольга гадкая. Как мне все это надоело! И маму жалко.
Катя была некрасивым ребенком. Лицо ее, слишком бледное, часто выглядело изможденным, а голубые глаза с легко краснеющими веками неестественно блестели.
Сейчас, говоря о родителях, Катя была похожа на взрослую. На лице ее появилось выражение усталости и притворства, как у зрелой, много испытавшей женщины. Я оторопело взглянула на нее.
— Тише, — шепнула Катя, — они идут, папа и Ольга.
Мы замолчали, преувеличивая опасность, и, жадно стремясь подслушать, поползли, осторожно раздвигая траву. На скамейке спиной к нам сидели Петр Петрович и женщина, вид которой не внушал мне никаких враждебных чувств. На затылке ее вились каштановые волосы, широкий пояс охватывал тонкую талию. Мы ждали. Чего? Катя хмурила брови.
— Сейчас поцелуются, — сказала она равнодушно.
Так оно и случилось. И сразу же со стороны дома раздался пронзительный женский крик. Анна Павловна тоже следила за парой на скамейке.
— Мамочка, бедная мамочка! — каким-то ненатуральным голосом вскричала Катя.
Глаза ее, и без того большие, еще расширились. Она бросилась навстречу растерянно поднявшемуся Петру Петровичу и тем же голосом крикнула:
— Папа, ты подлец!
Мы побежали к дому. На террасе громко плакала Анна Павловна, судорожно вздрагивая и прижимаясь к отцу. Старик разводил руками.
— Вольному воля, — шептал он. — Любви ведь у Пети к тебе нет. Впрочем, живите, как вам нравится.
Вскоре я привыкла к подобным происшествиям и знала наперед, как будут разворачиваться события и какие будут произноситься слова героями этого скверного фарса.
Анна Павловна была из тех слабых и добрых женщин, которые в молодости дерзают следовать модным теориям, чтобы потом, в течение долгих лет, жить, не обновляя и не пополняя свой незначительный и быстро устаревший интеллектуальный запас. Она мечтала о простом маленьком счастьице, о верном муже и материнстве. В ней было что-то птичье: и слишком круглые глаза, и тонкий голосок. И, как птица, неутомимо она стремилась вить «гнездо». В большом городе она умудрялась на маленьком пространстве выращивать чахлые овощи, хотя ими в изобилии торговали в соседней лавчонке и на базаре. Анна Павловна могла быть счастлива где-нибудь в лесу с тихим однолюбом мужем, на досуге копающимся в огороде. Она могла бы раз навсегда сбросить корсет из чуждых, сдавливающих ее жизнь понятий и дать наконец волю маленькому сердцу и уму. Населив мир здоровыми детьми, так и не выглянув за плетень своего двора, она умерла бы после долгой и беспечной жизни. Всегда встречая женщин, усталых от желанного бремени материнства и хозяйства, я вспоминаю Анну Павловну. Жить для нее значило угождать Петру Петровичу. Ее слепая привязанность возрастала от праздности и мелкой тирании мужа. Было что-то рабское в ее желании во всем угодить ему.
Но едва новое увлечение мужа становилось угрозой семейной рутине, Анна Павловна находила в себе необычайные силы и энергию. Обмороки сменялись стратегическими планами и расчетами. Она безжалостно втягивала нас в этот водоворот. Я относила письма предполагаемой разлучнице. Умело эксплуатируемая жалость гнала Катю к отцу. Начинались уговоры, скандалы, угрозы, кончавшиеся долгим изнуряющим плачем. Катя очень умело проводила свою роль, но трудно сказать, чего больше — отвращения или грусти — было в ней после «представления», как она сама называла свои патетические монологи, обращенные к отцу.
Петр Петрович знал наизусть «Евгения Онегина» и на всякий жизненный случай любил приводить оттуда цитаты. Он был профессиональный говорун и никогда не задумывался над тем, что могло испортить ему настроение. Ни во что не веря, он норовил жить без трудностей, суету называя жизнерадостностью. В погоне за впечатлениями, в нежелании и боязни одиночества он бросался от одной женщины к другой. Дедушка говорил ему иногда: «Всех не перелюбишь», — на что Петр Петрович отвечал, поглаживая кудри: «Сколько успею».
Дом, который меня приютил, был вполне благоустроен, но внутренне порочен и безалаберен, как и его хозяева.
У дома не было особых примет. Не было ни плюшевых скатертей, ни толстенных альбомов с фотографиями маленьких деток, впоследствии превратившихся в усатых, лысых, ожиревших транжир и скупцов. Не было и декадентских бронзовых ламп с лилиеобразными полуодетыми девами, запрокинувшими над головой лиловые абажуры, репродукции «Острова мертвых», боттичеллиевской «Весны», меховой шкуры и низкого дивана. Не было и нарочитой простоты: одинокого глобуса, вырванной из учебника карты Австралии на четырех кнопках, кактуса в глиняной миске и Венеры Милосской на ничем не покрытом рояле. Все тут было случайным и неопределенным: обыкновенный буфет, английские металлические кровати, этажерка для нот и книг, стулья и лампы. Не было определенного внешнего стиля и никаких попыток создать его.
* * *
Дети любят порядок. Они требуют от взрослых плана и чувства ответственности за происходящее.
Катю искалечили в детстве слезы, упреки, беготня Анны Павловны по улицам, брань и нелепые примирения. Мы с нею были подобны молодым растениям, чуть тронутым гниением.
— Только ради Кати я еще раз прощаю, — умиленно лгала Анна Павловна, осчастливленная тем, что муж снова ночует не в кабинете, а в спальне.
— Они помирились ради меня, — говорила Катя, и губы ее подергивались, как у очень усталой женщины.
И только дедушка хмурился и сердился:
— Ребенка пожалеть надо, разошлись бы наконец.
— Ведь у всех детей должен быть папа, — полуспрашивала, полуутверждала Катя.
А я думала почти с облегчением: «У меня его нет», — и засыпала, помечтав перед сном о родителях, которых любила представлять себе очень дружными и верными друг другу.
Таков был дом, где протекало мое детство. Об окружающем мире мы знали мало. Самым неприятным явлением в нем была школа. Я никогда впоследствии не могла объяснить себе той глубокой враждебности, которую она мне внушила. Школа эта не была «казенной». Группа учителей радикальных умонастроений содержала ее на деньги щедрых общественных деятелей и филантропов. Правда, директор школы, по фамилии Ястреб, был монархистом, но зато дочь одной из классных дам — эсеркой и даже попала в ссылку. Анна Павловна не сомневалась, что дети получают правильное воспитание в таком передовом учебном заведении. Сама она кончила «казенную» гимназию в провинциальном городе, где ученицам запрещалось выходить из дома после шести часов вечера, и даже двадцать лет спустя в числе тягостных ее сновидений были те, где ей являлись гимназия, учителя и экзамены.
Поэтому нас отдали в школу, где учителя не устраивали внезапных налетов на квартиры учеников, где было совместное обучение мальчиков и девочек — порядок в те годы почти небывалый, где школьная одежда была просторной и красивой. И все же я возненавидела эту прогрессивную школу, ласковых, «психологически» изучавших нас педагогов и в особенности Ястреба. Школа была первым принуждением, которое я испытала в жизни.
В среде, где я выросла, всех детей отдавали в школы. Я не задумывалась о том, бывает ли иначе, и считала, что дети, хотят они этого или нет, должны учиться. Значит, нужно было терпеть. Ведь все люди, которых я знала, получали профессию в школах и университетах, а профессия означала заработок и самостоятельность. Жизнь в моем представлении делилась на несколько неравных частей. Сначала долгое принудительное учение, потом неизбежная служба — зарабатывание денег и, наконец, старость, когда не учатся и не работают, но в полном бездействии и беззащитности чего-то ждут. Смерти? Старость была страшна, учение только скучно, служба неопределенна, а у некоторых даже заманчиво легка.
Женщине могла выпасть и иная доля — замужество вместо службы или в дополнение к ней. Но я была бесприданницей и на замужество твердо рассчитывать не могла.
— На всякий случай надо иметь свой кусок хлеба, — торжественно изрекала Анна Павловна. — Брак по любви всегда горе для женщины, брак по расчету — позор.
Мне оставалось примерными успехами и поведением добывать свое счастье. Но в первый же год в школе я поняла, как это нелегко.
Учили нас скучно, безразлично. День проходил уныло, тягуче. Окончив заданные уроки, я отправлялась спать. И тут, зарывшись в подушку, я вызывала в памяти любимые картины, сцены из книг, пока усталость не затуманивала мыслей. Потом, для того чтобы уснуть, я почему-то вызывала в воображении рыжего верблюда и приказывала ему идти впереди меня в золотые пески. Он шел медленно, покачиваясь, рыжий, как пустыня, и я следила за ним. Верблюд никогда не успевал исчезнуть вдали: я засыпала раньше.
Каждый свободный миг я отдавала чтению. Ни салазки, ни купанье не казались мне достойными конкурентами бесчисленных приключений, восторгов и печалей, даримых с такой щедростью книгами.
Книги донесли до меня ароматы всех стран, сохранили тоску по лучшему, дали волю к борьбе. Ни дом, ни школа не могли побороть влияния книг.
Были и иные радости. И первая из них — кинематограф, холодный деревянный лабаз на задах общественного сада, где на «третьих местах» с одним и тем же билетом нам удавалось просиживать по два-три сеанса.
Здесь я жила одной жизнью с нелепо двигающимися по полотну мигающими тенями, как глухонемой, стараясь понять по движениям их губ неслышные слова. Знала наперед, что случится на экране, где после пятиминутных вздохов над прощальным письмом какая-либо тень обязательно выпьет яд и упадет на пол, вращая глазами, размахивая руками и трагически паясничая. Это было комично и ложно, но я верила всему. Вера Холодная, Полонский, Максимов — мы любили их, вычурных, беспомощных и скучных, не стараясь вникнуть в суть их печалей и в причины трагедий. Бесприданницы и бравые офицеры на протяжении всего фильма не покидали темных, заставленных мебелью комнат. Беззвучно разговаривали, много жестикулировали и наконец умирали от чрезмерно счастливой либо неразделенной любви.
Кинематограф заражал нас болезненной чувствительностью, разочарованием в людях. «Камин потух», «Разбитое сердце» — все эти мелодрамы были похожи на заунывные романсы, которыми на рояле сопровождала фильмы таперша. У нее всегда болели зубы. Отводя мокрые глаза от экрана, я видела черную сатиновую повязку, носик, загнутый вверх, как у чайника, и седую лепешку из волос, пришпиленную к затылку.
После драмы на экране кувыркались Глупышкин или Макс Линдер. Начиналась драка. Опрокидывали тещу, посудный шкаф или телеграфный столб. Я выходила из кино с остановившимся, как у Полонского, взглядом, чуть покачиваясь, как Вера Холодная. Я мечтала о моложавом Максимове, всегда таком отзывчивом и безответно влюбленном.
Если у меня оставалось копеек пять, я покупала шоколадный шар и несла его бережно, оттягивая чудесный момент, когда я надкушу его и, засунув внутрь мизинец, притронусь к сюрпризу. Знала, что это будет сердечко-медальон, брошка с собачкой, похожей на поросенка, или жестяное колечко, и все же надеялась на неожиданное.
В дни школьных каникул Анна Павловна брала нам билеты в театр. Особенно мы любили «Потонувший колокол» Гауптмана. Вернувшись из театра, мы разыгрывали виденное на сцене. Распустив волосы, Катя надевала материнскую ночную рубашку и начинала монолог нежной феи Раутенделайн. Мне же больше нравился леший, и, выскакивая из-за шкафа в халате деда, я угрожающе выкрикивала:
— Бреккекекекекс!..
Однажды, застав нас за этой игрой, Анна Павловна присоединилась к нам. Вытянув вперед руки с вазочкой из-под варенья, она, пошатываясь, пошла вперед с трагической миной и остановившимися глазами.
И мы, тотчас же превратившись в детей из спектакля, спросили, подражая артистам:
— Что ты несешь?
— То слезы матери... — без запинки отвечала Анна Павловна репликой из пьесы, которую мы видели в зимние каникулы.
Много дней подряд мы повторяли по всякому поводу, не совсем понимая, слышанные на сцене слова: «Флейты весны, трубы лета, скрипки осени и безмолвие зимы...»
Но это были радости быстро проходящих праздников. В будни же полагалось учиться и не выходить за пределы дома и двора, единственным украшением которого был бурьян.
К счастью, я недолго пробыла под школьной опекой. Дело в том, что я писала стихи. Да и кто не писал их хоть раз в своей жизни!..
Неуклюжая, длиннорукая, я была мечтательна и восприимчива к музыке и поэзии. Я перевоплощалась то в Татьяну, то в Тамару и меньше всего умела оставаться сама собой.
Хотелось мне быть и Верой Фигнер, о которой весьма путано рассказывала нам Анна Павловна в тех же выражениях, что и о Жанне д'Арк.
По мнению Анны Павловны, рассказы о таких женщинах должны были развивать во мне и Кате наклонность к героизму и закалять наш характер.
Жанна д'Арк не полюбилась мне. Но женщинам-революционеркам в знак восхищения я посвятила неумелые стихотворные строчки. Тщеславие и жажда похвал побудили меня показать написанное учительнице словесности. Стихи были такие:
На бой с тиранами без страха ты пошла,
Народу молодость ты в жертву принесла.
И в царском каземате заперта ты, как всегда,
Спокойна и сильна.
И мы с тобой...
Учительница была вдовой социал-демократа и боялась, что из-за мужа может потерять место. Поэтому она сочла нужным показать мои стихи директору школы.
Директор Ястреб был существом неопределенного пола. Щупленький и смазливый, с лицом черноглазой, румяненькой маленькой девочки, он очень гордился тем, что окончил три факультета, и считал себя поэтому всезнающим человеком. В школе никто никогда не осмеливался подвергать сомнению его таланты, знания и ум.
— Помилуйте, три факультета! — говорили о нем.
Родине Ястреб желал монархии, себе — достаточно денег, чтобы собрать лучшую, чем у Остроумова, коллекцию икон,
— Я сделал в жизни все, что мог, — говорил он нам. — Я кончил три факультета и призываю к тому же и вас.
Поговаривали, что Ястреб проел деньги матери и двух незамужних теток. Его считали в семье гениальным. А чем не пожертвуешь для сверхчеловека?
Мне довелось дважды видеть Ястреба очеловеченным и непохожим на размалеванную бездушную куклу: в первый раз, когда он допрашивал меня, одиннадцатилетнюю девочку, и во второй, когда много лет спустя я допрашивала его, офицера белого Дроздовского полка.
— Вы выбрали опасный путь и можете скатиться в бездну, революция — это дурман. Гибель мира таится в торжестве грядущего хама, и всякие там Фигнер добиваются этой гибели, — говорил он мне в первой из этих бесед, размахивая старой лупой в серебряной оправе.
Во время второго разговора лупы не было и в помине, а вместо нее на столе между нами лежали браунинг и найденные у Ястреба при обыске шпионские документы.
Но вернемся к Ястребу 1913 года. Он исключил меня тогда из школы за опасное «направление» мыслей, выраженное в моих стихах.
Анне Павловне в те дни было не до моих злоключений. Петр Петрович грозил ей разводом. Но дедушка ласково и дружески утешал меня. Он уводил меня прочь из дома в мир, рассказывал о том, что происходило за стенами дома, за узким кругом маленьких бед и метаний, в котором едва видимой пылью кружились Анна Павловна, Петр Петрович, Катя, Ястреб, я...
— Деревня, — говорил дедушка мне и Кате, — это наш позор. За триста лет она не переменила своего облика. Художники врут, когда рисуют или описывают мужичка добродушным человеком с медвежьей ухваткой, в начищенных сапогах.
В эту пору в нашу жизнь ворвалась религия. Тайком мы с Катей бегали в церковь и, дрожа, склонялись перед иконами. Нас гнал страх. По ночам мы будили друг друга и рассказывали сны, путаные и бессмысленные. Мы прятали под подушками иконки и ладанки. В доме, где в библиотечном шкафу стояли Вольтер и Дарвин, мы росли смертельно запуганными суеверными дикарками.
И хотя взрослые никогда ни в чем не проявляли интереса к существованию бога, мы верили в него и смертельно боялись неминуемого, по утверждению Анки-стряпухи, конца света.
ЖЕНЩИНА, УРОНИВШАЯ СВОЮ ЖИЗНЬ
В этот год наших религиозных метаний, мрачных предчувствий и суеверий была объявлена мировая война. Помню, как в первые ее дни Анна Павловна, разложив на столе карту, заявила:
— Немцы неминуемо захватят наш город. Надо решать, куда перебираться, когда Петю мобилизуют.
Петр Петрович сердился:
— Наша армия непобедима, и поверьте, друзья мои, не пройдет и месяца, как падет Берлин. Терпение, друзья мои! Очень скоро война будет победоносно закончена. Мы живем в двадцатом веке, в светлом веке культуры!
— Те же слова я слышала накануне русско-японской войны, — водя пальцем по карте, отвечала Анна Павловна.
— Россия — страна трагическая, — заявил дед.
Первое время я мало задумывалась и еще меньше понимала происходящее. Город суетился. Петр Петрович надел френч и сапоги и начал работать «на оборону». Он был теперь по преимуществу весел. Анна Павловна ходила на дежурство в госпиталь. Ее неудовлетворенное, всегда чем-то обиженное женское, «куриное», как говорил дедушка, сердце билось учащенно. Неиспользованная энергия нашла выход в благотворительности и внезапно нахлынувшей любви к ближнему. Стоило ей представить, что на месте раненого, которому она зажигала папироску или оправляла подушку, может лежать Петр Петрович, как нежность и ужас вызывали у нее слезы. Вечная боязнь за мужа заставляла ее бессознательно мечтать о мире любой ценой. Ей было все равно, кто победит, лишь бы скорее миновала опасность остаться одной. И, растерянная, дрожащая перед будущим, она готова была вымаливать мир как пощаду. Война была так опасна: раны, болезни, молоденькие сестры милосердия...
Неожиданно определилась и моя участь. Когда Петру Петровичу в связи с его работой на оборону понадобилось отправиться в другой город, ближе к фронту, Анна Павловна, не колеблясь ликвидировала дом и отправилась за мужем, взяв с собой Катю и препоручив меня и дедушку заботам своей кузины Веры Ивановны. Все это произошло до крайности быстро, так как поступками Анны Павловны руководила жгучая ревность.
Итак, нашего дома больше не стало. Вещи спускали через окно прямо в бурьян, мой и Катин бурьян, наше укрытие, где мы мечтали, плакали, откуда подсматривали за взрослыми и дрожали в ожидании близкого конца света.
В то время я училась в местной женской гимназии. Как и некогда в прогрессивном заведении директора Ястреба, каждый день, торопясь к началу уроков, я трепетно надеялась увидеть вместо скучного казенного здания неприглядное пепелище. Иногда я тешила себя мыслью, не случилось ли что-нибудь с учителями, и торопилась перечитать расписание: арифметика, русский, немецкий, рисование, — выбирая очередную жертву.
Неужели ни один из этих бесконечно чуждых мне людей не захворал, не попал под трамвай, не вызван телеграммой куда-нибудь в другой город! Но нет. Школа неизменно встречала меня хмурыми грязными стеклами, по коридорам торопились учителя. День начинался. Вяло тянулись часы. Скучные учебники, скучные формальности, злые девчонки вокруг. Они называли меня подкидышем.
Ненависть к школе усугублялась недовольством собой, одиночеством. Все запретное, неведомое влекло, беспокоило. Незадолго до своего отъезда Анна Павловна сочла нужным рассказать нам, девочкам, как зарождается жизнь, как начинается все живое. Не выдавая себя ничем, мы слушали неуклюжие пояснения о размножении растений, рыб, зверей, птиц. Под конец, запинаясь, Анна Павловна начала объяснять нам, как проходит все это у человека.
В услышанном меня больше всего заинтересовало то, что у цветов есть пульс и они дышат. Остальное, в особенности то, что так смущало Анну Павловну, мы с Катей давно уже знали. Помню, как, лежа в бурьяне, мы клялись жить отшельницами и никогда не испытывать того, о чем так много думали. Отвращение перемешивалось у нас с любопытством. Родители наши казались нам опозоренными правдой, которую мы теперь знали.
Что же до Анны Павловны, то она облегченно вздохнула, окончив свой урок сравнительной физиологии, и мы слышали, как она сказала дедушке:
— Они ровно ничего не смыслят и не интересуются тем, что я объясняла. Напрасно поторопилась. Они еще слишком малы. Инстинкт у них еще не проснулся.
— Наоборот, поздно. Они давно уже знают все, — ответил дедушка. Как он, однако, был наблюдателен.
Теперь Катя уехала. Я и дед перебрались к Вере Ивановне. У нее было две комнаты, из которых одну она отдала нам.
Вера Ивановна жила на небольшие проценты с капитала. Кое-что прирабатывала уроками музыки.
В нашей комнате, очень узкой и светлой, стоял стол, покрытый желтой клеенкой с голубыми гирляндами незабудок. Он был моей партой, на нем писал свой неоконченный роман дедушка, за ним полагалось есть, беседовать, работать. Стол был причиной постоянных неурядиц и столкновений, особенно если Вера Ивановна превращала его в гладильную доску.
Вера Ивановна страдала частыми мигренями и не менее частыми приступами сердечной тоски.
В поисках одиночества я уходила в сени и влезала на сундук. Этот сундук был подлинным волшебником, он вдохновлял меня и превращался то в хоромы, то в ковер-самолет, то в тропический лес или в вершину горы.
В двенадцать — тринадцать лет девочки рассеянны, меланхоличны, легко ранимы и крайне мечтательны. Вероятно, физиология объясняет эти свойства. Я населяла фантазиями окружающий меня мир, сочиняла длиннейшие и запутаннейшие сказки или пьесы, в которых сама исполняла все роли. Это длилось часами и полностью заполняло мой досуг. Я была дикаркой с тропического острова, бедуином в Сахаре, принцессой, певицей или просто пленительной женщиной, невероятно великодушной и неприступной. Последняя из прочитанных книг, либретто опер, которые я собирала, создавала почву для очередной мечты. Жизнь вокруг меня была однообразна, ничто не питало, не воспитывало мой ум. Оставалось самой заполнять затянувшиеся досуги.
Вера Ивановна очень долго, почти до самой нашей разлуки, оставалась для меня чужой.
Мы с дедом принесли с собой непривычную сумятицу в жизнь этой женщины, сосредоточившей всю свою нежность, все заботы на самой себе. Постепенно она, однако, с удовольствием убедилась в том, что нам от нее ничего не нужно, и вернулась к прежнему, строго размеренному образу жизни. Мы были для нее только соседями.
У Веры Ивановны не было близких, не было забот, не было целей. Она уперлась в самый беспросветный тупик — тупик эгоизма. Сосредоточившись в самой себе, она считала мир мрачной чащей, населенной чудовищами, которых надо остерегаться. Самый воздух казался ей обиталищем микробов, земля — логовищем пресмыкающихся и хищников. Спасалась она десятками микстурок, рецепты которых были оставлены ей еще родителями и их наследством — эгоистическим сознанием: я никому ничего не должна, и никто мне не должен.
Дедушка говаривал мне частенько: «Берегись быть эгоисткой, не то иссохнешь сердцем, как Вера. В себе самом человек не может найти достаточного питания для роста и счастья. Эгоизм — это безвоздушное пространство, потому что человек обществен и может быть удовлетворен лишь тогда, когда дает что-то окружающим. Давая, мы берем. Такой обмен — основа бытия. Но все это не всегда вовремя поймешь. Я вот поздно спохватился и иссох».
Так говорил старик, когда, погасив керосиновую лампу, принимался раздеваться за ширмой, где стояла его кровать — простая солдатская койка. К этому времени я не только привыкла к дедушке, но и полюбила его. Старческая его ласка больше не пугала меня. Иногда я гладила его руки, те самые, что раньше вызывали во мне лишь страх.
Мои мечты были разнообразны. Я мечтала о том, чтобы увидеть мир с воздуха. Посмотреть на город сверху, как птица. Воображение мое создавало значительно больше, нежели могла дать действительность. Особенно чудесны были неведомый мне Багдад, дальние острова архипелагов и веселая белая Венеция.
Шло время. Как-то в маленьком окраинном кинематографе я увидела Багдад, город сказок «Тысячи и одной ночи».
Грязные провинциальные улочки, неровная мостовая, лужи. В иных закоулках автобусу не развернуться. Зато повсюду навьюченные ослы, верблюды и лошади. Мрачные дома с окнами во двор, отсутствие цветов. Нищета, едва прикрытая европейским нарядом. Так вот куда я столько раз собиралась бежать, вот где надеялась найти сказочную страну.
В справочной книге я прочла:
«Численность населения Багдада подвержена большим колебаниям вследствие эпидемий, наводнений, голода, частых неурожаев».
В то время когда столица Харун ар-Рашида казалась мне прекраснейшим, счастливейшим городом вселенной, несколько держав уже дрались там за «лампу Ала ад-Дина» — за нефть.
«Берлин — Босфор — Багдад», — слышала я, но смысл этого соединения слов оставался для меня загадкой.
Однажды Вера Ивановна остановилась перед моим сундуком и, будто впервые увидев меня, о чем-то задумалась.
— Эх ты, чудачок, — сказала она, вероятно, с самыми ласковыми интонациями, на которые была способна, и разрешила мне войти в ее комнату.
Вера Ивановна была так же одинока в мире, как я. Лицо ее преждевременно состарилось. Пройдя два шага, она непроизвольно останавливалась и сжимала узенькие плечики. Гримаса обиды и скуки искажала ее рот. У нее не было больше возраста.
В двадцать лет Веру Ивановну выдали по сватовству замуж за врача, которому нужны были деньги, чтобы начать практику. Вера Ивановна не любила праздности. Она часами натирала безукоризненные полы, мыла и без того чистую посуду, писала счета пациентам, читала книги, которые попадали ей в руки, и либеральные газеты, чтобы было о чем говорить с мужем.
Казалось, так и пройдет вся жизнь. Но началась русско-японская война, муж Веры Ивановны уехал на Дальний Восток. Дом опустел. Сервизы исчезли в сундуках. Теперь не нужно было натирать до блеска полы, начинять кремом пирожные, ругать кухарок за непредвиденные расходы. Вера Ивановна сдала жильцам три комнаты из пяти. У нее оказалось вдруг много свободного времени. Почувствовав, что лет ей немного и силы не израсходованы, она пыталась учиться, читать. Оглянулась вокруг, прислушалась. Вокруг пелись песни о свободе, о конституции. Конные жандармы врезывались в толпы демонстрантов, топча копытами людей. Мертвых героев несли под красными знаменами. Похоронные песни прерывались свистом нагаек. Вера Ивановна начала проводить дни на улицах. Стала преподавать в воскресной школе, проникла даже в кружки, собиравшиеся в таинственных квартирах вокруг тусклых керосиновых лампочек.
Но революция кончилась. Дни подъема и борьбы за свободу миновали. Вихрь ослабел, и Вера Ивановна, как маленькая, поднятая с земли пушинка, упала, опрокинутая стихией, которой не поняла. Никто больше не поручал ей, не заподозренной полицией докторше, хранить в комоде под бельем прокламации, никто не доверял ей партийных тайн. О ней забыли. Ее никто не преследовал, немногие друзья и случайные соратники исчезли в тюрьме. Зато внезапно вернулся из Порт-Артура ее муж, долго бывший в плену. На вокзале торопливо и неловко она попросила у него развода. Он был удивлен, но не опечален. Через полгода они развелись. Почему? На это нелегко было получить ответ, так же как и на то, почему они повенчались. Вера Ивановна поселилась одна. Пробовала давать уроки, но оказалось, что она легко устает и нервничает больше, чем следует. Интересы ее сузились, одиночество стало полным.
Она плакала и желтела от горя, от разочарования, от незнания, чем и как жить. Она становилась все более несчастной и все более тягостной для окружающих.
И только мне, тринадцатилетней девочке, она поверяла свои печальные, безысходные мысли. Но что я могла в этом понять, как я могла ей помочь?
В 1915 году, за полтора года до революции, Вера Ивановна отравилась. Умерла она от бессмыслицы, какой стала ее жизнь.
Передо мной сейчас лежит ее записная книжка — исповедь женщины страшных лет реакции, пришедшей на смену первой революции. Вот несколько выписок оттуда:
«1907 год. Я потеряла главное. Буквы, которые я вывожу, как истерический смех, то взвиваются, то падают. Я потеряла основное — ожидание завтрашнего дня. Он будет походить на сегодняшний, зачем же дожидаться его?»
И дальше:
«Нужно сказать себе, что не вышла жизнь, но признаться в этом не значит ли отступить. Мелочи меня придавили.
С тех пор как прошли месяцы пробуждения (речь идет о минувшем революционном времени), я вижу в людях только злобу, чувствую лишь острые локти и кулаки.
Сегодня арестовали Иванова. Три дня назад был повешен рабочий Исаев. Я видела его однажды на похоронах убитого революционера. Он стоял над могилой товарища и говорил. Слова его звали к мести, к борьбе, к победе. И вот каков итог... По ночам вижу его тело, раскачивающееся на виселице. Я не гожусь для борьбы, я боюсь того, о чем мечтаю. Предчувствие грядущих потрясений порождает во мне смятение. Так мечутся в поисках убежища звери и птицы во время затмения солнца, когда на землю наползает мрак».
В день своей смерти Вера Ивановна после многолетнего перерыва записала:
«Осень 1915 года. Война, смерть, крушение. Мир в дыму, в крови. Отчего я боюсь смерти? Я — стареющая женщина, проживающая приданое, возвращенное мне мужем. Кстати, он женат, у него уже двое детей. У меня не было этой радости. Я берегла его добро. Нынешняя жена его проматывает все, и она любима и счастлива. Он взял ее без приданого, без согласия отца, а меня в качестве досадного приложения к деньгам. Теперь я хорошо знаю, как следовало бы жить, но сил уже нет. Каждый день война бессмысленно уносит сотни тысяч жизней. Может быть, пойти сестрой милосердия на фронт и умереть, как надо? Нет и на это больше сил... А любила-то ведь я только раз — Исаева, пошедшего на виселицу за попытку поднять солдатское восстание. Я помню, как мы шли со сходки, пели «Варшавянку». В переулке была устроена засада. Началось побоище. «За мной!» — крикнул кто-то и втащил меня в подворотню. Я увидела пробитую пулей фуражку и лицо веселое и спокойное.
«Ну, барышня, держитесь за меня, в каталажку попасть успеем»,— сказал он, и мы побежали. Я потеряла калошу и держала своего спасителя за рукав пальто. Ноги у меня намокли, стали противно холодными.
Двор оказался проходным. Впрочем, мы прошли много чужих дворов. С разных сторон стреляли. Рабочие окраины готовились к бою. Это было так давно. Теперь для меня все решено...
Мне не дожить до революции...»
На этом кончались записки Веры Ивановны.
ОТРОЧЕСТВО
Мне минуло четырнадцать лет. Мы жили с дедушкой. Анна Павловна и Катя разъезжали следом за Петром Петровичем. По утрам я покорно ходила в школу. Училась, чтобы стать «человеком», по выражению Анны Павловны. Странное определение. Когда дедушка, приходя из банка, тяжело вздыхал и говорил, что мы «проедаем капитал», я мечтала скорее вырасти и начать зарабатывать деньги, чтобы он мог спокойно ждать конца, читая газеты и съедая столько приторных грушевых леденцов, сколько ему захочется, — дед был сластеной. Нужно ведь было жить и работать для кого-то, и мне хотелось жить хоть для этого беспомощного старика. Поэтому я радовалась, что денег у нас становится все меньше, надеясь, что скоро начну сама зарабатывать.
Наступил 1917 год.
По утрам дедушка читал вслух газеты, где сообщалось об отречении царя, о революции. И слушала, взволнованная предчувствиями и желанием понять, чтó все это означает для моего будущего. В те дни мой мир был мал, и жила я только собой. По утрам вплетала красную ленточку в косы и, пропуская школьные уроки, глазела с тротуара на веселые демонстрации, на алые флаги, читала волнующие, чудесные лозунги. Пела неведомые мне раньше песни, увлекаясь новыми мелодиями и словами.
А дед встревоженно говорил о надвигающейся смуте.
Нежданно приехала Анна Павловна с мужем и дочерью. Я отвыкла от них и по-иному смотрела на Катю. Обе мы подросли. Она уже начала хорошеть, я же оставалась длиннорукой, худой, неуклюжей. Катя относилась к окружающему с недетской трезвостью.
— Надо уметь жить, — говорила она, хмуря широкие брови.
— Что ты понимаешь под этим умением?
— Не принимать всерьез личные неудачи, быть самостоятельной, уметь пользоваться обстоятельствами и людьми — словом, знать, что к чему, и не терять из-за пустяков голову.
Катя казалась мне умной, недосягаемо сильной, и я перед ней преклонялась.
Революция, врывающаяся с весенним ветром в дом, мало занимала мысли Кати. По приезде в наш город у нее тотчас же завязался роман. Я с завистью следила за его развитием. В Кате пробудилось чисто женское тщеславие. Она сумела заставить гимназиста седьмого класса писать ей письма. Собственно, это и было основной ее целью. Каждое любовное письмо становилось событием для нас обеих. Мы читали их, обсуждали. Иногда Катя уходила на свидание, назначаемое на берегу реки, в городском саду, у театра.
Стоял нежный лиловый апрель. Прошли подснежники. Приближалось цветение сирени и белой акации. Революция все еще походила на бесконечный карнавал. Красные полотнища развевались над высокими цилиндрами, студенческими фуражками, рабочими шапками. В этом смешении было что-то необычное. Я читала запоем «Девяносто третий год» Гюго и недоумевала, почему же то, что я видела вокруг, было так легкомысленно и так парадно?
Петр Петрович во френче и галифе после обеда прохаживался по комнате. Он остерегался полнеть и выглядел моложаво и изящно, как никогда. Он стал теперь несносно говорлив. Казалось, он только тем и занят, что репетирует предстоящие выступления. Перед нами он проверял тембр своего голоса, счастливо найденный жест, позу, в которой ничего не было забыто. Слушая его речи о свержении самодержавия, о «восхитительной свободе», об Учредительном собрании, о победоносном продвижении наших войск, я следила за тем, как летала его рука, как распрямлялись пальцы, такие холеные, такие ленивые, с такими отточенными ногтями. При чем тут революция?
По вечерам Петр Петрович был всегда занят. «Митинги, заседания, совещания», — говорил он. Но Анна Павловна плакала чаще, чем раньше. Петр Петрович никогда не был более весел, чем в эти дни. Революция и Тамара Ивановна, революция и Ксения Львовна, в салоне которой встречались люди умеренных партий. Петр Петрович не сумел бы определить, что увлекало его. Революция давала возможность блеснуть красноречием, сулила выгодную карьеру, славу, веселье.
Катя, как я уже говорила, развлекалась преждевременными сердечными треволнениями. Дед читал книги о Стеньке Разине. А я ждала чего-то и наконец дождалась. Это «что-то» оказалось вестью о моем отце. Я никогда не вспоминала о нем. Для меня ведь он никогда прежде не существовал.
Когда после моего рождения он внезапно бросил мать, она тяжело заболела. Спустя несколько лет отец отыскал нас опять, и краткое счастье и последовавший за этим грубый разрыв окончательно подорвали слабые силы матери. Она умерла. Потом в течение долгих лет об отце ничего не было слышно. И вот теперь, в ясные дни весны семнадцатого года, когда никто ничему не удивлялся, Анна Павловна однажды с какой-то многозначительной и растерянной улыбкой вызвала меня в прихожую. Там на коленях спиной ко мне стоял тучный, широкоплечий военный и снимал рыжий ботик с ноги женщины в пушистой меховой шубке.
— Вот, — сказала робко Анна Павловна, — ваша дочь. — И она подтолкнула меня вперед, но я, как в раннем детстве, цепко ухватилась за ее руку, невольно испугавшись, что останусь одна с этими чужими, пристально разглядывавшими меня людьми. Тяжело дыша, офицер встал на ноги. Он был очень высок, и я увидела перед собой широкий ремень, уродливо перерезавший его живот, деля его на две неравных выпуклости.
Женщина, наклонив набок голову, сказала жеманно:
— Здравствуй! Какая ты, однако, веснушчатая.
Отец приподнял мою голову. Растерянная улыбка появилась на его лице, и я внезапно почувствовала, что он боится рассердить женщину в мехах, и невольно, сама приподнявшись на носках, протянула к нему губы и руки. Голос мой прервался, и я скорее выдохнула, чем выговорила заветное, желанное слово «папа», которое никогда еще не произносила. Но женщина резко позвала отца. Он торопливо отстранился от меня и подошел к ней. Я уловила удовлетворенную усмешку на ее лице. Сердце мое забилось...
Уходя, отец сунул мне несколько кредиток и поцеловал меня куда-то между виском и ухом.
— Не знаю, когда и где увидимся, — проговорил он печально и тихо. — Мы с Ниночкой собираемся в Крым, там много друзей, а оттуда, видимо, махнем за границу. Медлить нельзя.
Анна Павловна спросила плаксиво:
— А что будет с Наталкой? Время ведь такое трудное.
— Видите ли, я женат, Ниночка сама почти ребенок. — Он замялся. — Конечно, добравшись до цивилизованных стран и устроившись там, я позабочусь о ребенке, поверьте...
Дальше я слушать не стала. Проводив гостей, Анна Павловна разыскала меня в темном углу, за шкафом. Когда ее рука коснулась моей щеки, я залилась слезами. Но боль скоро утихла. Чувство внезапной любви к этой тоже по-своему одинокой женщине охватило меня.
Я целовала ее маленькие руки, и она отвечала мне истинно материнской лаской.
В этот вечер мы долго сидели рядом, прижавшись друг к другу. Я точно сразу выросла.
Детство мое кончилось.
ПРОБУЖДЕНИЕ
В декабре в Киеве к власти пришли большевики, и в начале 1918 года Анна Павловна с мужем и дочерью уехали в Москву, пообещав вскоре забрать туда и нас с дедом. Оставшись одни, мы поселились на окраине, где жизнь стоила дешевле.
Недалеко от нас высилось желто-серое здание Арсенала, к которому по утрам двигались длинные вереницы рабочих. Невдалеке, внизу, между темными соснами пригородного бора, блестел Днепр. По песчаной дороге к городу шли с фронта изможденные, усталые люди в солдатских шинелях. Иногда дед выходил на улицу, чтобы поговорить с ними, а я бежала в дом и выносила молока и хлеба.
Люди эти говорили о мире. От них я впервые услышала о Брестских переговорах, о предательстве украинских националистов, об опасности нашествия немцев.
Однажды меня разбудил гул канонады. Дед сказал, что рабочие собираются в Арсенале. Они решили сопротивляться.
К городу подходили войска Украинской Рады и немцев. Я вышла на улицу. Недалеко упал, не разорвавшись, снаряд. Обезумевшие женщины уводили детей в подвалы и погреба. Дед звал меня из окна. Но какая-то ребяческая удаль подхватила меня. Впервые, еще не сознавая этого, я увидела опасность воочию. Но разве не любила я с детства грозу, не смеялась когда-то над Катей, когда, заслышав раскаты грома, она прятала голову под подушку?
Началась многодневная осада города, а затем Арсенала. В эти дни я впервые услышала стоны раненых и умирающих, которых проносили мимо. Взметая пыль и комья снега, разрывались снаряды, горели дома. Ужас охватил меня. Забившись в угол, недоумевающая, растерянная, я сидела возле деда и прислушивалась к канонаде. Хотела и боялась тишины — ведь она могла означать поражение арсенальцев. Так оно и случилось. Однажды вместо артиллерийского грохота раздался бой барабанов, и в Киев вошли немцы. В тот же день одинокие выстрелы оповестили о начавшейся расправе с рабочими. Их расстреливали на большом пустыре у завода.
Так на немецких штыках утвердилась власть гетмана Скоропадского.
Красные флаги были заменены желто-голубыми полотнищами буржуазно-помещичьей Центральной Рады. А на окраинах все продолжались расстрелы рабочих.
Вскоре после прихода немцев я отправилась на Крещатик, заполненный нарядной толпой. Дребезжа, проезжали пушки, походные кухни, повозки с продовольствием, снарядные ящики. Из открытых настежь дверей пивных и ресторанов вырывались звуки расстроенных роялей и сиплый граммофонный рев. Многоголосый шум господствовал всюду. Приоткрытые двери домов казались раскрытыми настежь.
На окраине было безлюдно и тихо. Я увидела груды камней, разрушенные дома, выставившие напоказ искалеченное нутро — стены с покривившимися литографиями, безногую кровать, спинку шкафа, клочья матраца, обломки мебели. Всюду валялись камни, земля и остатки вещей. Так, вероятно, выглядела Мессина после землетрясения, о котором я читала когда-то.
Карабкаясь по развалинам, я заглядывала в дома сверху. Кое-где крыши были снесены либо пробиты. Иногда, как на сцене театра, комнаты были отгорожены от внешнего мира лишь с трех сторон. В одном месте разорвавшийся снаряд причудливо разрезал жилище. В детской люльке на одном из дворов лежала невредимой тряпичная кукла, а в лавке гробовщика не пострадал ни один гипсовый ангел. Но гробов в лавке не было. В ту пору в них очень нуждались.
Блуждая среди мусора и битых кирпичей, я не встречала людей. Иногда, вспугнутая шорохом осыпающейся штукатурки, из-под ног у меня выскакивала горемычная кошка.
Среди обломков я нашла разорванную большевистскую листовку, слова которой были для меня не новы.
Напряженно я старалась проникнуть в смысл трагедии, о которой твердили здесь камни. Думы мои прервали донесшиеся из глубины переулка женское причитание и детский плач. Я стремглав бросилась к дому, откуда доносились эти звуки, убогому, но уцелевшему, и, пробежав угрюмые сени, открыла дверь в комнату. Навстречу мне поднялась женщина.
— Вот, — сказала она сипло, вытянув вперед руку, — они сказали, что так поступят с каждым большевиком.
В полутьме, на столе, я увидела мужчину в белье. Меня поразили его голые, посиневшие ступни, его простреленный, с коричневыми, как медяки, пятнами лоб. Это зрелище никогда не исчезнет из моей памяти.
Старуха мать, горбатая от горя, тщетно пыталась опустить веки мертвеца. В остекленевших его глазах не было испуга. Надменный вызов выражал слегка приоткрытый в усмешке рот.
Что же сделал этот человек, умерший с презрением к своим убийцам? Какая правда дала ему силы?
— Да, не все в этом мире ладно, — произнес кто-то за моей спиной.
Я обернулась. Позади меня стоял низенький человек в пестрой ситцевой рубахе, с узкой бородкой и сухими блестящими глазами.
— Скверно устроен этот мир, — повторил старик, кивая мне головой. Он говорил со мной так, будто знал меня давно и нисколько не удивился моему появлению.
Вечером мы похоронили Андрея — так звали рабочего Арсенала, одного из многих погибших в эти дни в нашем городе.
Я стала бывать у новых друзей и снова встретила там человека, которого все звали просто Лукой. Этот невысокий старик, с глазами необычайной зоркости, точно рентгеновскими лучами пронизывающими собеседника насквозь, с козлиной бородкой вокруг пухлого веселого рта, особенно нравился мне.
Сердце мое тосковало о правде, о равенстве, о счастье для всех людей на земле, но разум был еще слеп. И вот в лачуге расстрелянного рабочего случай свел меня с тем, кто знал, как бороться со злом в огромном мире богатых и сытых.
Лука позвал однажды меня с собой на прогулку. Он долго и настойчиво расспрашивал о моем детстве, о людях, которые меня окружали.
— Значит, сиротка, — сказал он, выслушав мой рассказ.
Мы сидели в саду. Внизу плескался Днепр. Старик рассказал мне, стараясь говорить просто, о Спартаке, о Робин Гуде, о декабристах, о народниках и большевиках. Как все это было не похоже на болтовню Анны Павловны и Петра Петровича! Мне казалось, что я впервые увидела мир, впервые задумалась о судьбе людей. Леденящим холодом повеяло на меня, когда я поняла, какая смертельная борьба разыгрывается вокруг.
— История за нас, — говорил Лука. — Наш век принесет победу самым обездоленным, самым несчастным.
Я вбирала в себя его слова, как откровение, и мне казалось, что я уже знаю, в рядах какого войска буду сражаться. Лука дал мне тогда на прощание несколько книг, предупредив, чтобы я никому их не показывала. Это были «Манифест Коммунистической партии» и «Что делать?». Я читала их ночью, в часы, когда дедушка засыпал, не все понимая, но вбирая сердцем их смысл.
Дед страдал старческой бессонницей, и трудно сказать, кого это больше мучило в те дни, меня или его.
Однажды Лука дал мне маленький пакетик и велел отнести в миссию Красного Креста, только что прибывшую к нам из Москвы.
— Это опасно, но я тебе верю, — сказал он.
Я с трудом нашла товарища Брониславу в многолюдном учреждении. Лицо ее ничего не выразило, когда я тихо назвала имя Луки.
— Посидите, я сейчас поговорю с вами, — сказала она громко и, как мне показалось, безразлично. Я была несколько разочарована и, ожидая, неприязненно наблюдала за этой светловолосой, подвижной, улыбающейся женщиной.
Но вот Бронислава встала и позвала меня глазами. В полутемном коридоре она обернулась и взяла у меня из рук пакет. Лицо ее больше не улыбалось, и я почувствовала робость под ее суровым взглядом.
— Вот что, товарищ, — сказала она.
Я вздрогнула. Ко мне впервые обратились с этими словами.
Бронислава, видимо, поняла это. Она снова улыбнулась и протянула мне тоненькую трубочку:
— Это можно передать только Луке. Если вас выследят, проглотите записку немедленно. Помните, в ваших руках судьбы людей. — Она помолчала и добавила тихо: — Я вам верю. Я вам верю, товарищ.
Выйдя из миссии, я побежала по улице, преисполненная гордостью и счастьем. Лука ждал меня в условленном месте, но, когда я приблизилась, из-за деревьев быстро вышли два человека в военной форме гетманских офицеров и, вынув револьверы, подступили к нему. Еще не отдавая себе отчета в том, что произошло, я, повинуясь взгляду Луки, сунула в рот записку. Лука понял все. Я уловила это по его глазам. Мне следовало пройти мимо, но желание хоть чем-нибудь помочь другу было сильнее рассудка. Напрасно Лука повернулся ко мне спиной и принялся спорить с арестовавшим его военным.
— Лука, — со слезами в голосе закричала я, все еще давясь проглоченной папиросной бумагой. — Куда вас ведут?
Офицеры повернулись ко мне.
— Кто эта девчонка? — спросил один из них.
— Я вижу ее второй раз в жизни, — сказал Лука. — Правда? — повелительно спросил он меня.
Однако меня тоже арестовали. Впрочем, уже на другой день дед отыскал меня и взял на поруки.
Когда именно был расстрелян Лука, мне так и не удалось никогда узнать. Его исчезновение было самым большим моим горем тех лет.
Недолго длилось господство гетмана Скоропадского, Кайзер в Берлине был свергнут, и немецкие генералы увели свои войска с Украины. Снова в похожем на сундук здании киевской столыпинской думы обосновался Совет рабочих депутатов.
Киевляне принялись убирать улицы, чинить мостовые и дома с той же быстротой, с какой строили баррикады в часы революционных восстаний. Люди пели за работой новые песни, которые принесла с собой революция. Я работала вместе со всеми.
Однажды во время передышки я вышла за ворота. Та ли это улица, где я недавно блуждала с отчаянием и недоумением в душе. С порога убогого домика мне улыбнулся вымазанный сажей мальчуган. Где-то вдали уже гудели заводы.
Когда в тот день мы расходились после работы, один из моих сверстников сказал мне:
— Что же ты не приходишь в комсомольский комитет? Или с буржуями жаль расстаться? Приходи сегодня. Давно пора.
И в тот же вечер я пошла в розовый купеческий особняк, в окна которого так часто заглядывала.
В запущенном саду, прижав к бедру лук, стояла мраморная Диана. На дорожках валялись ржавые, как оттаявшие осенние листья, пустые патронные гильзы. Я вошла в дом.
В пыльной, узкой, как молельня, комнате с лилово-зелеными узорчатыми стеклами в окнах среди плакатов и воззваний, готовясь к отправке на фронт, сидели комсомолки. Женщина-врач с огромной косой, едва приколотой к затылку, говорила, слегка наклонившись и прижав руку к плечу сидящей перед ней девушки:
— Накладывать жгут и повязки, если оторвана верхняя конечность и кровопотеря угрожает жизни, нужно вот так.
Я присела в углу и затаив дыхание прослушала лекцию.
На другой день я начала делать то же, что и все мои сверстники. Мы выполняли поручения, которые давали нам товарищи из киевского бюро комсомольского комитета. Я почти перестала бывать дома.
Дед против этого не возражал.
— Действуй, — говорил он. — Не Аннушкой и не Катей быть тебе в жизни. Я вот сохну, но лучше сохнуть, чем гнить. А ты сильная, живая. Действуй, иди!
В городе вскоре объявили военное положение. Антанта, белые генералы, Петлюра — все силы тьмы шли на юную Республику Советов. Тишину ночей пронизывали вражьи пули. Враг приближался к нашему городу, выползал из щелей, где перед тем притаился. После многих бессонных ночей я нередко засыпала подле телефонного ящика, у которого все мы по очереди оставались на ночное дежурство.
В те дни комсомольцы были накрепко спаяны опасностью и общей борьбой, единством мыслей и целей. Мы писали листовки и организовывали ячейки на заводах, мы ходили в ночные патрули, учились стрелять и перевязывать раны. Твердо зная, что впереди тяжелые испытания, мы неустанно тренировали свою выносливость, волю. Мы мечтали о всемирной коммунистической революции и о том, чтобы стать хоть немного похожими на Ленина.
А тремя месяцами позднее комсомольский комитет направил меня в Красную Армию.
ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ
Седьмое ноября 1919 года. Красная Армия справляет вторую годовщину Октябрьской революции. В овчинном полушубке и просторных сапогах я танцую вальс, опираясь на плечо незнакомого красноармейца. Как крепко пахнет от его шинели смолой и махоркой!
В сельской школе, где происходит торжество, морозно, и танцы едва-едва согревают нас.
— «Русскую», — предлагают бойцы.
Мы поем и пляшем. Давно взошла луна. В ушах у меня все еще звучат звуки «Интернационала» и обрывки речей ораторов.
— Товарищи! Не только с русской, но и с мировой буржуазией воюем мы! Товарищи, вперед, к победе за величайшие идеалы человечества! За коммунизм, товарищи, в последний, решающий бой! За нашу партию!
Мою партию! Я вся — клубок радости. Всего несколько дней назад меня приняли в партию. В избе было так многолюдно, что казалось, потолок опирается на человеческие головы.
Десятки людей внимательно и строго разглядывали меня. Я ловила их взгляды, то поощрительные, то недоверчивые, и не опускала глаз.
Это была моя семья. Она должна была знать обо мне все до конца. Впервые одиночество, с детства бывшее со мной, словно тень, ушло от меня. И хотя никто меня ни о чем не спрашивал, я торопилась пересказать все этим людям, готовым принять меня в свои ряды. Было лишь очень обидно, что моя исповедь оказалась такой короткой, обычной, бесцветной.
Одновременно со мной приняли в партию троих красноармейцев. Их биографии так разнились от моей. Казалось, время, как жнец, связало для них в сноп все беды человеческого существования: унижения, бесправие, нищету. Октябрь расковал их цепи, дал им в руки оружие. Они сражались за себя, за право быть людьми. Как я была не похожа на них! Однако отныне мы пойдем вместе.
Собрание кончилось. Мы вышли вместе, четверо новых членов партии, и пошли по тихому селу. Волнение и гордость прогоняли мысли о сне, да и ночь предстояла тревожная. Наша армия отступала. Мы стояли на московском тракте. И, однако, ни уныния, ни сомнения не было в наших мыслях. Говорили о неизбежном переломе, о скорых победах, о том, что крестьянство поймет нас и, узнав, чья правда, с нами вместе пойдет на врага.
Мы шли по деревне, убогой и некрасивой, состоявшей из нескладных, тяжелых сараев-домов.
Нигде не видно было ни плетня, ни уютной скамеечки. Все было сожжено, разрушено.
— Хорошо знать, за что борешься. Так-то и умирать не досадно, — говорил телеграфист Ваня. — А жить еще лучше, еще распрекраснее...
Издали послышались выстрелы.
Мы побежали к штабу. Я больше не боялась теперь грохота пушек, не оплакивала безымянных бугров в поле, под которыми лежали наши товарищи. Смерть не казалась мне бессмысленной. Я мечтала о том, чтобы пробраться в тыл противника, взрывать артиллерийские склады, я хотела своим примером доблести вывести из бездействия тех, кто еще не верил нашим словам, я готова была погибнуть, лишь бы моя смерть была полезной, помогла партии.
Подошли к дому. Монотонно, как дятлы, стучали ключи Морзе. Рядом в клетушке комиссар и начдив работали над картой. Чадила печь. Я села на деревянную скамью.
Через несколько минут по телефону передали приказ:
— Деревню оставить.
Ночь пробудилась. Началось знакомое, быстро нарастающее оживление. Улицы наполнились людьми, глухо задребезжали подводы. Штаб готовился к отправке.
Понимаю всю бесплодность, всю нелепость своих мыслей и не могу удержаться.
— Не надо отступать, это невозможно, нам пора перейти в наступление! — говорю я со слезами в голосе. — Мы отходим к Москве! Может быть, тут ошибка?
Начдив и комиссар смотрят на меня, сначала улыбаясь, потом серьезно.
— Бунтуешь? — сурово спрашивает начдив. — А еще большевичка! Ну, о чем ты ревешь? Эхма, пускай вашего брата в армию!
Выбегаю на улицу. Былой рассудительности нет и в помине. Опять отступать? Что же это? Мы подрываем веру в мощь рабоче-крестьянской армии, мы недостаточно упорно сопротивляемся. Революция в опасности, а мы отходим к Москве!
В эти дни начальник одной из наших дивизий Станкевич, бывший кадровый генерал-майор, был повешен белыми. На качелях сельской школы в занятой белыми деревне долго висело его неестественно выпрямленное последней судорогой тело. На голой груди, как орден, висела табличка с надписью: «Большевик».
Любовь к людям, верным одной цели, бесстрашным и твердым, поднимается во мне. Моросит дождь, и я подставляю ему горячее лицо.
Бегу на край села в красноармейский клуб. На этот раз он находился на одном месте в течение недели. Целую неделю задержался штаб дивизии на одном месте.
В большой хате на лавке спит мой помощник Василий Иванович. Бужу его невежливым толчком в бок.
Он просыпается легко и, ничего не спрашивая, принимается за дело. На деревянных столах разложены газеты, изрядно зачитанные. Складываю их в ящик, который служит нам также и табуретом. Снимаю книги с кухонных полок, реквизированных для клуба. Мы возьмем их с собой. На полу расстилаю дырявую рогожу под наш скарб. Долго тру слюной обложку «Анти-Дюринга», измазанную чьими-то грязными пальцами. Василий Иванович все это время возится с брошюрками. Их много, и они так непрочны.
— Ветер какой-то, а не книги, — говорит он хриплым спросонья голосом.
Я лезу на стол, чтобы снять со стены портрет Ленина. Мое лицо на одном уровне с его прекрасными, неуловимыми глазами, смотрящими далеко в мир и следящими в то же время за какой-то своей мыслью. Этот бесконечно проникновенный взгляд, как всегда, заставляет меня подтянуться и ощутить бодрость и спокойствие. Осторожно передаю портрет Василию Ивановичу и снимаю с гвоздей два плаката. На одном вошь и страшное предупреждение о ее могуществе, на другом — красноармеец требовательно поднял руку. Он зовет в бой и предвещает гибель контрреволюции.
Клуб свернут и готов к эвакуации. Я по-хозяйски осматриваю оголенные стены, заглядываю в сени и клеть, помогаю Василию Ивановичу грузиться на подводы. Потом бегу к дому, где жила на постое. У ворот мои приятельницы Варя и Ольга, с которыми я вместе живу, уже грузят наши вещи на телегу. Ольга взбивает сено и расстилает тулупы. Моя неизменная корзинка с чересчур большим замком, предназначенным не столько охранять имущество, сколько удерживать откидывающуюся крышку, лежит на снегу. К нам подъезжает начдив Зубов, красивый, точно сошедший с литографии, изображающей древнерусского богатыря. Ему уже лет под тридцать. Мы все значительно моложе его. У него много достоинств: смелость, ораторский дар, работоспособность, и большие недостатки, к которым я причисляю его красоту.
— Все готово? — спрашивает начдив.
Светает. Я вижу его усталое, побледневшее лицо, и необычная симпатия побеждает мое недоверие.
— Нет сомнения, это последний переход назад. Вперед мы будем продвигаться во много раз быстрее. В этом мы все уверены.
Я молчу, широко улыбаюсь своим мыслям. Ольга ищет где-то затерявшийся чайник и котелок.
— Найдется, а нет — добудем, — смеется, отъезжая, начдив.
«Нет, он, пожалуй, хороший парень», — думаю я.
Ольге все не сидится.
— Нужно попросить квартирьеров найти нам избенку получше, — заявляет она, соскакивая с облучка на землю. Однако квартирьеры уехали до рассвета. Варя и я встречаем это известие безразлично, но Ольга расстроена. Она домовита и суетлива.
— Ну не все ли равно, как провести эти несколько дней, которые придется прожить на новом месте, — уговариваем мы ее.
— Каждую минуту жизни надо проводить по-человечески, — убежденно отчеканивает она. — Я не вижу оснований относиться ко всему со свинским безразличием.
Ольгу не переспорить, и мы умолкаем.
Мимо проводят дезертиров и самострелов. Простреленные пальцы перевязаны грязным тряпьем. Откуда-то становится известно, что белые заняли Орел.
Лошади нетерпеливо топчутся на месте. Но вот знак подан. Трогаемся. Лезу под кожух и пытаюсь уснуть. Не могу. Ольга и Варя перешучиваются и жуют пресные, черствые лепешки грязно-серые, как подметки наших сапог. Я вспоминаю о партбилете, который получу скоро, и чистая, ребяческая радость стирает беспокойство.
Будущее мое предрешено минувшим вечером.
Жизненные рубежи. Сколько каждый из нас преодолевает их на своем веку! Случается — самое трудное, решающее давно осталось позади, а мы все еще не отдали себе отчета в происшедшем. И вдруг спохватываемся, оглядываемся по сторонам и понимаем: что-то кончилось или началось.
«Сумею ли я когда-нибудь подвигом, делом, верным служением оправдать происшедшее накануне?» — думаю я.
Ольга читает воззвание:
— «Всем, всем, всем. Один из кордонов на Большой Московской дороге пал. Тяжелый генеральский сапог занесен над Советской страной. Притаившийся мир взирает на беспощадную схватку прошлого и будущего. Для рабочих нет выбора. Смерть или победа...»
— Неужели ты думаешь, Ольга, что «они» могут победить и все, все погибнет?
— Деникин, что ли? — Ольга точно пробуждается. — Глупости, этой мысли я и не допускаю... Пришло наше время. Но людей, человеческих жизней жалко... Степа Максимов, Петро Анов... Сколько их... Погибли в боях, в петлях... А какие все люди!
— Только рабочий класс установит социализм, — изрекаю я торжественно.
Ольга сердится.
— Чушь несешь, рабочий класс без крестьянства, что штаб без армии...
Я давно преклоняюсь перед Ольгой, перед ее умом, спокойствием, уверенностью. Вот кого хотелось бы мне иметь другом.
Вспоминаю о Кате. От нашей с ней дружбы ничего уже не осталось.
Мы не виделись со времени отъезда ее в Москву. В редких письмах, которые я получала, Катя осуждала меня за вступление в комсомол.
«Ты интеллигентка, и тебе нечего делать с девушками из простонародья. Они тебя не поймут, да и вообще это измена», — писала она.
Катя стремилась уехать за границу. «Я — предмет роскоши, — говорилось в одном письме. — Мне нечего делать в Совдепии».
Плетемся до сумерек по светлым, холодным полям. Вдалеке деревеньки. Покосившиеся избенки, безлюдные дороги. На опушке леска низкие ели притаились, словно волчья стая. Очень тихо. Кто-то позади затянул песню. Засыпаю опять.
— Добрались наконец.
Открываю глаза. Ржут кони. Разведены костры. В походной кухне готовят баранью похлебку. Темный дом едва вырисовывается среди сосен. Василий Иванович разминается у костра.
— Живее тащи лампу.
Ольга зажигает ветку. Мы входим в дом со свечами, лампами, факелами. Странное шествие. Кривые отсветы передвигаются по стенам и лестницам. Кто-то роняет рыцаря в доспехах, сторожащего прихожую. Долго отдается в ушах звон доспехов.
Василий Иванович чертыхается. Он едва не поджег гобелен, лохмотьями свисающий на полосатые панели. Ольгу напугало чучело великана медведя.
— И как это жили тут люди среди всего этого хлама? — не перестает она удивляться.
Я хищнически посматриваю на кресла. Мне давно хочется иметь кожаную куртку. Но нас опередили. Обивки на креслах нет, пружины, как переломанные позвонки и ребра, вылезли из сиденья. Отделяюсь от остальных и со свечой бреду по анфиладе комнат. Жутко и притягательно. Вот кровать под балдахином. Пара женских поношенных туфель у ночного столика. Стараюсь представить себе прошлое незнакомого дома. Он сильно искалечен. В семнадцатом году его подожгли крестьяне. На доме вымещались столетние горести. Если бы человеческие слезы не испарялись, этот проклятый дом давно утонул бы в них, если бы человеческий гнет жег, то от этих стен остался бы пепел.
За окнами лес, высокий, дремучий. Однако куда я забралась, мансарда выше сосен. Выхожу на балкон. Огромные ветки стряхивают снег на крышу. Земли не видно, только колючие черные вершины сосен да между ними багровые чадящие костры. Голоса людей, ржанье коней да вой ветра. Так, верно, выглядели вандейские замки, захваченные войсками Конвента. Былые революции и гражданские войны мерещатся мне.
Снова блуждаю со свечой. Заглядываю во все каморки мансарды. Портреты крепостных фавориток и пейзажи украшают стены.
В разбитое окно врывается снег. Началась метель, и ветер все яростнее бушует в трубах. Иду вперед. Витая лесенка. Спускаюсь, рассматривая литографии, висящие на стенах. Осада Майнца и лагерь Генриха IV. Стараюсь вспомнить, где Майнц и чем памятен французский король.
«Что-то такое с курицей, кажется». — Напрягаю память и не могу вспомнить.
«Медлительность, с которой раскрывается цветок истории, — говорил дедушка, — поистине ошеломляюща». Это даже не столетник, не виктория-регия, смотреть цветение которой водили меня когда-то со школьной экскурсией.
И вот сейчас, здесь, вокруг, рядом с нами, зацветают эти небывалые цветы. Мы очевидцы, мы не только зрители — мы творцы. Я родилась в лучшие дни земли...
Нужно улучить минуту и записать все это в дневник.
Василий Иванович ищет меня по всему дому. Он очень сердится. Это видно по тому, как дрожит его борода. Я слежу за его тенью на кафельной поверхности печки.
Во дворе походная кухня начала выдачу обеда. Нужно подумать, где и когда выгружать наш клуб. Красноармейцы спрашивают газеты. В деревне же, по рассказам, все битком набито. Идем, беседуя, и в полутьме долго ищем выхода. Время от времени кричим, прислушиваемся, идем на голоса. Василий Иванович голоден и потому особенно придирчив.
— С вами всегда кутерьма. Размечтались, а клуб либо вымокнет, либо на цигарки мужики, что с подводами пришли, растащат. Брошюра — это соблазн.
Вдруг ни с чем не сравнимый запах тления тронутой грибком ветхой кожи, особой книжной пыли останавливает меня. Так и есть, нашла. Я ведь затем весь дом и обшарила. Тащу за собой оторопелого Василия Ивановича. Он, бывший пастух, казалось бы, по профессии обязан быть сметливым, а ни о чем не догадывается. Мы открываем дверь и поднимаем лампы. Так и есть — вокруг библиотечные шкафы.
— Какая удача, Василий Иванович! Библиотека! Поняли? Книги! Здесь-то уж мы пополним наши клубные полки!
Я прыгаю на одной ноге с ликующими воплями удачливого кладоискателя. Вот так повезло, вот так пожива! Но Василий Иванович хоть и любит читать, но еще больше привержен к бараньей похлебке. Он упирается и тянет меня назад. Мы старательно по пути расставляем условным образом мебель, чтобы найти дорогу обратно. Длинная шеренга из ломаных стульев, столов, этажерок, картин и цветочных ваз выстраивается следом за нами.
Помните, как мальчик с пальчик раскладывал камешки, отмечая дорогу в избу дровосека?
Василий Иванович никогда не интересовался мальчиком с пальчик. Он выучился читать по Псалтырю двадцати лет от роду.
Вечером мы возвращаемся в библиотеку и до полуночи роемся в шкафах.
Какая досада, что здесь так много книг на иностранных языках!
Я любуюсь золотым обрезом, переплетами, виньетками. Католики и атеисты стоят здесь рядом на книжных полках: Уриэль Акоста и тора, на которой он отрекался от своих убеждений, Библия и Четьи-Минеи, процесс Марии Стюарт и любовная хроника Елизаветы Английской. Мы, точно два купца, ненасытны и возбуждены среди внезапно найденных сокровищ. Я кладу на рваный ковер серые томики Толстого, Тургенева, Гоголя. Обнимаю бюст улыбающегося слепыми глазами Пушкина. Мы решаем унести и его с собой. Василий Иванович с трудом успевает складывать и завязывать книги. Он вспотел и насвистывает: «Не осенний мелкий дождичек». Вместо бечевки нам служат золоченые шнуры, кое-где висящие на окнах.
— Придется теперь вторую подводу под клуб запрягать, когда отсюда назад поедем, то есть, значит, вперед, — говорит Василий Иванович с гордостью.
Раскопки клада окончены, и мы укладываемся спать на полу. День не потерян, как случается часто, когда переезжаешь с обозом дивизионного штаба на новые места.
* * *
Рассвет залил серыми, блеклыми красками дом. Василий Иванович замерз и подкинул в потухающий камин отсыревший, почерневший и облупившийся стульчик. Я долго смотрела, как горели его витые позолоченные тоненькие ножки, смешные и ненатуральные, как эпоха рококо, из которой он выскочил.
В комнате при дневном свете не оставалось ничего загадочного. Грязные стены, потрескавшиеся полы, мебельный хлам — какое это было убогое зрелище!
— Эту рухлядь разве что на слом, — заключил мои размышления Василий Иванович. Мы допили чай, вскипяченный в камине, и доели черный хлеб, казавшийся мне удивительно вкусным, несмотря на шелуху и разноцветные примеси, которые, как изюм, мы выгребали из мякиша пальцами.
На рыночной площади полусела, полугородка нашлось единственное еще не занятое помещение — бывший лабаз. Оно почти не освещалось дневным светом, а отеплять его пришлось с помощью наспех сложенной печки. Но Василий Иванович был великий организатор. К вечеру мы открыли наш клуб. Я разложила на ящиках-столах новые газеты, приколотила портреты и плакаты. Книжные полки были необычны — сплошь заставленные книгами, и какими: кроме классиков, мы захватили Жюля Верна, Дюма, путешествие Свен-Гедина, приключения Луи Жаколио и даже отчеты экспедиции английских исследователей в Тибете.
В первый вечер я должна была провести беседу по политграмоте. Поэтому Василий Иванович выдавал собравшимся красноармейцам только брошюры на политические темы. Исключение мы сделали лишь для брошюр по борьбе с сыпным тифом. Книги беллетристического содержания я решила пока придержать как обещанье на будущее.
— Вот когда пробьемся на Украину, когда начнется перелом на фронте и поражения сменятся победами — найдется время почитать о прошлом.
Никто из нас не сомневался, что это будет скоро.
Василий Иванович относился почтительно к таким писателям, как Жюль Верн, но о некоторых наших классиках отзывался с пренебрежением.
— Дохлое дело! — говорил он. — Буржуйские книги!
На этом же основании бюст Пушкина был им покуда упрятан в ящик с запасным инвентарем.
Целых две недели пробыли мы в селе, примостившемся у барского, разрушенного революцией дома.
Все это время я по нескольку раз в день забегала в штаб, приставала с вопросами к командирам, дежурила подле телеграфисток и наконец не стерпела: попросилась в бригаду, ближе к передовой, где решалась судьба операции. Повод был как будто уважительный — проверить работу передвижных бригадных и полковых клубов.
— Ну, какие теперь еще клубы, — ворчал комиссар дивизии, сам бывший в непрерывных разъездах. Долго он откладывал мою поездку, но наконец дал согласие и подписал мандат. Выехала я ночью, в мужском костюме, с револьвером на поясе под тужуркой.
ТРУДНОЕ ЗАДАНИЕ
Штаб бригады я разыскала на станции. Здесь выгружался пришедший на подмогу полк. Улицы и хаты близлежащей деревни ожили и зашумели.
Комиссар, несмотря на бороду и усы, выглядел юношей — так молоды были его глаза и движения статного тела. Увидев меня, он сразу же сердито предложил мне отправляться обратно.
— Только девушек здесь не хватало! Возвращайтесь, некому тут с вами возиться, ежели в первой же переделке перетрухнете и запроситесь к маме. Никаких клубов здесь нет!
Но я не сдавалась.
— Раз нет клубов, я могу помочь в чем-нибудь другом. Я ведь ветеран.
Но комиссару было не до шуток.
— Понимаете ли вы, что эти дни решают судьбу армии, отступать больше невозможно... Предстоят горячие схватки.
«Отступать больше невозможно!» Наконец-то!
К комиссару подошел человек с забинтованной головой и что-то тихо сказал ему. Они вошли в штаб бригады. Вскоре туда позвали и меня. Комиссар задал мне несколько вопросов и посмотрел документы. Военный с повязкой на голове внимательно наблюдал за нами.
— Я вас знаю, — сказал он и вдруг назвал меня по фамилии. — Мы приехали одновременно сегодня: вы из дивизии, я из штабарма. Видите ли, нам необходимо немедленно отправить в Орел надежного человека. Поручение опасное. Может стоить жизни. — Он понизил голос.— Вы согласны?
Сердце мое запрыгало.
— Еще бы...
— Надо раздобыть точные сведения о частях белых, находящихся теперь в городе. Примерное количество орудий, бронепоездов, самолетов. Прибывают ли им на подмогу марковские и дроздовские полки. Понятно? Мы переоденем вас крестьянкой...
Он замолчал, продолжая строго и испытующе смотреть на меня.
— Прошу вас не сомневаться во мне, — ответила я.
— Хорошо. Задание получите позже, когда будут заготовлены документы. Сейчас вы свободны до полудня.
Беременная крестьянка, охая и жалуясь на судьбу, на войну, на голод, согласилась дать мне немного молока в обмен на пшено — паек, взятый в дорогу. Я уселась у окна избы, едва прислушиваясь к протяжным сетованиям женщины.
— Не доносить мне живого, ой, чую — рожу недоноска. Страху-то сколько, надрожалась вся!
Беспокойством пропитан был здесь самый воздух. Медленно тянулось время. Стреляли где-то вблизи. За холмом, в десятке километров, был Орел. Мысль о том, что, быть может, ночью придется пробираться к противнику, вызывала то безотчетный страх, то нетерпеливое ожидание. Вот она, возможность помочь, сделать что-то важное, нужное. Волновалась все больше, не могла есть, не могла усидеть на месте. Как это произойдет, удастся ли? Мысль о гибели, о смерти притаилась, я ее чувствовала, но отгоняла.
А несколькими часами позже маленькая, ободранная машина на высоких колесах повезла меня к переправе.
— Счастливо, — сказал мне красноармеец, сидевший за рулем. — Будем вас ждать.
Я осталась в кустах на промерзшей земле. Рядом были белые. Оправила платок, кожух, ощупала под холщовой рубахой цепочку и ладанку со стертым святым, где лежал полотняный пропуск, и быстро пошла по мерзлому, трескучему снегу. Перейдя по льду через реку, принялась взбираться на противоположный берег, когда за спиной раздался голос:
— Стой, баба, куда?
На мосту, перекинутом через убогую, кривую речушку, стоял часовой с винтовкой наперевес. Пошла ему навстречу. Лицо у часового было простецкое, глаза усталые, воспаленные. Затараторила, что, мол, орловская, что ходила за хлебом, обменивала. Показала мешочек с мукой и черную лепешку.
— Какие времена-то пошли. Покуда шла, дважды власть в деревнях переменилась. Не поймешь, чего делается и кто вы — белые, красные, — не распознаешь никак. Пропусти, дяденька, миленький.
Подъехал верховой патруль. Долго допрашивал меня, потом отвели к командиру. Врала и ему, не путаясь. Отпустили под утро.
— Глупа очень, — сказал офицер в башлыке и прибавил вслед: — Иметь, однако, на примете: не шпионка ли?
Странно. Переход оказался не страшным. И на допросе не растерялась. От холода, однако, знобило. Или не от холода только? Пошла по деревне. Избы были как вымершие. Навстречу двигались белые части. Всматривалась в лица. Опять крестьяне. Глаза у всех безразличные или покорные. Иногда злые, недоверчивые. Офицеры похожи на Петра Петровича. Хотелось, чтобы морды у них были звериные, шакальи, рысьи... Ненависть требовала пищи. Почему они тоже люди?
Ждала сумерек. В ровном затухающем свете безопаснее выбраться из деревни, потеряться на дороге, исчезнуть вместе с лучами солнца. На снежных и бугристых полях было шумно и многолюдно. По вышитым на рукавах черепам я узнавала корниловцев. Кто-то заунывно пел. Дребезжа, проезжала мимо меня артиллерия. Эти орудия должны быть нашими. Скорее бы. Нужны патроны, нужны пушки, нужно продовольствие. Чего только нам не нужно!
Крестьянские розвальни подвезли меня к городу. Расплатилась мешочком с мукой. Вошла в Орел не с большой дороги, а с поля. Город начинался низкими избенками и уходил в гору. Знала его лишь по плану, который, приказав изучить, развернул в бригаде товарищ из штаб-арма. Там, где торговые ряды, — центр, бывший губернаторский дом, гимназия, собор. Русские провинциальные города строились по одному образцу. И, входя в Орел, я мысленно представляла себе серую реку, решетчатый скрипучий мост через нее, общественный сад с деревянной раковиной для духового оркестра, створчатые дома торгового ряда, два-три купеческих особняка с великолепными дубовыми дверьми, губернаторский дом с облупившимся орнаментом, колоннами и длинными, узкими окнами.
Все было так, но город, разматывавший передо мной свои улицы, был полон зловещих предзнаменований. Купеческие особняки были исцарапаны штыками, окна губернаторского дома выбиты пулями.
Я узнала дом, который искала, по неустанному стуку аппаратов Морзе, прорывавшемуся на улицу, по раздраженным лицам выходящих из подъезда людей в офицерских бекешах с кокардами на шапках, по караулу на тротуаре и за стеклянными дверьми. Но город еще раньше выдал мне секреты врага...
Как описать военный лагерь перед отступлением, как определить словами угрюмое предчувствие поражения, которое уже прокралось и наполняло собой Орел в этот вечер! Особая суета господствовала повсюду. Хотя в окнах домов местных жителей и мерцал свет, хотя какие-то осмелевшие гимназистки флиртовали с офицерами у ворот продовольственных складов, город напряженно ждал перемен. Стук копыт, приближающаяся стрельба, какое-то торопливое движение на улицах предрекали отступление белых.
Меня арестовали на пороге квартиры, где я надеялась найти друзей. Все, что было мне нужно, я уже выпытала, узнала. Оставалось передохнуть и возвращаться назад. Я едва передвигалась от голода и усталости. Шли вторые сутки моих странствий. В общественном саду, сидя на скамье, я подвела итоги собранным мной сведениям. Увы, враг был еще силен. Много жертв понадобится, чтобы одолеть эту мрачную стихию, восставшую против нас.
Был холодный вечер; ветер с шумом нес по аллеям сухие листья. Я продрогла и решила пойти по условленному адресу, прежде чем пуститься в обратный путь. Но не успела я дернуть звонок, висевший на двери, как меня задержали.
— Большевичка! — закричал безусый мальчишка в костюме с чужого плеча, в распахнутой бурке и с георгиевской ленточкой над карманом гимнастерки. — Я тебе покажу, как с чужими паспортами шляться! Двадцать девять лет? Да тебе и девятнадцати нет!
«Ничем не выдать себя, сдержаться, молчать», — так думала я, поеживаясь от брани вчерашнего гимназиста, который командовал двумя безмолвными казаками. Каждое неосторожное слово могло ускорить мой конец. И я молчала, послушно и глуповато улыбаясь.
Меня ввели в полутемный одноэтажный дом и втолкнули в какую-то комнату. Офицер с круглыми, черными, выпуклыми глазами долго рассматривал мой документ. Потом с не меньшим вниманием он принялся разглядывать меня.
— Зачем вы, мадемуазель, пробрались через фронт? Чему, извините за любопытство, мы обязаны столь приятным визитом? Видимо, мы повесим вас завтра утром, если вы будете скрывать от нас ваши планы. Однако снисхождение возможно, если вы признаетесь во всем и дадите нам нужные сведения касательно ваших. Я имею в виду Красную Армию. Для вас ведь не тайна, что мы тесним противника и скоро войдем в Москву?
Я непонимающе поводила плечами и поправляла платок.
— Да я ж ничего не знаю. Я ж из Курской губернии. Отпустите меня, ваше благородие.
Офицер невозмутимо позволял мне божиться и ненатурально всхлипывать.
— Обыскать, — сказал он внезапно.
Тут я заметила, что мальчишка в гимнастерке с чужого плеча стоял в полутьме у дверей. И началось то, что является мне до сих пор, как галлюцинация в ночи болезни и бреда.
Меня раздели, пытали. Я кусалась, дралась и царапалась.
Пучеглазый офицер подошел ко мне и потянулся к цепочке на моей шее.
— Барахло! — сказал он, рассмотрев ладанку и бросая ее мне. — Это для маскировки! Вы ловкая сволочь, опасная дрянь, мадемуазель Ляпунова.
— А миленькая девчонка, — сказал мальчишка с георгиевской ленточкой. — Большевистская Диана. Прежде чем мы ее повесим... — Каждый из нас понял, чего он не досказал.
Одевалась я как автомат, чувствуя себя непоправимо оскверненной их прикосновениями, их взглядами, ненавидя свое тело.
Но допрос продолжался. Я овладела собой и снова вошла в роль курской крестьянки-мешочницы, заблудившейся между линиями фронтов. Меня уговаривали, стращали. Внезапно безусого поручика срочно куда-то вызвали. Я продолжала уклоняться от ответов, хитрить. На мгновение воля мне изменила, захотелось, чтобы меня скорее прикончили. Силы уходили быстрее, чем время.
И снова телефон пришел мне на помощь. Офицера, допрашивающего меня, также вызывали в штаб.
— Я скоро вернусь, — сказал он угрожающе. — Советую подумать и уступить. Мы шутить не любим и расправимся с тобой по заслугам. — Он открыл дверь, и я увидела широкую спину часового и кончик его штыка. Где-то поблизости гулко рвались снаряды.
— Смотреть за арестованной в оба! — крикнул офицер, торопливо надел на ходу шинель и ушел.
Я осталась одна в обществе спины и винтовки у двери. Надежда, последняя надежда на спасение возвратила мне силы и обострила сознание. Я обвела глазами комнату и увидела в углу тяжелую ширму красного дерева и над ней полоску двери, обитой войлоком. Стук сердца показался мне таким громким, что я испугалась, как бы его не услышал часовой. Но спина осталась неподвижной. Жизнь моя зависела от того, сумею ли я неслышно добраться до двери. А если за ней такая же спина и винтовка? Что тогда? Но нельзя было терять ни минуты. Часовой закашлялся. Если он обернется — смерть. Но его кашель заглушил мои шаги. Я потянулась рукой и нащупала ручку двери. Она была заперта. За нею слышались голоса. Я погибла! Ужас сжал горло мне, но я победила его, встала и подошла к часовому.
— Товарищ, брат, — прошептала я.
Часовой молчал.
Я видела его профиль, курносый, веселый нос, крупные губы и умный выпуклый лоб. Но он даже не повернулся ко мне.
Некоторое время прошло, как в агонии. Грохот канонады все усиливался. Я знала, что спасение было близко, но доживу ли до этого? И вдруг где-то рядом разорвался снаряд. Оглушенная, упала я на пол. Очнувшись, увидела над собой растерянное лицо часового.
— Жива? — спросил он, помогая мне встать.
— Слышишь, — зашептала я, едва понимая происходящее и хватая его за руку. — Это наши, твои братья, товарищи подходят к Орлу.
Все приближающийся орудийный гул подтверждал мои слова.
— Ты кто? Крестьянин? — продолжала я. — За кого же ты борешься?
Я говорила долго, несвязно, но от всего сердца, как говорят перед смертью.
— Бежим со мной к красным!
Часовой вышел из комнаты. Канонада приближалась. Внезапно он вернулся и сказал:
— Идем... Я тебе помогу, а ты уж замолви за меня словечко...
Он вывел меня с винтовкой наперевес, как арестованную. Выйдя на улицу, мы пошли рядом. Свобода!
Навстречу попадались бредущие толпами части белых. Они отступали. Немного усилий, и Орел будет взят. Задыхаясь от мороза, спешки и радости, я не чувствовала под собой ног. Скоро мы вышли из города.
* * *
Первое известие, которое мне сообщили в нашей бригаде после того, как я отчиталась во всем, было, что ранен комиссар. И, выполнив все поручения, я бросилась на станцию в санлетучку. Врач задержал меня в тамбуре. Комиссар еще не пришел в себя. Но рана менее опасна, чем казалось вначале. Если бы только одним сантиметром ниже, не миновать бы смерти.
В ту же ночь красные взяли Орел.
ДРУЗЬЯ
Вскоре я снова получила приказание отправиться в Политотдел армии за инструкциями и политической литературой, пришедшей из Москвы. В те же дни Ольга собралась в отдел снабжения за топорами, в которых мы испытывали крайнюю нужду. Выехали вместе. Отыскали в теплушке сухое местечко и улеглись на досках перед дымящей буржуйкой, с головой укрывшись шинелями. На мгновение Ольга, мягкая, женственная, показалась мне матерью. Разговорчивая, она охотно слушала и других. А я и вовсе не умела сдерживать своих мыслей. Поведав ей о своем детстве и юности все, что казалось мне интересным, я попросила ее рассказать о себе. Это показалось ей трудновыполнимым.
— Не люблю говорить о прошлом, неприятное оно, так зачем к нему возвращаться, — заговорила она. — Сделанного не переделаешь. Пережитого не воротишь. Ну его к буржуям! А хорошего мало что было. Вот и сейчас только и припомню, что детский визг — нас было у матери семеро — да вонь от помойки под окнами. Фабрика была грязная, темная, сырая. Чертово логовище.
— Ты не любила свою фабрику? — спросила я со священным ужасом, почти оскорбленная.
— Я ее ненавидела, — ответила Ольга.
Мне показалось, что она на себя клевещет. Сколько раз за последние годы с завистью смотрела я на тех, кто рос возле доменных печей, железных станков, чье детство было похоже на рабство. Заводы, фабрики, которых я никогда не видела вблизи, казались мне мифическими кузницами героев. А из рассказа Ольги вырисовывались одни лишь тоскливые контуры мощеного фабричного двора, казарменных корпусов, замызганных окон, смрадных конур, работы до изнурения.
Но это ведь была правда.
В юности Ольга мечтала о том, чтобы иметь пеструю шаль, как у взрослых работниц. Других желаний у нее не было. Одиннадцати лет она поступила на табачную фабрику. Клеила коробки. Получала полтинник в день.
В февральские дни сняли с поста у фабричных ворот городового, в октябрьские привезли на фабрику пять гробов для убитых рабочих. Плакала вместе с их детьми, женами. А в восемнадцатом году ушла на фронт. Вот и все.
Ольга замолкла, а я никак не могла отогнать дум, побороть бессонницы. Ни перебранка колес, ни метель, бушевавшая за стенкой вагона, не усыпляли меня. До сих пор мне казалось, что я вижу мир во всей его широте. Теперь я поняла, что глаза мои только начали слегка приоткрываться.
Так иногда, вспоминая прошлое, мы с мысленным удивлением останавливаемся перед упорством, с которым отстаивали какое-нибудь мнение, нынче вызывающее улыбку снисхождения или досаду. Разговор с Ольгой показал мне, что многое еще следует передумать, проверить и перечувствовать. И внезапно подкралась боязнь. Я испугалась.
В Мценске мы с Ольгой пересели на случайно встретившуюся нам санитарную летучку. Недавно присланные из Москвы вагоны казались необычайно нарядными. Нас стесняла белизна чехлов на сиденьях, сестры милосердия в накрахмаленных косынках и сборчатых юбках.
Монотонное повизгивание колес и мягкие диваны располагали ко сну. Мы проспали Орел и проснулись, когда поезд подходил к Становому Колодцу.
Красные оставили станцию с вечера. Поезд подкатил к вокзалу и остановился. Нас поразила тишина.
— Почему не слышно выстрелов? — ни к кому не обращаясь, нервно сказала Ольга.
На перроне станции вповалку лежали больные. Санитары подбирали их, клали на носилки и относили в вагоны. В теплушках полки были в несколько ярусов. Бред, стоны, команда врача сливались с завыванием осеннего ветра. Под вокзальным колоколом, заложив в карманы руки, будто посторонний наблюдатель, стоял начальник станции. Изредка он напряженно к чему-то прислушивался и поворачивался в сторону чуть видного леса.
— Там белые, — сказала мне Ольга, следя за ним взглядом. — Он их с нетерпением ждет. Нужно предупредить старшего врача. Тут саботаж и измена.
И она побежала по платформе, громко крича:
— Не позволяйте отцеплять паровоз! Оста...
Докончить ей не дал извивавшийся на земле в беспамятстве сыпнотифозный. Неожиданно он поднялся на ноги и с закрытыми глазами, фиолетово-желтый, двинулся навстречу Ольге, хрипло твердя:
— По коням!.. Сволочи!.. Офицерня поганая!..
Сделав несколько неверных шагов, он всей тяжестью грохнулся на бегущую ему навстречу Ольгу. Оба упали. Когда, очнувшись от падения, покачиваясь, Ольга приподнялась, отцепленный паровоз стоял уже у водокачки. Санитары кончили погрузку и задвинули двери теплушек.
Тучи на востоке желтели, неподалеку раздались первые выстрелы.
— Нас предали, — сказала Ольга врачу эшелона. — Начальник станции саботирует, машинист сбежал, мы в ловушке, через час белые займут станцию.
Врач растерянно махнул рукой и, как будто что-то вспомнив, бросился в вагон.
— Идиот, шляпа! — крикнула ему вслед Ольга и пошла вдоль поезда.
Из теплушек по-прежнему доносились стоны больных. Я видела, как Ольга с внезапной решимостью выпрямилась, вынула из кармана наган и, позвав двоих санитаров, пошла к вокзалу.
Через минуту она появилась в одном из окон вокзального домика. Я слышала каждое ее слово и видела сидящего в глубине комнаты за письменным столом начальника станции.
— Немедленно прицепите паровоз, добудьте машиниста и отправьте санлетучку. Даю вам пять минут времени, — крикнула ему Ольга.
— Напрасно горячитесь, сударыня, наше дело маленькое, — ответил ей начальник станции. — Без машиниста далеко не уедете. А я бессилен помочь.
Первые лучи солнца скользнули по зданию вокзала, по санлетучке. В ту же минуту от водокачки с торжествующим присвистом отделился паровоз и, то приближаясь, то отступая к эшелону, точно заигрывая и дразня, начал маневрировать. Завидя его, Ольга выскочила прямо через окно на перрон. С площадки вагона удовлетворенно посмеивался врач.
— Спокойствие, главное — спокойствие, товарищ Ольга, — предупредил он. — Пока вы стращали начальника, я разыскал машиниста. Наш фельдшер, оказывается, сын машиниста и вырос на паровозе.
Спустя десять минут санлетучка вздрогнула и побежала к Орлу.
Солнце взошло, и белые, обстреливая Становой Колодец, перешли в наступление.
Штаб армии расположился в маленьком уездном городке.
Поутру я зашла в госпиталь. Комиссар бригады, тот самый, что недавно направлял меня в Орел, чувствовал себя уже лучше. Меня впустили в палату, где он лежал. Я передала ему яблоко и приветы от товарищей. Он был теперь без бороды и усов, только по глазам я отличила его от других раненых.
Говорить нам было почти не о чем. Я пыталась рассказывать с развязностью, едва скрывающей неловкость, о мелких происшествиях последних дней.
— Завтра я встану, — сказал он мне на прощанье и с ребяческой настойчивостью попросил навестить его еще раз.
День казался мне бесконечным. Надо бы, не откладывая, возвращаться в дивизию, но я оттягивала отъезд. На следующий день, едва дождавшись времени, когда можно было снова пойти в госпиталь, я побежала туда. Комиссар ждал меня в коридоре.
— Я хотела бы спросить вас, — начала я не без робости. — Как вас зовут и сколько вам лет?
— Анкета? — улыбнулся он. И терпеливо принялся заполнять каждую графу.
Его звали Павлом, и родился он в 1895 году. Если бы не Октябрь, он был бы токарем по металлу, так же как его отец и дед.
— А теперь я солдат революции, — закончил он свою исповедь.
— Какое счастье, что рана оказалась несерьезной, — вырвалось у меня вдруг, вне связи с предыдущим.
Павел взглянул на меня пристально, прищурясь.
— Я тоже рад. Умирать очень не хочется! Продавать свою жизнь надо подороже. А мое ранение было в общем непростительно. Я сам во всем виноват. Вылез раньше времени. Ну и поделом. Еще один урок. Но я знал, что не умру... — Он замолчал. — Мы шли по степи. Не смейтесь. Сам знаю — бессмыслица. Но у меня странное убеждение: убит я могу быть только в лесу.
— Это попросту атавизм, — важно сказала я. — В лесу мы чувствуем себя менее защищенными, как наши далекие предки.
— Атавизм, вы говорите? Черт его знает что это. Чушь, конечно. Но знаете, такие вот невысокие ветвистые от самой земли деревья, особенно синие ели, внушают мне какое-то беспокойство. И когда я думаю о смерти, я обязательно вижу себя лежащим под елью, на лесной опушке. А в этот раз я был ранен в поле...
— Надо вам отдохнуть, — вырвалось у меня.
Мы встретились с Павлом опять месяцем позже. Была ли это уже любовь и какова она вообще, первая любовь, в этом я тогда не могла отдать себе отчет. Он казался мне более развитым и умным, чем я. Сомнения и неуверенность делали меня угрюмой. Обижалась на него из-за каждого пустяка, мучилась чем-то новым, неиспытанным, избегала встреч и хотела их. Навязчивость, с какой настигали меня мысли о нем, вызывала ужас. Иногда думалось: он меня не любит, так почему же я тоскую, почему?
«Работать, работать», — твердила я постоянно, но слова не помогали. Сердце, ловкий соглашатель, умудрялось незаметно вызывать мысли о нем.
Сколько раз я читала о любви, и, однако, то, что теперь происходило со мной, было так не похоже.
Ничто не препятствовало нашим встречам. Нередко долгие предательские ночи мы сидели оба над планами работы, принимали сводки и приказы дивизии, готовились к очередной политбеседе.
Армия наша двигалась на юг. Белые, отчаянно сопротивляясь, отступали. Штабарм следовал за наступающими красными частями.
Мы приближались к Харькову.
Часто во время долгих переходов мы дремали в седле. Где-то вдалеке раздавался выстрел, и снова все стихало. Крестьянин проезжал на телеге. «Здоровы булы!» — слышался голос, и человек пропадал в белой пыли. Иногда встречался автомобиль полевого штаба. Будили нас солнечные восходы — серые, блеклые и печальные. И, глядя на горизонт, на холодное, зеленоватое солнце, я грустно думала о себе и о своем будущем.
ЛЮБОВЬ
Сомнения опутали меня. Хотелось рассказать все Ольге и Варе. Но они были далеко.
Казалось, Павел позабыл, что я женщина. И вот то, что я ценила недавно превыше всего — равенство, товарищество, то, чего добивалась так настойчиво, внезапно обесценилось, стало даже обидным. Мне хотелось нравиться, быть привлекательной именно в так недавно презираемом «женском» смысле. Не потому ли из-за ворота моей гимнастерки часто высовывался теперь воротничок блузки, не потому ли я раздобыла себе сапоги с узкими носками и высокими каблучками? Убогое, тщетное кокетство! Павел упрямо ничего не замечал.
Но однажды, когда мы возвращались лесом из полка в бригаду после беседы с красноармейцами, он вдруг начал разговор, которого я ждала так давно.
— Сознайся, — промолвил он, — ведь ты давно уже знаешь, что я влюблен в тебя по уши.
Я задохнулась от счастья и задумалась, проверяя себя. Знала ли я, что он меня любит? Нет. Считала, что я добрый товарищ, «верный друг», и больше ничего. Молча я дернула уздечку. Лошадь рванулась, я покачнулась в седле, свесилась набок и едва не опрокинулась в сугроб. Павел не заметил, каких усилий мне стоило удержаться в седле, и продолжал, точно подводя итог:
— Не знаю только, любишь ли ты меня. Частенько, хоть не о том бы думать надо, загадываю я о твоих чувствах. Возраст у тебя уж очень ненадежный. Обязательно в кого-нибудь втюриться полагается. Я, конечно, человек для тебя неподходящий. Книг, беллетристики разной читал мало, и на этот счет придется подтянуться, сравняться. Я не шибко еще грамотный. Но, конечно, что касается до партии, до ленинского учения, тут я посильнее тебя... Кроме того, ко мне, знаешь, ребятишки очень льнут. С ними я умею ладить. Я ведь девяти лет на завод пошел. Отец пил, надо было матери подсобить. А люблю я тебя здорово!
Мне показалось, что он говорил слишком спокойно. Такие слова, как я тогда думала, надо говорить задыхаясь или уж так прокричать, чтобы Большая Медведица в небе задрожала. Ведь мне в первый раз в жизни говорили слова любви. Я ждала их так долго, так давно. И вот они растаяли в тишине. Как удержать их, продлить, заставить звучать еще? От неожиданной радости я почувствовала слабость и приникла головой к жесткой гриве. Мы выехали из лесу. Деревня впереди сияла огнями. Огни скрашивали уродство ее домишек и сараев.
Прекрасно было и украинское небо над нами. Бессчетные звезды приводили на ум мысли о бесконечности вселенной.
— Наталка, — шепнул Павел, — когда ликвидируем белые банды, наступит иная пора, и мы поедем с тобой в Москву. Будем вместе учиться, работать. Хочешь? Жизнь станет прекрасной. А покуда, — он помедлил, — давай не мешать друг другу, будем верить в наше будущее и ждать его. Сберечь любовь и себя — право, великое дело. У меня все планы и надежды связаны с тобой, и торопиться нам нечего. Негоже соединять наши судьбы, не проверивши и себя и другого. В себе-то я уверен, а вот ты-то как? Поженимся потом. Что ты об этом думаешь?
— Я люблю тебя, и это самое главное.
Павел поцеловал мои волосы, и хотя я повернулась к нему и ждала, он не коснулся моего лица и пришпорил лошадь.
— Заболтались мы, — сказал он. — Поезжай в трибунал и, если надо, допроси пленных. Удастся ли сегодня вздремнуть? Устала ты, бедненькая? А к утру нужно ждать стычки. Подозрительная тишина.
Он посмотрел в сторону леса, опушкой которого мы только что ехали.
— Видимо, будет дело.
Мы расстались у околицы. Я пришпорила коня. В избе трибунала все было готово к допросу.
— Пятеро пленных, из них два офицера, — доложил часовой.
Кем только не приходилось каждому из коммунистов быть в эти трудные дни на фронте! И санитаром, и политруком, и бойцом в цепи, и следователем Особого отдела, и лектором, и разведчиком. Павел нередко говорил о себе: кем прикажет партия, тем и буду. Так думали все.
Я сбросила шинель и села к столу. Браунинг лежал наготове возле листа бумаги. Вслед за мной вошел товарищ из штаба бригады. Что-то спросил. Я ответила невпопад. В мыслях все еще был Павел. Радость мешала сосредоточиться. Вдали к станции с грохотом подкатил броневик, верстах в трех взорвался снаряд. Я научилась распознавать звуки войны, определять расстояние.
Часовой ввел офицера. Я подняла на него глаза и опешила. Да ведь это Ястреб. Однако я ничем не показала, что узнала его.
— Ваш чин?
— Бывший штабс-капитан, возвращаюсь из плена домой, к родным.
— Фамилия?
— Смородинов.
Часовой подает бумажник, проверяю бумаги. Они на имя Смородинова.
— Ваша фамилия Ястреб.
Вижу, как вздрагивают его пальцы.
— Вы ошибаетесь.
— Это не ваши документы. Вы перешли фронт со шпионскими целями и пробираетесь в наш тыл. Напрасно запираетесь.
Товарищ из штаба бригады одобрительно кивает и вспарывает тончайшую двойную стенку бумажника. Оттуда выпадает сложенный вчетверо кусок полотна. Шифр. Ястреб, командир дроздовского полка.
— Да, это вам не икона шестнадцатого века! — вырывается у меня.
Вижу, как меняется брюзгливо-капризное лицо Ястреба.
— Вы правы. Моя фамилия Ястреб. Я — враг тому, что называется большевизмом.
Какие маленькие, красные у него губки и сколько злобы в глазах!
Допрос продолжается недолго.
— Вы скатились в бездну, как я и предсказывал, — говорит он мне. Какая блестящая, однако, у него память.
— Препроводить в Особый отдел армии, — предлагает товарищ из штаба бригады.
Допрос окончен. Ястреба уводят.
За окнами зловещее оживление. Павел присылает мне записку. Иду в штаб. Приказывают немедленно ехать с пакетом в дивизию. Автомобиль подъезжает за мной и товарищем из трибунала раньше, чем я успеваю потребовать, чтобы меня оставили в бригаде. Пакет передает мне в штабе сам командир. Я стою на крыльце и жду. Свет падает из окна и ложится продолговатым пятном на снег, плетень и кузов машины. Павел наконец выходит.
— Ну, ну, будь спокойна, все будет хорошо.
Как он догадался о моих опасениях? Он стыдливо и неловко целует меня в щеку и мгновенно отстраняется.
Шофер, чертыхаясь, тщетно пытается завести мотор. Мы подталкиваем сзади машину.
Павел наклоняется ко мне.
— Помни, я тебя очень, очень люблю.
Мне чудится, будто он едва не произнес — любил. Что бы это могло значить? Я оборачиваюсь, но никого уже нет. Мие виден силуэт Павла у освещенного низкого окна, но лицо его в тени. Наконец кое-как, отчаянно ворча, автомобиль срывается с места.
Я остаюсь работать в дивизии, в клубе.
Армия продвигается в глубь Украины. Сводки приносят все новые вести о победах. Собираясь в короткие часы досуга, мы поем грозные песни и мечтаем о будущем. Зима подходит к концу. Села, в которых останавливаются найти войска, изобильны и живописны. Я радуюсь лаю собак, выбегающих нам навстречу, блеянию овец, мычанию коров.
Дни бегут галопом. Получила коротенькое письмецо от Павла. Он очень занят, но бодр.
Я по-прежнему веду ежедневно политбеседы, выдаю газеты и книги в клубе и помогаю Ольге в устройстве бань и противотифозных пунктов. Варя упрямо держится вдалеке. Иногда с лукавыми оговорками она просит нас не возвращаться на ночь домой, и мы остаемся спать где-нибудь на скамье в Ольгиной бане или в моем клубе. Прежде чем уснуть, мы судачим о Варе. Ольга относится к Варе менее строго, нежели я.
— Пусть балуется, — говорит она. — Варька достаточно хитра, чтобы причинить себе вред. Может, она права и не стоит откладывать на завтра сегодняшние радости?
«В этом ли радость!» — думаю я.
ПОЛИТОТДЕЛЬСКИЕ БУДНИ
Варя работала письмоводительницей в Политотделе. Она штемпелевала дела и бумаги, вписывала номера исходящих и входящих. Большая книга в клетчатом, как старушечий платок, переплете, склонившись над которой приходилось проводить дни, казалась ей священной, а работа доставляла немало страданий. Гнетущими были даже сновидения. То она путала номера отношений, то забывала проставить число и месяц. Варя признавалась нам, что завидует завканцу Петрову, бывшему волостному писарю, обладателю на редкость разборчивого почерка. Трудны были и ночные дежурства в безлюдном Поарме.
В Мценске Политотдел расположился в великолепном здании екатерининских времен. В высокой сумрачной комнате с узкими окнами, с выбитыми кое-где цветными итальянскими стеклами, занятой канцелярией, валялся хлам двух столетий. В углу лежали останки резного венецианского шкафа, стопятидесятилетней деревянной мумии.
По стенам висели потемневшие от времени портреты важных сановников в пунцовых и васильковых кафтанах с бриллиантовыми пуговицами, генералов в аксельбантах, полуобнаженных дам в диадемах на взбитых прическах. Кто-то неведомый, избрав их мишенью, прострелил ордена и броши, пробил нарисованные глаза.
Во время ночных дежурств Варя пыталась мобилизовать все свое мужество. Керосиновая лампа до рассвета освещала только один угол канцелярии, «ремингтоны» на овальных столах казались черными надгробьями. Всю ночь она боролась с холодом, поддерживая огонь в камине.
Прикорнув на некогда обтянутом кожей стуле, Варя часами принуждала себя не глядеть в темноту. Там, казалось, притаилась опасность, оттуда раздавались разнообразные звуки, потрескивали стены, обваливалась штукатурка, вздыхая и кряхтя, рассыпалась мебель.
Но не всегда дежурный по Поарму бывал одинок во дворце. На втором этаже нередко коротало ночи еще одно человеческое существо — инструктор агитотдела со странной фамилией Канцелярчик.
У Семена Канпелярчика были глубокие темные глаза. Ни оживление, ни смех не могли стереть печального их выражения. Глаза и чахотку Семен унаследовал от отца, глухонемого сапожника из города Седлец. Канцелярчик всего себя отдал работе, но у него было много врагов. Они объявили его карьеристом и честолюбцем на том основании, что, не довольствуясь дневными часами, Семен нередко оставался в Поарме на целые ночи. Никто не догадывался о том, что побуждало его к этому. Он знал на память всех политработников армии, артистов передвижных коллективов, названия рекомендованных Москвой книг, пьес, брошюр. С помощью чернил и бланков он вел в наступление свою армию, смещал и назначал заведующих клубами, руководителей кружков, перебрасывал актеров, утверждал репертуар, выносил благодарность либо порицания, организовывал снабжение, отпускал клубам литературу, шахматы, плакаты, театрам — грим, парики, реквизированное тряпье, политшколам — учебники, карандаши, тетради.
Только рассвет прерывал работу Семена. В пять часов утра он замечал, что его память объявляла саботаж, мысли падали под откос и разбивались в щепы, в голове отдавалась канонада. Семен отчаянно боролся, громко повторяя всегда одну и ту же фразу: «Черт, как слаб человек», — но в конце концов, собрав негнущимися от усталости руками недописанные инструкции и повторяя наизусть «Башню» Гастева, отправлялся в кабинет начпоарма. Там стоял диван, весь в крапинках от раздавленных клопов. Ложась на него, Семен ежился, мерз, кашлял и стонал. Засыпая, он думал о том месте, которое уготовано его поколению в истории.
— Великие дела, великие люди, — шептал он.
Заворг Поарма Вячеслав Линев охотно говорил при случае о своей жизни. Детство его прошло подле отца и деда в старой покосившейся кузнице. Вячеслав любил вспоминать завалинку, где на самом солнцепеке, среди ароматного прелого навоза, в одной пестрой рубашонке, перешитой из материнской юбки, сиживал он в раннем детстве. Вячка не боялся лошадей, он страшился только цыган и городовых. Цыгане, по словам матери, крали детей, а появление городового предвещало горести.
Отец Линева нередко запивал, и кузница в эти дни безмолвствовала.
Оставшись один, Вячеслав иногда принимался размахивать молотом, подражая отцу. Рука его была нетвердой, и однажды удар пришелся по ноге. С той поры он стал прихрамывать. Немного позже мальчик начал помогать отцу всерьез. Он узнал, что из прута церковной решетки можно выковать пару подков, и в дни запоев отца отправлялся по городу, хищно высматривая железные предметы, пригодные для кузнечных поделок. Несмотря на хромоту, он обещал быть отличным кузнецом. Плечи его раздались, и когда он опускал руку, вооруженную молотом, железо искрилось, будто горящее полено. Отец гордился работой сына, и крестьяне охотно доверяли ему своих лошадей. В часы отдыха Вячеслав шел в клуню, влезал на чуть отдающее гнилью сено и читал затрепанные книжки о похождениях Ника Картера или Шерлока Холмса. По воскресеньям он гулял по «кругу» городского сада и, когда темнело, шел в кинематограф с Танюшей — горничной генеральши. Из-за нее-то неожиданно и изменилась вся его жизнь.
Генеральшина дочь любила студента Петрова. Любовь их была тайной, запретной. Каждый день Танюша относила Петрову конвертики. Однажды, поленившись, она послала вместо себя с розовой «секреткой» Вячеслава.
— Пришел я, — рассказывал, улыбаясь, Вячеслав, — к учителю. Щупленький такой, ничем не примечательный паренек был. Конвертик он сунул в карман, потом уставился на меня и повел всякие там разговоры. Был он на деле гнилой интеллигентишка, из той породы, что приобщается к революционной работе, агитируя среди девчонок. Но я тогда ничего ни в людях, ни в идеях не смыслил. Внимание его вскружило мне голову. Домой, помню, приволок какую-то нелегалишку, ночью прочел ее и обалдел. Студентику я быстро надоел, и он передал меня товарищу Сергею Ивановичу Руму, которому я всем и обязан. Был он снаружи грязный, волосы седые, настоящий вечный студент, но ума и души был необычайной. До тридцати лет только и делал, что перебирался из тюрьмы в университет и обратно. В тюрьме изучил греческий, переводил на латинский «Коммунистический Манифест» и решал астрономические задачи. Сергей-то и свел меня с большевиками. Попал я тогда в нелегальный кружок, руководила им товарищ Наташа, по кличке Незабудка, чудесный была человек. Каюсь, много я из-за нее подков перепортил.
Спустя полтора года Линев получил предписание устроить под кузницей подпольную типографию. Отец его в ту пору уже помер от белой горячки, мать ушла на богомолье. Не одну неделю, как крот, еженощно рыл он с товарищами землю, ставил подпорки, клал настил.
— Пьет кузнец, весь в отца, — говорили сострадательные соседи, глядя на свет в окне кузницы. Линев рад был такой славе.
В подземелье работа шла без устали. Стук молота о наковальню заглушал скрежет «американки». Полгода существовала типография. Десятки тысяч прокламаций вышли из-под земли. На седьмой месяц полиция выследила и осадила кузницу.
С молотом в руке защищал Линев шаткую дверь, пока друзья выбирались из типографии через другой выход. Наконец жандарм свалил его выстрелом в упор. И после этого восемь монотонных лет провел кузнец в одиночке.
— Проба! Теперь я крепче своих предков, — заканчивал он свои воспоминания.
Заворг отлично разбирался в людях. Подполье научило его осторожности и наблюдательности.
— Иногда даже скучно, — говорил он, — видишь парня в первый раз и думаешь: вот сейчас он скажет то-то и обязательно таким голосом. И что же? Действительно, говорит так и то, что ему полагается; и голосенок у него такой, как я предугадывал.
В кабинете заворга на письменном столе постоянно валялись груды папок. Размашистым неровным почерком Линева на них были сделаны краткие, но выразительные надписи: «заглядывать почаще», «хлам», «полезное», «пусть полежит».
Политработников, приезжающих из центра, Линев невидимо ощупывал: «просвечивает», «добротный», «с изъяном», «напористый», «кипяток», — писал он на анкетах. И комиссары, направленные в части Линевым, редко не оправдывали его оценки. Случалось, что рвавшихся в бой и кичившихся храбростью он упрямо оставлял в тылу.
— Брешет, потому что пороху не нюхал, пустомеля, в первом же бою полезет в кусты, — докладывал Вячеслав начпоарму.
* * *
Начпоармом у нас была Гортензия Сергеевна Рейс. Храбрость ее вошла в поговорку. В критические дни на фронте Рейс однажды задержала отступление, собственноручно расстреляв нескольких дезертиров. Она водила в атаку полки и одерживала победы.
Меня удивляло, что она невысока ростом. Низенькая, одутловатая от болезни сердца, нажитой в годы подполья, Рейс ничем внешне не напоминала героические образы, рисовавшиеся моему воображению.
На партийном собрании в первый же день по приезде Рейс спросила, тыча бесцеремонно пальцем в угол, где сидела Варя:
— Это что за барышненка?
Семен, пригнувшись, прошептал ей что-то.
— Не выйдет из нее толка, — решительно заявила она.
Однажды Рейс вызвала меня. Шагая через две ступеньки лестницы, я побежала на желанное свидание. Моей затаенной мечтой было стать похожей на эту отважную революционерку. В коридоре у двери ее кабинета я услыхала пискливый прерывающийся голос:
— Шкурни-ик, весь мир смотрит на большевиков, а вы смеете позорить партию... пьянствовать на фронте?! Знаю все! Молчать!.. Знаю!.. Отправляйтесь сейчас же в полк, трус вы этакий!
Из кабинета выскочил какой-то мужчина с испуганным лицом и обвисшими усами. Я вошла туда, оробев.
Рейс сидела у письменного стола, постукивая карандашом. От бессонных ночей и постоянных волнений глаза ее болезненно, фанатически блестели. Не выдержав испытующего, подозрительного их взгляда, я опустила свои.
— Вы просили сапоги, я, конечно, отказала.
Я посмотрела на грязные портянки, вылезавшие, как бурые языки, из моих когда-то франтоватых сапог.
— Красноармейцы ходят раздетые и босые, а политотдельцы выпрашивают белье и сапоги, — продолжала Гортензия.
На поясе ее рядом с кольтом висела связка ключей от бельевого склада.
Мне вдруг стало стыдно.
— Вы правы, — сказала я.
Рейс мгновенно смягчилась.
— Придет время, и все у нас будет. Потерпите.
* * *
Редактором армейской газеты был рыжебородый Митрофанов, он же поэт «Дед глаз».
— Штат газеты у нас невелик, — говаривал Митрофанов. — Я да Ваня Васев, порученец, он же фельетонист и он же правщик корректуры и выпускающий — богато одаренное существо.
Васев был мальчонка лет четырнадцати, утонувший в огромной кавалерийской шинели.
Когда мне случалось заходить в редакцию за газетами для клуба, Митрофанов говорил сурово:
— Не снимайте тужурки, замерзнете.
Раз как-то Митрофанов спросил меня:
— Вы статьи писать умеете?
— Нет, то есть не знаю... В гимназии шла не последней по сочинениям.
— Значит, не умеете, — сухо заключил «Дед глаз». — А жаль! Мне срочно нужно что-нибудь изобразить насчет соглашателей; в Харькове процесс меньшевичков начался.
Изо дня в день Митрофанов сочинял для своей газеты стихи, писал фельетоны и правил красноармейские письма, а Васев бегал в типографию, в штаб и Поарм за «материалом».
— Учитесь писать, Вася, у этого красного воина, — патетически восклицал «Дед глаз» и читал вслух очередное письмо красноармейца из передовой части:
— «Свою боевую задачу мы выполнили, показали генералам кузькину мать, — значилось в письме. — Хоть сейчас мы на отдыхе, но день наш полон. Учимся сами и другим, чем можем, помогаем. Нужен крестьянину ученый человек, нужно знание. Один старичок говорит нам: «Не пустим вас, милые, из села, поживите. Генеральский сор нелегко нам одним из избенки вымести».
* * *
Семен, Линев и Митрофанов жили на углу площади Маркса и Энгельса и улицы Шопена. В просторной горнице помещались походная кровать и три табурета. Девять окон щедро пропускали свет и холод. На подоконнике лежали гитара, многолетняя спутница Линева, и принадлежащий ему же изодранный «Анти-Дюринг». Грязное полотенце, крохотный обмылок и гребешок свидетельствовали о тяге обитателей комнаты к чистоте.
Мы часто заходили к ним с Ольгой.
Однажды после ужина, состоявшего из сухой пшенной каши, Линев разложил на полу карту Южного фронта и, хмурясь, принялся отмечать крестиками занятые белыми города и деревни.
— Теперь-то уж разберут крестьяне, кто свои, кто чужие, — сказал он и поднялся с пола. — Ребята, надо ехать на передовые позиции! Поарм — это тыл!
— Не преувеличиваешь ли ты, Вячеслав, безопасность нашего «тыла»? — отозвался Семен.
Линев не ответил и, сопя, зашагал по комнате. Он не только говорил, но и молчал шумно.
В ту пору я часто вспоминала о Павле. Снова медленно ехали мы с ним рядом по лесу. Подкрадывалась ревность, неясные опасения. Ведь я ничего не знаю о нем. Кому так же, как и мне, он говорил ласковые слова?
Возвращаясь к себе, мы заставали Варю то в слезах, то веселую, иногда беспричинно хохочущую.
— Жизнь коротка, бери, что можно, — любила она говорить.
Однажды она сообщила нам, что боится, не забеременела ли. Ольга уронила от волнения утюг, которым гладила гимнастерку, я охнула. Положение Вари казалось нам безвыходным — оставаться в армии ей было теперь невозможно.
— Поеду в Москву, — сказала она, — сделаю аборт и вернусь назад.
«Не может быть большего наказания, — думала я, — чем вынужденный отъезд из армии. В такие дни стать даже по нечаянности дезертиром — вот он, позор, вот истинная мука!»
В день отъезда Варя помалкивала и ждала чего-то.
— Из всех, кого я любила здесь, этот оказался самым бессердечным, — сказала она, грея на свече щипцы для завивки волос.
— А разве ты многих любила? — спросила я недоверчиво.
— Вообще или в армии? — Варя принялась накручивать на раскаленные щипцы прямые опаленные волосы.
Я растерялась от этого уточнения и, не осмеливаясь повторить вопрос, смотрела на подругу во все глаза, точно никогда раньше не видела этой широкоскулой, по-особому миловидной девушки.
— Какая же это любовь? — вырвалось у меня против воли.
Варя равнодушно вытерла щипцы о лист старой газеты.
— Ханжество, — сказала она.
Вошла Ольга. Разговор оборвался.
ТИФ
Ольга сразу же начала выкладывать свои заботы.
— Мыла бы прислали, мыла и обмундирования. Варя, голубка, поразведай в Москве, какие перспективы, скажи, что очень нам белье исподнее нужно.
Ей казалось, что чистота — верная порука скорой расправы с тифом. Мыло было ее оружием. И его не хватало. Глядя в окно на желтоватый пятнистый снег, Ольга страстно звала солнце, лето. С теплом уменьшалась нужда в шинелях, в теплом белье. Вода, солнце должны были служить борьбе с тифом.
— Ах, Варька, — говорила она, снаряжая подругу в дорогу, — твою бы энергию да на дело пустить.
Варя уехала. Ольга все худела от бессонных ночей и непрерывной работы. Наступил март. Тиф все свирепствовал.
По утрам к санчасти армии, занимавшей полуразрушенный дом и оранжерею бывшего городского садоводства, подавали телегу для прививочного отряда.
Ровно в восемь врач и Ольга трогались в путь. Дорога пролегала полями, деревнями, молчаливыми, неприветливыми. Не раньше полудня прививочный отряд добирался до места назначения.
Во дворе церкви уже толпились красноармейцы. Пока врач надевал халат и засучивал рукава, Ольга расставляла банки с йодом и ватой. Красноармейцы подходили «колоться» один за другим, сняв гимнастерки.
Ольга видела только спины, худые, с выпуклыми лопатками, будто крыльями, толстые в жировых бегемотьих складках, гладкие, с четким орнаментом крепких мышц, прыщавые, с опущенными плечами, хитро и трусливо сжатые, лицемерно вогнутые, фатовато выпрямленные. Спины, к которым она прикасалась йодным тампоном, постепенно заменили ей лица, внушая то симпатию, то брезгливость, то равнодушие.
Под вечер Ольга возвращалась домой. Жили мы на постое у сектанта-евангелиста. На полу одной из двух комнат были разложены половики, вдоль стен поставлены выписанные из Орла фисгармония и венские стулья. Раз в неделю вот уже много лет тут собирались двенадцать сектантов-евангелистов.
Со времени нашего постоя хозяева дома перебрались в сарай, где, кроме них, разместились полинялый тарантас без колес, сбруя давно издохшей лошаденки, тощая коза и столетний, пахнущий мертвецкой хлам.
Старая хозяйка — ее звали Авдотья — благодаря нам, «большевичкам», обрела наконец постоянное занятие. Каждый вечер залезала она в угол, срезанный фисгармонией, и погружалась в созерцание и подслушивание. В большую щель видно было происходящее в соседней комнатке, узкой и низкой, как купе вагона.
Меня увлекали в ту пору идеи двух фронтов — трудового и боевого. Карты висели над моей кроватью.
Донецкий бассейн был свободен. С Грозного мы должны получить нефть.
Украина, Брянские леса снова были свободны от вражеского нашествия.
Мысленно я подолгу обозревала огромные лесные угодья, растянувшиеся от далекой, уходящей в потолок тайги до зарослей Закавказья. Нефть, уголь, руда, лес означали богатство, изобилие, свободу.
Белые холмы соли предлагали себя, нефть лавой рвалась из земных недр. Все было доступно — и золото, и самоцветы, и каменный искрящийся уголь.
— Каждый пуд угля, нефти, каждый исправленный паровоз побеждает разруху. Еще несколько месяцев, и мы уничтожим белых. А как будет интересно, трудно, замечательно жить! — восклицала я.
За стеной Авдотья, охая, покидала наблюдательный пост. Еще один вечер не принес ожидаемых развлечений. В дверь стучались евангелисты. Вскоре глухие воющие аккорды фисгармонии разносились по дому. Старческими дребезжащими голосами сектанты затягивали псалмы.
— Перекрыть их, что ли? — спрашивала Ольга, невидимая за густым, дерущим горло дымом махорки, и запевала низким контральто: «Мы кузнецы, и дух наш молод». Я подхватывала. В ответ за стеной, пытаясь приглушить наши голоса, кричали псалмы сектанты.
В эти дни я получила приказ отправиться в штаб армии. Из Москвы прибыла литература и новые инструкции по организации клубного дела в военных частях.
Штаб армии расположился в южном городе. После долгого перерыва снова ходила я по мощеным улицам и с удовольствием разглядывала трехэтажные дома. В витрине аптеки стояли витые флаконы духов. На базаре юркие торговцы исподтишка предлагали фильдеперсовые чулки и шелковые шарфы. Иногда ветер приносил запахи близкого моря и цветущих деревьев.
Вечером я зашла в местный театр. Армейская труппа ставила «Ревизора». Театр — деревянная коробка с оштукатуренным потолком и двумя открытыми ложами — был переполнен красноармейцами. Артисты играли слишком старательно и потому фальшиво. Зрители щедро им аплодировали.
Я почти не следила за происходящим на сцене. Мне вспоминался иной театр: с голубым занавесом и креслами, обитыми атласом. Я была в толпе девочек в гимназических платьях. Катя сидела рядом, жевала конфеты и облизывала вымазанные шоколадом пальцы.
Как давно это было! Сколько лет я не расчерчивала мелом тротуары, сколько лет не прыгала на одной ноге за метко брошенным в нумерованную клетку камешком, сколько лет не играла в никогда не надоедавшие «классы».
На сцене Хлестаков неловко падал на колени перед Марьей Антоновной, как некогда артист Райский, в которого сразу же влюбилась Катя.
А до этого дня казалось, что не было и нет ничего, кроме сел, деревень, провинциальных городов, мимо которых идет Красная Армия. Много месяцев не было других мыслей, слов и забот, кроме тех, которыми живем мы все, я и те, что вокруг меня. Оказывается, за этой чертой есть что-то другое, есть даже гимназисты, сидящие в театре с голубым занавесом и возвращающиеся из театра домой, чтобы играть в фанты и флирт цветов. Есть города, где маленькие девочки с опаской переходят улицы и спорят о чепухе. Поразительно! За месяцы пребывания на фронте я позабыла о существовании других стран. Я говорила о международной буржуазии, об Антанте, но не ощущала в этих понятиях живых людей. Мир делился для меня на две части: на Советскую Россию и пространство, занятое ее врагами. Два знамени развевались над землей — красное и белое. Два стана. Я была в том, который побеждал мрак, дикость, жалкие судороги сметаемого класса, побеждал самое время.
В Поарме мне повстречался начдив Валерьян Зубов — красавец с лицом былинного богатыря. Он с подчеркнутой горечью сообщил мне, что переведен на работу из дивизии в армию.
— Это, конечно, почетно, но я по натуре воин, — сказал он.
Пошли вместе обедать в штабную столовую. На лестнице пахло навозом и псиной. Но ничто не могло испортить нашего аппетита. Суп из мясных консервов казался пределом кулинарных возможностей. Мы грызли корки черного хлеба, белящего зубы получше зубного порошка, которого не было в армейских складах. Десерт был поистине «буржуйский» — чернослив в шоколаде фабрики «Жорж Борман», захваченный и доставленный в отдел снабжения армии из недавно занятого Харькова.
Оказалось, что начдив любит стихи. Во время обеда он декламировал строки о скандинавской чаровнице Ингрид и еще о каких-то необыкновенных изломанных девушках с фиалковыми глазами.
Таится в Ингрид
Под лесофеей демимонденка,
Играет Ингрид,
Она поэзит, она поет...
Валерьян утверждал, что Игорь Северянин в общем очень смелый и радикальный поэт. Я не знала, что отвечать. За все время пребывания в армии я прочла, кроме разного рода брошюр, только «Башню» Гастева да «Красную звезду» Богданова.
— А знаете, — сказал на прощание Зубов, — я давно неравнодушен к вам, маленькая малайка. — Он задержал мою руку в своей.
О, если бы это был не он, а Павел! Расставшись с начдивом, я взяла горсточку несвежего снега и потерла им руку. Хотелось смыть нечистое, как мне казалось, прикосновение.
С нерассуждающей гордостью первого женского самоотречения я шептала имя моего далекого возлюбленного.
* * *
Через некоторое время штаб наш подъезжал к городку, куда переехал из Киева дед.
По случайным письмам я знала, что он служил кассиром на вокзале.
Приближалась середина марта. Поезд медленно полз по рыхлому полю. Спустив ноги, я сидела в дверях вагона. С Днепра дул влажный ветер. Начинался ледолом, и с приглушенным воем рвались льдины. Накануне во сне мне привиделся дедушка, строгий, худой, но молодой, — такой, каким я знала его лишь по фотографиям. Мы сидели молча в незнакомой сумрачной комнате. Внезапно, сломав стену, с ревом, как стадо зверей, ворвался танк, неровный, серо-зеленый, могучий. Равнодушно пошел он по паркету, ломая мебель. Шел прямо к роялю. Завизжали рвущиеся струны, а с улицы сквозь дыру в стене повалили люди, голося и угрожая кому-то. И когда танк исчез в противоположной стене, не разрушив, а как-то распластавшись на ней, из-под черных лакированных обломков те же чужие люди выгребли бездыханное тело дедушки. Таков был сон.
Чем меньше оставалось ехать, тем быстрее возрастало мое беспокойство. Я мысленно торопила поезд, невольно напрягая мускулы, точно хотела помочь паровозу. Деду ведь было за семьдесят, а старость приносит с собой хворь и слабость.
«Если бы воля к жизни решила вопрос о смерти, дед никогда бы не умер», — думала я, все более внутренне убежденная, что он тяжко болен.
«Надо верить в то, что никогда не умрешь и будешь Мафусаилом. Мы умираем после того, как допустили мысль о своем уничтожении и сдались», — частенько говаривал сам старик.
«И сны и дурные предчувствия — все от усталости, от переутомления. Если бы не разлука с Павлом, если бы можно было оказаться сейчас вместе, поговорить, успокоиться, сесть рядом, взять его за руку...»
Поезд остановился у закрытого семафора. До кирпичного здания вокзала было недалеко. Я соскочила с подножки и пошла по перекрещивающимся путям. Иногда, как в детстве, взбиралась на один из рельсов и балансировала на нем, будто канатоходец. Хмурый железнодорожник недружелюбно смотрел на мои шалости и долго не отвечал на вопросы.
— Далеко от вокзала до деревни?
— Тут вокзал не вокзал, а сыпнотифозный барак, одни умирающие, — сказал он нехотя.
Прибавила шагу. На платформе никого. Касса закрыта. Вошла в здание. Полутьма. Смрад. На полу плотная серая масса человеческих тел.
Переступаю через неподвижных людей. Один внезапно поднимается. Бессмысленный взгляд, худые руки вылезают из ободранных рукавов.
— Да здравствует советская!.. — Он не договаривает и падает навзничь.
Кто-то застонал и попросил пить. Наклоняюсь, ловлю бессвязные слова бреда, женские имена, произносимые призывно и печально. Отцы, мужья, братья каких-то неведомых мне Машенек, Анюток, Дунь лежат без сознания на каменном полу и на деревянных скамьях, в шапках с пятиконечными звездами. Кто из них вернется к жизни? Два санитара тащат носилки.
— Наталочка, радость моя, женушка, ты со мной наконец! — Какой-то незнакомый, обросший бородой человек без возраста — болезнь стерла приметы — хватает меня за руку.
Странное совпадение: я не ослышалась, он назвал мое имя, но я его не знаю. Я не отнимаю руки. Глажу обросшие, горячие щеки. Он засыпает. Медленно высвобождаю руку и зову санитара. Мы вливаем в сопротивляющийся рот лекарство и накрываем больного шинелью. Иду дальше, к двери. Желание помочь всем этим людям, боль за всех так велики, что решаю остаться до прихода санлетучки и помогать выбившимся из сил санитарам. И вот в эту-то минуту у окна на скамье узнаю седую бороду деда. Мои предчувствия оправдались. Тормошу его, обнимаю, расспрашиваю. Широко открытыми глазами дед смотрит на меня без удивления и вопроса.
Мы переносим его в подошедший наконец поезд. Температура — сорок. На груди и животе мелкая сыпь. Он не бредит, и трудно определить, насколько затуманено его сознание.
Старший врач, сумрачно покусывая губы, выслушивает старческое сердце. Он говорит, отвернувшись, что старики и дети иногда легче переносят тифозную инфекцию, чем сильные, но нервно истощенные молодые люди. Врачу жалко меня. Утешения, однако, напрасны. Я знаю, дед не выживет.
— Дедушка, узнаете ли вы меня? — спрашиваю я, наклонясь вплотную к больному.
Иногда он отвечает, опуская веки, иногда чуть двигает губами, но большей частью остается безучастным. И все же какие-то мысли и чувства живут в нем. Его жестикуляция стала отчетливей.
В день кризиса он звал умерших родителей, сестер, жену. Я присутствовала при этой встрече мертвых.
Худое, воспаленное лицо деда менялось с жуткой быстротой, и я увидела его в разные периоды жизни. Одна за другой спадали маски. В старческих чертах я открывала облик мальчика, юноши, зрелого мужчины.
Болезнь развивалась. Им овладело буйство. Он метался, кричал, вставал и падал. Это была стихия, неукротимая и грозная. И все же то была агония.
Он боролся со смертью всю ночь. Наконец затих, сдался. Медленно, все реже и реже поднималась костлявая, по-отрочески узкая грудь. Руки едва касались одеяла, за которое еще недавно хватались с такой жадной силой.
* * *
Похоронив деда, я поехала назад в дивизию. Нашла своих близ Мелитополя. Дивизионный штаб не выгружался из вагона, все время был на колесах. Ольга принесла в вагон букетик влажных, ярких подснежников и торжествующе затараторила:
— Цветы! Вот новый залог наших окончательных побед. Зима кончается, и лето идет нам на помощь. Здорово? Подснежники и те на службе у советской власти. Каково? Даже цветы за нас!
Мы обнялись. Ольга потащила меня осматривать свои избы-лазареты, бани и прачечные.
— Большое хозяйство, и неплохо ведется, — сказала я.
Мы обсуждали будущее. К лету или к осени поедем в Крым. Я никогда не видела ни моря, ни гор, ни цветущей мимозы, ни виноградников. Мы предвкушали прелесть оливковых рощ и беспокоились, не разрушат ли белогвардейцы крымские дворцы.
— Крым будет всероссийской здравницей, дворцы — санаториями, — мечтала Ольга. — А я буду директором.
Мы смеялись. Все казалось таким осуществимым.
— Одним героизмом советскую власть не построишь, нужны знания, — важно утверждала я. — Обязательно двину учиться в Москву, и не одна: со своим другом, с Павлом. — Я смутилась от своего неожиданного признания.
Ольга резко обернулась.
— Какой это — Павел? Комиссар бригады?
— А ты его знаешь?
— А ты его любишь?
Я насторожилась. Эти вопросы мгновенно разбередили во мне чисто женское беспокойство, вызвали подозрение. Какое ей дело, или она тоже?..
— Люблю. Ну и что с того? — промолвила я надменно.
— Видишь ли... — Ольга опустила глаза. — Видишь ли... Не люби ты его, пожалуйста. Он тебе не нужен. Найдутся другие. Ты такая молоденькая...
— Уж не тебе ли он нужен?
Щеки мои то холодели, то разгорались. Стало жарко. Я сорвала шапку. Ольга вдруг показалась мне злой, лживой, невыносимой. Повернулась, чтоб бежать.
— Стой ты... Я твоего Павла даже не знаю. Слышишь? Никогда и не видела. Ах, дикарка, дурочка этакая, ну, постой же, я тебе все скажу.
И вдруг лужи, крыши домов, тополя переместились, закружились в глазах. Я расслышала два слова, словно два коротких выстрела:
— Он убит.
У меня подкосились колени, и я упала. Очнулась оттого, что Ольга мокрой рукой проводила по моим щекам и лбу. Медленно я встала на ноги. Болел затылок — я ударилась, падая, но не плакала, не было слов для жалоб.
— И давно ты его полюбила? — спросила Ольга.
Трудно было на это ответить. Я так мало знала Павла. Может быть, он и не подходил мне, как и я ему. Как знать? И нужно ли оплакивать то, что смерть сделала неосуществимым? Павел был героем. Ему не было двадцати пяти лет, когда его убили. У него было смелое лицо, проницательные глаза, он умел ладить с людьми...
— Большевикам не пристало так относиться к смерти, и к какой еще смерти! Героической, революционной. Берись за дело. Клуб твой с виду хорош, однако Василий Иванович ведет подчас весьма странные беседы с красноармейцами. Он утверждает, например, что Энгельс — имя Маркса.
Так пыталась меня развлечь Ольга. Без возражений я поплелась к клубу и на его пороге впервые расплакалась. Василия Ивановича не было — он ушел за пайком. Несколько номеров «Красноармейца» лежали на скамье, и я увидела черную кайму некролога.
«Героическая смерть, пал, ведя за собой...»
Эти слова, относящиеся к Павлу, вызвали у меня новый поток слез. Я плакала громко, не стыдясь, ни от кого не пряча своего горя.
— Не отложить ли лекцию нынче? — спросил вошедший Василий Иванович.
Я, не задумываясь, возразила:
— Нет, зачем же отменять: я успокоюсь, это пройдет.
В ответе этом не было рисовки. Мне некуда было идти отсюда. Мой дом был здесь, вокруг были друзья. Я расскажу им о нашем общем горе, может, даже не удержусь и заплачу, но они поймут и не осудят.
Мы потеряли друга и вместе помянем его.
ОЛЬГА
Мы крепко подружились с Ольгой. Теперь каждая из нас знала все о другой. Все, что можно было высказать словами. Мы привыкли отчитываться друг перед другом и требовали беспощадности и прямоты. Это было нелегко. Себе самой многое прощаешь; всегда отыщутся какие-либо смягчающие вину обстоятельства. Не то, когда тебя судит другой.
Если Ольга хвалила меня, я чувствовала себя уверенней, но неохотно слушала ее упреки. Случалось, они вызывали во мне не только раздражение, но и ярость. Я пыталась спорить, возражать, но позднее про себя задумывалась, проверяла и постепенно научилась признавать свою неправоту либо, найдя доводы в свою защиту, вынуждала к этому Ольгу. Так вырабатывали мы самоконтроль и преодолевали ложное самолюбие.
Ежедневно мы составляли распорядок дня и старались не отступать от него. Рано утром, преодолевая лень, бежали в сени и обтирались снегом, потом та, которой выпадал черед, кипятила воду, готовила еду, а другая стелила постель, убирала комнату и читала вслух газету или книгу. Потом мы уходили на работу до поздней ночи.
Иногда в свободные часы мы пели. У Ольги был чудесный голос. Хотелось зажмурить глаза и отдаться мягким, согревающим его звукам. Ольга пела, я тихонько ей вторила. Сумерки прокрадывались и поглощали окружающие предметы, а мы пели то громче, то тише. Устав, принимались вспоминать происшествия минувшего дня, поверяли друг другу все, о чем думали, все, что слышали. И обязательно загадывали о будущем.
— У меня планов миллионы, — говорила Ольга.
— Вернешься на завод?
— Может, и вернусь. Ведь теперь завод будет другим. Нарядным, светлым, как оранжерея. Вот говорю, а представить себе не могу...
Иногда мы говорили о своей женской судьбе. Задумывались о том, почему не было среди женщин гениев.
— Даже повар кухарку за пояс заткнет, все у него лучше получается, — сердилась Ольга.
— Даже женскими модами в Париже заправляют мужчины, — вторила я.
Раз Ольга сказала:
— Я поняла, почему мы бываем хорошими исполнителями и плохими творцами. Потому что создаем самое важное на свете — людей. Все гении выношены и рождены нами. Наша честь — материнство. Неплохая честь, великая заслуга перед миром.
Но меня одно материнство не удовлетворяло, и я признавалась Ольге в своем стремлении добиться совершенства хоть в каком-нибудь деле. Она улыбалась покровительственно.
— Валяй, авось выйдет. Головастик ты, Наталка, чучело головное.
Однажды мы услышали стрельбу и громыханье артиллерийских повозок. Это отряд Махно ворвался в деревню. Спокойно и быстро Ольга зарядила револьвер, потом выгребла из ящика запасные патроны. Я делала то же, но не могла побороть смятения. Звон, грохот, отрывистые выкрики команды, трескотня пулеметов и ружей да красное, дымчатое от пожаров небо спутали мои мысли и чувства. Я растерялась.
Мы осторожно выскользнули из избы. Тачанки бандитов неслись навстречу нам по широкой улице. Ольга властно повалила меня на землю. Нас загораживали от вражеских глаз густые, голые кусты низких акаций... Махновцы подъехали ближе. Ольга прицелилась. Щелкнул затвор. Запряженная в одну из тачанок лошадь поскользнулась и тяжело упала. С тачанки соскочили люди. Я тщетно пыталась спустить предохранитель браунинга.
— Смелее, девочка, — приказала Ольга.
Мы ползли по снегу вдоль изб. Навстречу из-за церкви вырвался отряд нашей конницы. Махновцы повернули оглобли.
Ольга стала целиться в их спины. Внезапно она тихо охнула.
— Рука... Ах... дьяволы! — выговорила она и как-то прямо, не сгибаясь, растянулась на земле без сознания.
Я приподняла ее, — откуда только силы взялись, — и потащила в сторону. В пустом сарае распахнула тулуп и разорвала гимнастерку. Грудь и плечо Ольги были в крови.
— Очнись, Оля, — шептала я, чуть не плача. — Очнись же, — просила я, прикладывая к ране тряпье, которое срывала с себя.
Внезапно Ольга пришла в себя. Ни стоном, ни жалобой не выдавая своих страданий, она помогла мне получше перевязать рану.
— Поклянись, — сказала она, — что убьешь себя и меня, если бандиты найдут нас.
Я взяла револьвер в руки.
— Клянусь!
Уложив Ольгу, я вышла из сарая и стала на страже. Ветер играл в небе пламенем горящих изб.
Махновцы бежали. Я привела на помощь Ольге друзей. Рана ее оказалась не тяжелой, и скоро она вернулась к работе.
* * *
Снег исчезал с полей. Эпидемия тифа утихла. Известия о победах шли с севера, востока, запада, юга. Враги отступали, раздвигались границы земель под советскими знаменами. Сбылась моя мечта. Армия шла только вперед, и Москва оставалась далеко, далеко позади.
Я знала, что крестьянка в деревне под Орлом, с которой когда-то свела нас судьба, спокойно кормит теперь своего ребенка, что на полях опять работают мужики, а землю теперь взрыхляют не снаряды, а плуги. Еще голодно, тяжело, но худшее все-таки позади.
И однако, несмотря ни на что, часто хочется плакать.
— Развинтилась, — печалится Ольга. Она говорит о том, что мы молоды, что жизнь лишь начинается и будет прекрасной. Я не спорю, все это верно, но мне почему-то грустно. Смерть прошла слишком близко, слишком рядом, смерть коснулась меня. Не ранила, но оглушила.
Я страстно ищу все, что осталось, все, что может напомнить о Павле. Если встречаю похожего на него человека — иду за ним, если слышу похожий голос — оборачиваюсь, мгновенно теряя покой.
Перебираю вещи в деревянном сундучке Павла, присланном из бригады. Пара холщового нижнего белья, расческа без трех зубьев, кисет из зеленого атласа с незнакомыми инициалами. Не женскими ли? «Анти-Дюринг», пожелтевший помер «Правды» с речью Ленина, записная книжка, карта, бинокль, портрет мужчины в косоворотке, глаза которого так похожи на глаза Павла. Еще какая-то женщина с двумя детьми на коленях и временный партбилет, выданный в армии взамен искалеченного в бою. Осторожно я разглядываю розовую книжечку, которую, как я знала, нашли у мертвого.
Я разыскивала с тупым упорством всех, кто мог опять и опять рассказать мне об этой страшной ночи. Я уже знала все, и все же мне было мало.
Вечером, накануне боя, Павел выступал перед красноармейцами.
— Помните, товарищи, — говорил он, — не только с русской, но и с международной буржуазией мы вступили в последний, решающий бой. Мы победим, мы не можем не победить!
Потом он писал письмо, но оно погибло.
Чуть рассвело, началась атака. Павел шел впереди бойцов. Он был окружен и долго отбивался; кровь лилась из его рассеченного лица и рук. К нему пробились слишком поздно — он лежал мертвый рядом с трупами врагов.
Носилки с телом комиссара принесли в отвоеванное же ночью село, и вокруг его могилы не прекращались бои.
Я не довольствовалась рассказами и не могла уверить себя в том, что Павел убит. Мне казалось, что я успокоюсь только тогда, когда сама увижу место гибели Павла, его могилу. Наконец я добилась разрешения и выехала на фронт.
ПО ДОРОГАМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Какой могущественной казалась я себе, прикрепляя к поясу браунинг и перечитывая полученный мандат. Мне разрешалось носить холодное и огнестрельное оружие, предоставлялось право пользоваться телефоном, телеграфом и всеми средствами связи, всеми средствами передвижения — пассажирскими и воинскими поездами, штабными, служебными, делегатскими вагонами, обывательскими подводами — за счет Реввоенсовета армии. Всем, всем предлагалось оказывать мне содействие.
Я гордилась собой.
Мандаты гражданской войны! Потемневшие, обветшалые, стершиеся в карманах гимнастерок и револьверных кобурах, испещренные помарками — «взят на довольствие», «суточные оплачены», «прибыл», «отбыл», они неповторимы, как лихие тачанки, отбитые у Махно, как знамена, сшитые из атласных балдахинов разрушенных будуаров, как вся наша молодость.
Я снялась с довольствия, получила у дивизионного каптенармуса на дорогу хлеб и крутые яйца, анисовые капли и смену белья у Ольги и, уложивши все в мешок, пошла на станцию, расположенную в трех верстах от села, чтобы ждать там попутного поезда. Никто не мог мне сказать, когда он прибудет.
На платформе перед полуразрушенной станцией пожилой человек в грязной форме железнодорожного служащего на треноге варил картошку. Запах ее показался мне до крайности соблазнительным. Я подошла поближе, но встретила взгляд, полный ненависти. На мое предложение обменять картофелину на яйцо железнодорожник отвечал отказом.
— Вот до чего довели, — сказал он и очертил в воздухе полукруг.
Подле рельсов лежал на боку паровоз, и пониже под откосом валялись разбитые вагоны. В соседнем небольшом депо было пусто. Сажа траурными лентами обвила настежь распахнутые, бесполезные двери. Могильной насыпью лежала груда угля. И такая тишина была вокруг, что казалось, никогда не придут сюда поезда.
— Вот чего понаделали. Все разрушили. Как дохлая скотина, валяются паровозы. Да ведь скот что? Сегодня падеж, завтра народится. А вот паровоз сделай-ка. Не очень выйдет без фабриканта. Не сумеете! Не получится! — Он злобно ухмыльнулся. — Вот Бельгийское общество, оно все может, оно всякие чудеса выделывает. Видели международного общества вагон? Вот оно, чудо! Плюши разные, лампочки, умывальники всевозможные. Вам такого никогда не сработать. Так и будете век в теплушках странствовать, да нет, и того не будет. На быках или на ослах потащитесь к своему коммунизму. Секрет надо знать. Это вам не лошадей плодить. Тут мужицкого знанья мало будет!
Трудно было спорить с этим человеком, но я попыталась. Не знаю, что именно понял железнодорожник из моих слов, но только вдруг он угостил меня картошкой. А к вечеру мы пошли осматривать потерпевший крушение паровоз. Земля уже начала свою неустанную работу могильщика. Ветер помогал ей возводить погребальный курган. Несколько лютиков расцвело вокруг поверженного железного гиганта.
Мой случайный собеседник стал рассматривать паровоз, как внимательный врач, стараясь поставить диагноз и найти признаки возможного излечения. Он был некогда машинистом и, видимо, хорошо знал свое дело.
Во время нашего разговора издалека, из-за леса, раздался пронзительный свист. Приближался поезд. И солидный, уверенный шум, сопровождавший его движение, оживил поля. Исчезло мгновенно ощущение оторванности, заброшенности. Мир был снова доступен и близок, как на глобусе. Рельсы не бежали, как мне раньше казалось, в пустоту, а лежали, опять прочно опоясывая землю. И казалось, нет им конца.
Поезд остановился у водокачки.
Последний освещенный салон-вагон по контрасту с сырой темнотой станции показался мне дворцом на колесах. Часовой спрыгнул с подножки. Я протянула ему мандат.
— Не могу, — сказал он. — Едет инспекция пехоты. Не полагается пускать. Секретно.
Я послушно хотела отойти к другим вагонам, но увидела в окне знакомый профиль начдива, читавшего мне когда-то стихи Игоря Северянина. Постучала в стекло. Он выскочил на площадку, и минутой позже я входила в салон. За столом, заваленным картами и планами, несколько человек пили чай с конфетами. Я увидела недоконченный пасьянс на откидной деревянной доске. Как не похоже все это было на избы и вагоны наших штабов.
Валерьян отвел меня в купе и оставил одну.
Я проснулась, когда поезд подъезжал к Мелитополю.
Выйдя на привокзальную площадь, уселась на подводу. Густая грязь летела из-под колес. Медленно проехали мы мимо кладбища, мимо покинутых заводских корпусов. Кое-где в поросших юной травой дворах валялись куски порыжевшего железа, дырявые бочки. Крюки механических кранов раскачивались, как петли виселиц. Словно смерч разогнал людей, опустошил эти когда-то многолюдные здания. Босоногие ребята играли «в салки» и восторженно визжали, точно ничего не случилось вокруг них. Мы подъехали к центру города.
Соскочив с подводы и расплатившись с возницей, я вошла в партийный комитет. Люди в коридорах, несмотря на занятость и тревогу, улыбались мне. Мой воинственный вид был здесь привычен. Я была дома, среди соратников. В одной из комнат заседал ревком. Я показала мандат, вошла и села у кафельной печи.
— Слащев причинил значительный урон нашей армии, нужны подкрепления, нужно быть начеку, — говорил один из сидевших в комнате. — Противник проник в наш тыл, он готов на любое коварство, чтобы заманить нас в ловушку.
Город жил в эти дни одной волей, одним стремлением к победе. Одно сердце билось в груди нескольких тысяч человек, готовящихся к защите. Одно знамя колыхалось над вооруженной толпой. И напряжение слов было неслыханно велико. Даже не злобу вызывало малодушие и страх обывателей, иногда осмеливавшихся высунуть носы из провинциальных подворотен, а только презрение.
«Потомки, — думалось мне, — будут завидовать нам. Мы видим, мы создаем то, чего никто никогда не видывал и не создавал».
Город готовился к схватке, когда я оставила Мелитополь. Долго, пешком, на тендере паровоза, на крестьянской телеге, на артиллерийской повозке, я догоняла бригаду Павла. Штаб стоял в деревне Ново-Алексеевке.
Комиссар бригады, увидев меня, обрадовался.
— Наконец-то вас прислали. Наша сестра ранена, а врач в тылу.
— Я не сестра, но раз это нужно, буду ею, — сказала я, сама дивясь своей решимости. Фронт приучил меня быстро учиться тому, что требуется в данный момент.
Санитары в запятнанных кровью халатах непрерывно доставляли в село раненых. В крайней избе, бывшей школе, меня встретила деятельного вида пожилая женщина.
— Санитарка, Фекла Ивановна, по прозвищу «Пулемет» — очень уж я быстра на слова, — представилась она с явной гордостью. — А вы — сестра? Оно и видно: худенькая, бледненькая. Я, знаете, здесь за всех одна. Нынче пинцетом осколок выковыряла. Что ж поделать! Не помирать же бойцам без помощи. Потом йодом полила, ничего, получше стало. Обошлось, заживет. Был у нас тут фельдшер, он меня всему обучил, а потом самому, бедняге, ногу оторвало. Ну, идем же, моя милая. На меня не обращайте внимания.
Я пошла за Феклой Ивановной, стараясь восстановить в памяти уроки ухода за ранеными. Припомнился ярко-розовый купеческий особняк с каменной Дианой в саду, где помещались комсомольский комитет и клуб. Давно это было или совсем недавно, если справиться по календарю? Меньше года.
Там, на курсах медсестер, комсомолки поочередно перевязывали друг друга. Мы дурачились, изображая раненых. Война представлялась нам веселой, забавной. Как и все, я рвалась тогда в бой. И все-таки, учась перевязкам, я не представляла своих товарищей ранеными. Случилось, что Диана, которую мы решили убрать как неподходящее для комсомольского сада украшение, падая с пьедестала, ударила меня, исцарапав до крови. Появился наконец долгожданный случай проверить на практике наши знания. Меня торжественно ввели в комнату бюро комсомола. Десятки рук предлагали свои услуги. Принесли бинты и сообща принялись за дело. Но никто не сумел ни остановить кровотечение, ни забинтовать мне щеку.
Все это мне припомнилось теперь, когда я подошла к красноармейцам, чтобы перевязать их раны. Они уже размотали тряпки, сорвали почерневшие бинты. Непривычное зрелище нагноившихся ран едва не лишило меня чувств.
К счастью, хлопотливая, наблюдательная и весьма опытная Фекла Ивановна тотчас заметила мою растерянность, определила уровень моих знаний и пришла на помощь. Хладнокровие скоро вернулось ко мне, и я принялась за дело.
Работая на медпункте, пока не приехали настоящая сестра и врач, я обучилась за это время кое-чему у Феклы Ивановны, которой удавалось все, за что бы она ни бралась. Она была подлинной маркитанткой, одинаково умелой и бесстрашной у пулемета, у операционного стола, в обозе. Она научила меня разбирать винтовку, варить борщ и петь украинские песни.
Муж Феклы Ивановны, красногвардеец, был убит во время Октябрьских боев, сын погиб под Орлом, в одном из полков нашей дивизии. Другой сын воевал против белых на Восточном фронте. Фекла Ивановна с гордостью рассказывала о своей семье, о том, что двадцать лет работала ткачихой.
— А закрыли фабрику, пошла служить курьершей в ревком. Вместе с ревкомом отступила из города, когда подошел Деникин. Поехала к сыну, но опоздала. Убили его.
Она отказалась покинуть армию, и, как я узнала потом, полковой командир ни разу не пожалел, что уступил ее просьбам. Пулеметчика, врача, повара сменяла, когда надо было, Фекла Ивановна, всегда одинаково бесстрашная, веселая, ловкая.
Любила она помечтать о будущем, о невиданной никогда Москве, о Кремле, где жил и работал Ленин. О Ленине она могла говорить без конца, и когда однажды я посмела заявить, что он среднего роста, Фекла Ивановна пришла в ярость.
За эти два напряженнейших дня мы сдружились с Феклой Ивановной на всю жизнь.
И все это время я настойчиво стремилась пробраться с любым поручением туда, где была могила Павла.
Комбриг, которого я видела мельком, не хотел брать меня в самое «пекло», — так называл он в эти дни соседнее с Ново-Алексеевкой село, переходившее из рук в руки. Я настаивала.
— Поедем на рассвете, — сказал он как-то вечером, остановив лошадь у походного госпиталя.
Было еще темно, когда мы выехали. Пара добрых крестьянских коней легко тащила по бездорожью большой рыжий фаэтон. В каждой бригаде имелась такая колымага, но наверняка ни у кого в нашей армии не было фаэтона более скрипучего, полинялого, вместительного и неуклюжего, чем тот, в котором комбриг отправился со мной в Н-ский полк. Огромный мятый верх фаэтона, откинутый за ненадобностью (дождя не предвиделось), был пробит пулями, а на зеленой вытершейся обивке я заметила темный и густой, как ржавчина, след крови. Видимо, фаэтон побывал в боях.
Мы беспрепятственно въехали в деревню. Патрули донесли, что все спокойно, с вечера противник отступил.
«Павла убили за холмом, там, где развалины разрушенной снарядами церкви», — вспоминала я рассказы очевидцев. Вот и гора, и угрюмое пепелище. Дальше на все стороны степь и бескрайнее небо. И лес на горизонте лежит черной полоской.
Вихрастая девчонка сопровождает меня. Похороны комиссара она хорошо запомнила.
Вот и могила. Насыпь и деревянная сломанная дощечка. Пустые гильзы от пуль валяются в песке. Едва различаю буквы, те, что остались от надписи: «Комиссар... Пал геро... коммунизм. Мы... продолжим... дорогой...»
Ни одного деревца поблизости. Ничем не украшенное, одинокое кладбище, вдали покинутая старая мельница с обломанными крыльями.
Сажусь у дощечки, готовая дать волю слезам, но не ощущаю уже ничего, кроме усталости, сухого жара, желания уснуть. Думала, по-иному все будет. Но этот серый песок, эта ширь неба и равнины отвлекают меня от грустных мыслей. Павла больше нет. Теперь я это чувствую ясно. Только для себя самой мне хочется украсить его могилу, хочется, чтобы не была она так заброшена и печальна.
Я прошу девчонку помочь мне, и мы бежим к разрушенной церкви. Там мы выкапываем еще не зацветший куст сирени и в поломанном ведре тащим для него землю. Красноармейцы смотрят на нас недоумевающе. Мы долго возимся, сажая и поливая деревце. Когда делать больше нечего, я понимаю, что пора возвращаться.
И вихрастая босоногая девчонка, как и я, измазанная землей, говорит просто:
— Який бидненький, тильки житя почалось, житы б та житы.
На пути к Ново-Алексеевке, где стоял штаб бригады, мы услышали первый выстрел из невидимого орудия. Комбриг, привезший меня, сидит на облучке. Возле меня примостился политрук. Неподалеку разрывается снаряд. Противник нас заметил. Мы — отличная мишень в открытом поле. Стрельба усилилась. Комбриг успокаивает меня, шутит, заверяет, что его, а значит и нас, снаряд не берет: снаряды, мол, боятся большевиков. Лошади скачут галопом. Наш фаэтон скрежещет всем своим железным костяком.
— Пуще всего на свете боюсь бабьего визга, — внезапно проговаривается комбриг.
Снаряд разорвался впереди. Кучер подгоняет лошадей. Они тревожно ржут и то кидаются вперед, то встают на дыбы. Политрук приподнимается и подносит бинокль к глазам. С особой, свойственной женщинам наблюдательностью я замечаю заплатку на его гимнастерке, кавказский пояс в серебряных с черным бляшках, чьи-то инициалы на тыльной части его руки. И в ту же секунду что-то больно царапает мне щеку и какие-то брызги на мгновение ослепляют меня. Инстинктивно защищая голову, я оглядываюсь в поисках спасения. Рядом со мной на сиденье полулежит обезглавленное туловище политрука. Вижу его шею, по которой будто прошел нож гильотины. Кровь пенится и стекает по гимнастерке.
Я закричала и потеряла сознание.
Открыла глаза в избе. Фекла Ивановна хлопотала возле меня.
— Не думал, что тебя этак скрутит. Долго мы с тобой бьемся, хотя не всякий бы выдержал, — сказал комбриг, наклоняясь надо мной. — Редчайший случай. Снаряд, не разорвавшись, снес голову нашему политруку, сорвал верх с фаэтона и зарылся в землю. Разорвись он, мы все были бы убиты на месте.
Я осторожно двинула ногой, потом оперлась на локоть и села.
— Чем кончилось? Отступили? — Мне показалось внезапно, что прошло много дней и случилась какая-то беда.
Но комбриг обернулся с порога.
— Наоборот, дела хороши: одних взяли в плен, других оттеснили к морю. Путь до Перекопа свободен, а там и до Крыма рукой подать. Поправляйся, я еду в полк, думаю, не увидимся больше, тебе пора назад, в тыл.
— Как не увидимся?
Я вскочила и, пошатываясь, пошла за комбригом.
— Я хотел сказать — увидимся скоро, но в Н. — Он назвал город, где стоял штаб армии. — Ты смотри, не бунтуй, тебе приказано ехать немедленно. Понятно?
С необычайной для меня покорностью я согласилась. Мне было стыдно за свою слабость, за обморок и болезнь. Изгнание было заслуженной расплатой.
Фекла Ивановна, огорченная предстоящей разлукой, собрала меня в обратный путь. Крепко обнялись мы с ней на прощание.
* * *
Назад до Мелитополя я ехала на крыше вагона. Одолевает приятное ухарство, когда сидишь вот так, болтая ногами и рискуя свалиться вниз.
Снова, как редко в жизни бывает, понимаю до конца, какое это счастье — жить. Даже страшно от этой огромной, внезапно нахлынувшей радости, уверенности, что молода, сильна, что все открыто, доступно.
Под вечер, пробившись в теплушку, я снова встретила людей, о существовании которых по временам забывала. Мы называли их обывателями. Они смотрели на то, как сменялась власть, сквозь садовую жимолость и фикусы на подоконниках и завидовали тихо продремавшим свою жизнь, скончавшимся под мурлыканье кошек предкам.
Девушка в кофте с облезлым котиковым воротником, с лицом нежным и приятно расплывчатым сообщила мне, что умеет играть на рояле. Она ехала в Харьков, не зная точно, куда идти учиться — в консерваторию или в балетную школу. Поначалу она удивила меня отрешенностью от того, что волновало всех нас. Но потом сострадание к ней охватило меня, будто я увидела парализованного ребенка или калеку. Мне показалось, что теперь есть только одна цель, одна радость — борьба за победу революции. Музыка — это прекрасно. Но сегодня?! Она этого не понимала. Она была слепа. Как исцелить ее, как вернуть ей зрение?
Девушка пожаловалась на то, что в Мелитополе мало хлеба. Восхваляла музыкальные инструменты фабрики Шредер и брокаровские духи. Правда, она слыхала, что меньшевиков зовут соглашателями, но несколько раз называла коммунистов фанатиками.
— Как вы думаете, есть в Харькове балетные туфли и можно ли выменять их на муку? — спрашивала она и отвечала поспешно сама: — Я слышала — есть.
Еще ехал с нами юноша, которого звали Игорь. Он читал нам какие-то неизвестные мне стихи и восторгался ими.
Девушка повторяла, прикрыв глаза, слова, показавшиеся мне глупыми: «Усатый персик!»
Мне нечего было сказать. Огрубевшая, никогда не слыхавшая о поэте, написавшем эти стихи, я чувствовала себя в чем-то более правой, чем мои спутники. Неловкость все возрастала. Я была среди чужих. Когда я попыталась рассказать им о величии нашей эпохи, они засмеялись.
На нарах сидел еще один молодой человек с старомодными бакенбардами, носивший, однако, гимнастерку, сапоги и шапку со звездой, как я. Из пестрой компании, в которой были злобные пожилые дамы и пузатые, нарочито фамильярничающие со мной мужчины, он единственный говорил и держал себя запросто. Я подсела к нему. Он оказался музыкантом.
Небо, поля, ночь врывались в открытую дверь теплушки.
Молодой человек достал свою флейту и принялся наигрывать арии из «Князя Игоря», полные истомы, лукавства и степной шири. Все приумолкли: и жеманный юноша, и злобные дамы, которым осталось в жизни только прошлое. Мне вспомнился дедушка и его рассказы о нашествии половцев и былинной удали. В полночь, в молчании, охваченные думами, мы улеглись на нарах.
* * *
В первые дни мая меня вызвал к себе начальник в Политотдел армии. Он был недавно назначен, но уже известен своей энергией. Я слышала его речь в годовщину падения самодержавия. Был он неказист собой, но силен умом и волей. Его ораторская манера очень мне нравилась. Он избегал жестикуляции и говорил убедительно и просто.
Я вошла в кабинет, оробев от добрых чувств и уважения, которое он мне внушил с трибуны.
Разговор наш был коротким. Начпоарм дружески предложил мне ехать в Москву учиться.
— К нам прибыло подкрепление: десятка два политработников. Они, правда, еще не обстреляны, но ребята сознательные и смелые. Все больше пролетарии — кто из Петрограда, кто из Москвы... А вам надо отдохнуть, да и поучиться. Пора: с таких, как вы, молодых, партия много спросит. Нужно расти, набираться знаний, учиться и еще раз учиться. В Москве вас направят в школу по выбору.
Я не ждала такого предложения и насупилась, не находя ответа. Но он угадал мои мысли, принялся уговаривать, хвалить за сделанное в армии, подбадривать. И это получилось у него так искренне и добродушно, что я успокоилась и, попросив месяц отсрочки, приняла его предложение.
Москва опять приблизилась ко мне. Предстояло брать еще один перевал.
* * *
В тихом, сытом Александровске внезапно заболел Семен Канцелярчик. По прихоти квартирьеров он и Линев жили в рябом от пуль особняке на краю города. На рассвете кровь, хлынувшая из горла Семена, залила недописанную инструкцию. Канцелярчик скатился с рояля, на котором лежа писал. Басовые струны протяжно всхлипнули и смолкли. Линев уложил больного на кровать под кружевным балдахином и тщательно укутал его. В разбитое окно проникал ветер. Линев прикрыл Семена шинелью, дырявым одеялом, персидским ковром, поднятым с пола, и палевым японским панно, содранным со стены.
— Умереть от чахотки, на фронте, в армии... — тоскливо прошептал Канцелярчик. Он высвободил из-под тряпья узкую руку и погрозил кому-то с трагическим отчаянием. — Умереть бесцельно, нелепо... Умереть, не увидев мировой революции...
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В АРМИИ
С грустью я начала замечать, что все реже вспоминаю Павла. Его образ отходил от меня все дальше, терялся в глубинах памяти, как отражение в стекле. Все более идеальный в своей отдаленности, он становился все более чужим. Труднее стало воскрешать мелочи и подробности наших встреч и разговоров. А главное — не хотелось делать это. Я постепенно забывала черты его лица, звук голоса. Это было печально, но непоправимо.
Вернулась потребность жить, действовать, веселиться.
Дольше обыкновенного я теперь заплетала косу, до блеска чистила сапоги. С трудом раздобыла глицерин, чтобы смягчить кожу рук. Выменяла двухнедельный паек на кусок сатина и сшила из него платье. День, когда я надела его, прикрепив у ворота белый бантик, был полон острого беспокойства.
Начала понемногу готовиться к отъезду в тыл. Приехавшие из Москвы политработники рассказывали о последнем выступлении Ленина, о том, чем жила теперь столица. Я слушала волнуясь. Казалось, я от всего отстала, мало прочла, мало думала.
Как-то под вечер Валерьян Зубов позвал меня кататься на лодке. Акации уже цвели и осыпали город своими пушистыми гроздьями. Белели в садах яблони.
У реки, взяв лодку, мы принялись по очереди грести. Течение относило лодку назад, и весло натерло мне ладонь. Валерьян пел песни о Ермаке, декламировал стихи и признался, что сам когда-то хотел быть поэтом.
Доплыв до леса, мы вылезли на песок. Валерьян расстелил шинель. Звезды одна за другой загорались в небе, и мы смотрели вверх, отыскивая созвездия и планеты. Потом Валерьян шутливо предложил мне вернуться на землю.
— Нам надо поговорить, моя прелесть, — сказал он.
Меня больно резануло это обращение, но я промолчала.
— Я тебя люблю, это факт, — продолжал он.
Мне и это не понравилось. Стало вдруг как-то тяжело, неловко. Но я прислушивалась. Было интересно — что скажет он дальше? Его слова как-то обволакивали меня, дурманили. Никто не говорил со мной так.
— Люблю я тебя всю, словом, по-серьезному люблю.
— А как же можно еще любить? — удивилась я.
Валерьян зажег самодельную папиросу. Я заметила, что он улыбался.
— Как же любят? — приставала я. — Ах, я догадалась. Вы имеете в виду загс и то, что можно обойтись без него.
— Я на все согласен, будет, как ты решила. — Голос Валерьяна показался мне чужим, незнакомым.
— Мне всего этого не требуется, — отрезала я.
Разговор становился для меня все более трудным, и продолжала я его уже зло.
— Прежде чем говорить о себе, надо бы обо мне порасспросить, нужны ли мне ваши признания.
— Да пойми же ты меня и перестань, пожалуйста, выкать, — рассердился Валерьян. Он больше не улыбался и жадно курил. — Пойми, — продолжал он, — что я не лгу. К чему тут притворяться. Мне казалось, что ты стала ко мне относиться по-иному, оттого я и полез со своими чувствами. Но если велишь, я могу тотчас же свернуться.
— Нет, продолжай.
— Спасибо. Я тебя давно люблю и не первый раз говорю об этом. Хотел бы серьезно связать наши жизни. Решай. Жаль, что нельзя перед каким-то алтарем, по какому-нибудь, ну хоть папуасскому условному обряду обвенчаться. Хочу вместе жить, работать, умереть вместе. Поняла? Вот как ты меня приворожила. Сам не пойму, как ты это сумела. Все лучшее во мне подняла. Но боюсь, развалится все наше благополучие при твоем «ндраве». А может, «ндравом» и взяла...
Я молчала.
— Ты скоро уедешь, и уедешь надолго, — снова начал Валерьян.
— Я буду ждать тебя в Москве, — с трудом проговорила я.
— Но где гарантия, что ты не позабудешь меня? Дай мне, по крайней мере, слово, поклянись.
— Слово можно уничтожить другим словом, — сказала я, рассмеявшись, и поднялась на ноги.
Он попытался обнять меня, но я испуганно оттолкнула его.
Он остался сидеть, опустив голову. И внезапно мне стало жалко его. Наклонившись, я погладила его волосы, лоб. И вдруг полушутя, полусерьезно он предложил мне составить и подписать договор о любви и верности.
Предложение это показалось мне таким необычным и привлекательным, что я согласилась.
И вот при свете зажигалки на листе, вырванном из блокнота, тупым карандашом Валерьян написал: «Клянемся любить и быть верными друг другу, где бы мы ни находились. Клянемся быть вместе, когда позволят обстоятельства, когда это не будет помехой партийному долгу и революции, никогда не скрывать свои подлинные чувства, не лгать, даже из жалости. Нас связывает любовь. Если она исчезнет у одного, это дает свободу обоим».
Мы подписались и очень холодно обнялись. В лодке Валерьян снова пел, и я ему вторила.
Вернувшись домой, я не могла уснуть всю ночь.
«Договор» лежал у меня под подушкой, и нет-нет я прикасалась к нему рукой.
Из отдельных случайных рассказов Валерьяна я узнала, что отец его, богатый чиновник, умер от запоя и детство прошло бесцветно, с угрюмой матерью и скупыми ворчливыми тетками. В университете он пробыл до начала мировой войны, а затем стал офицером. Он писал стихи, увлекался женщинами, кутежами — одна из теток, умирая, оставила ему наследство. Мечтал дослужиться до генерала.
В 1918 году скуки ради он побывал в Москве в клубе анархистов и увлекся их программой. Смеясь, он рассказывал мне, что, будучи анархистом, носил черный плащ, зачитывался Бакуниным, мечтал об анархии. Но, прискучив и этим, ушел добровольцем на фронт. В Красной Армии, где пригодились его знания военного специалиста, он порвал с анархистами. Их бунт чуть не стоил жизни отряду, которым он командовал. Знающий командир и добрый товарищ, Валерьян Зубов полюбился красноармейцам и вскоре, оценив пользу, которую он приносил, партия приняла его в свои ряды.
Дни пролетали быстро. Больше нам с Валерьяном не пришлось погулять за городом, не пришлось даже поговорить.
В день моего отъезда я с грустью передала клуб девушке, приехавшей из Москвы.
Провожали меня Ольга и Василий Иванович.
В вагоне четвертого класса было много народу. Ехали кто в командировку, кто в отпуск, кто переводился в тыл, подобно мне.
Я вышла на площадку и, по обыкновению, примостилась на подножке. Мимо проносились знакомые места. Не так давно здесь проходила наша армия. Вот и станция, где я отыскала дедушку. В этой деревне, прячущейся за белой меловой горой, мы справляли Первое мая. Все дороги здесь исхожены и изъезжены нами. Армия — родная моя семья! Суровая, незабываемая школа!
Будущее рисовалось мне неясным и трудным, а во всей прожитой жизни самым значительным был последний год, год военных странствий. Великая сила этого времени была в том, что все пережитое в пору моих скитаний всегда было не личным, не только моим, но всегда общим.
Леса, поля, речушки, холмы. Я видела их осенью, зимой и весной. Кто испытывал волнение, с каким мы следили за лентой полевого телеграфа, кто пел песни у военного костра, кто знает напряженное чувство горечи во время отступления и гордую радость победы — только тот до конца поймет мои мысли в эти часы расставания с армией.
На станциях мы брали из баков кипяток в свои котелки, заваривали безвкусный морковный чай, выменивали у крестьян молоко и делились им друг с другом.
На третьей полке под самым потолком, напротив меня, на ночь улегся молодой командир. В бою он потерял правую руку и теперь покидал фронт. Весь минувший день он стоял, пока не стемнело, у грязного вагонного окна. Судя по всему, он, как и я, тягостно ждал перемен. Мне захотелось развлечь его, утешить. Я сказала ему, что, по-моему, он уже выполнил свой долг, что он герой.
— Все мы так или иначе герои, — прервал он меня с нескрываемой досадой. — Не в геройстве дело. Люди нужны, верные люди!
Помолчав, он добавил:
— Потому-то я и надеюсь еще пригодиться.
Разговор оборвался. Вагон затих. Прежде чем уснуть, я свесилась с полки и осмотрелась вокруг.
Бойцы лежали в шинелях, подложив под головы шапки. Я их видела впервые и все-таки знала. Вспомнились мне бесстрашная Фекла Ивановна у пулемета, хлопотунья Ольга, спасающая больных, Василий Иванович, разбирающий ящик с брошюрами, начальник Политотдела на трибуне, Павел, ведущий в атаку полки, политрук с оторванной снарядом головой и сотни, тысячи других бойцов. Вокруг гремели пушки, пулеметы, рвались снаряды. Смерть пыталась устрашить всех этих людей, но не могла.
А поезд уходил все дальше на север. Армия оставалась позади.
МОСКВА 1920 ГОДА
Так вот она, Москва.
Города с суровой обстоятельностью рассказывают о своем прошлом и настоящем. Дома, улицы, закоулки, непроходимые тупички несут на себе меты всех веков, следы истории. Город — как беспристрастная летопись.
Я стояла у заколоченной досками витрины и смотрела вслед безногому калеке, пересекающему улицу на своих постукивающих культяпках. Он остановился посередине мостовой между рельсами и стал, казалось мне, выбирать путь, по которому направить свое жалкое туловище. Улицы разбегались в разные стороны и были мертвы и пусты, как площадь, безмолвие которой нарушил лишь этот калека с его культяпками. Тихо двигались стрелки часов на оливковом доме ВЧК, уныло выглядел фонтан без воды.
Безногий человек, поразмыслив, принялся опять, подскакивая и опираясь на руки, двигаться между рельсами. Ничто не препятствовало ему. Я вспомнила постоянные призывы Анны Павловны к осторожности. Она боялась уличного движения, как скарлатины. Но здесь было так привольно и тихо. Город казался зачарованным, уснувшим, как лесной замок в детской сказке о спящей красавице.
И время было сказочное — 1920 год.
На углу Моховой и Воздвиженки я разыскала Центральный Комитет Российской Коммунистической партии. Сердцебиение задержало меня у подъезда, даже камни здесь были мне дороги, даже камни были полны особого смысла. По этой лестнице поднимается, быть может, Ильич. Из этого дома следят за фронтами и армиями, за всей страной, более того — за всем миром. Сюда стекаются со всей земли человеческие мечты о свободе, о счастье. Великие дела творятся в этом обыкновенном, скромном на вид доме.
Женщина в расстегнутой у ворота косоворотке внимательно прочла мои армейские документы и сказала коротко:
— Завтра мы дадим вам направление на рабфак.
Недалеко от ЦК возвышались башни Кремля. Смутный перечень исторических дат и событий вставал передо мной. Под старой стеной я остановилась. Величие и простота революции уже отразились на спокойной широкой площади. Красный флаг языком пламени вздрагивал над Кремлем.
Долго ходила я по тихому городу. Приглянулись мне зеленые московские переулки, неприятно поразили смрадные трущобы вокруг рынков. Здесь жизнь, будто невод, опутывала, мешала двигаться, дышать. Люди с мешками и рухлядью подходили ко мне, назойливо предлагая продать или обменять свой товар.
Мальчишка с лишаем на лбу навязывал прохожим самогон и плюш на штаны. Из темных дверей церкви выходили дряхлые старушки и торопливо исчезали в переулках. Шумели, жили напряженно-трудно фабричные окраины. Кое-где попадались пустые и темные заводокие корпуса.
Только к вечеру решила я наконец разыскать Анну Павловну.
— Большевичка? — сразу же спросил меня Петр Петрович и добавил тотчас же с заискивающей улыбочкой: — Что же, я рад, не возражаю, все мы так или иначе взобрались на платформу советской власти.
Анна Павловна бережно вынимала из портфеля свой паек. Она гордилась тем, что служит. Я спросила о Кате.
— Катя пробралась за границу с иностранцем, спекулирующим бриллиантами, — сказала Анна Павловна, устало махнув рукой. — Ничего не вышло из девочки. Пустой оказался орешек, без ядрышка. Но зато — красотка. — И уже с гордостью подала мне фотографию холеной девушки с круглыми плечами и длинными локонами. Из-под меховой накидки выглядывало жемчужное колье, волосы придерживала диадема. — Одного боюсь — как бы не пошла по рукам, а впрочем,— она помолчала, — зачем девочке быть похожей на меня, пусть лучше унаследует от Пети его любвеобильное сердце. Великая любовь, верность, к чему это нам? Горе, одно только горе для женщины. Станешь рабой, вещью, нет, хуже того — мученицей... Желаю моей Катеньке яркой жизни и...
Анна Павловна не досказала, и я не спросила, чего еще желает она своей дочери.
От всех этих мыслей, от жалкого выражения глаз Анны Павловны и истерического ее голоса мне стало вдруг нестерпимо скучно.
Петр Петрович принес из кухни чугунок с кашей и поставил на стол. Развалившись в кресле, он принялся хвалиться передо мной своей должностью — юрисконсульта какого-то главка, уважением начальства, любовью сослуживцев.
— В этом нет ничего удивительного, — говорил он с деланным равнодушием. — Культурных людей мало осталось в России. Вот поневоле нас и обхаживают.
В противоположность Анне Павловне он не постарел и оставался даже по-своему элегантным.
— Москва, на нее нельзя роптать, — говорил он, — она, как и все города, доставшиеся революции в наследие от капитализма, индивидуалистична. На каждом перекрестке, на каждом доме лежит печать холодной отчужденности, эгоистического безразличия.
— Или вражды, — осмелилась я присовокупить.
Но Петр Петрович не любил, когда ему мешали ораторствовать, он укоризненно скосил на меня глаза, и снова полилась его гладкая уверенная речь.
— Если в недалеком прошлом тонкие духи, изящные манеры и утонченная ложь в лайковых перчатках и фраках прикрывали ржавые чувства и прокисшие мысли, то теперь обтрепанная и босая мелкобуржуазная Москва, сбитая с толку революцией, помешавшаяся на пайках, теперь Москва, на первый взгляд, являет даже гнусный вид. Прошу, пожалуйста, для подтверждения пойти на Сухаревку, — не правда ли, какая колоритная картина мелкобуржуазной растерянности и путаницы.
— Но вы забыли про рабочую, про революционную Москву! — перебила я его.
Петр Петрович презрительно повел плечами и демонстративно вернулся к тарелке с кашей, к вящей радости Анпы Павловны.
— Ах, ешьте скорее, каша остыла, я ведь с таким трудом добыла лук для приправы к пшену, — просила она.
Но Петр Петрович заразил меня своим приподнятым красноречием.
— На окраинах, в горнах кузниц, в цехах — вот где создается новая мысль, куется воля, вот где встают валы энергии, вот где истинное созидание! — провозгласила я.
— Недурно говоришь, — оставив кашу, заметил Петр Петрович. Он напряженно ловил и повторял мои слова. — В горнах кузниц, в цехах, так, так, звучно, ловко...
И вдруг я поняла основное в характере Петра Петровича — несамостоятельность мышления. Так вот почему он непрерывно менял убеждения, почему с такой легкостью приспосабливался к обстоятельствам. Иногда даже искренне, но разве в этом может быть оправдание.
— Недурно сказала, весьма удачно... значит, выходит, что новая мысль, воля и энергия пролетариата через трансмиссии вливаются в станки, тихое и упрямое жужжание которых громче, нежели пушки, твердит миру, что лучшие цветы земного шара соберем мы, граждане Советской страны, на пиру победы. Аккордами счастья мы заглушим печаль утрат, воспоминания о кровавых битвах... Так, так. Отлично получается.
— Ну, это уж слишком напыщенно, — не выдержала я.
Анна Павловна насупилась. Петр Петрович покраснел от обиды.
— Ужасно, — сказал он, вставая из-за стола, — что большевики не любят истинного красноречия. Греки, римляне, даже французы ценили красивые обороты. Такой оратор, как...
— Не упоминайте Мирабо, прошу вас! — попросила я, памятуя о прежних увлечениях моего собеседника.
— Мирабо? Продажный соглашатель, ренегат, монархист! — воскликнул Петр Петрович.
Во время нашей беседы Анна Павловна оставалась молчаливым слушателем. Сказать ей было все равно нечего. Мысли мужа давно не вызывали у нее возражений. Более того, они казались ей неоспоримыми, меткими, прекрасными. Слова Петра Петровича проникали в послушное, обожающее его сердце, оглушали, как откровение.
— Как хорошо ты сказал, Петя: «Аккордами счастья заглушим печаль утрат», — прошептала она.
В первую ночь после моего приезда, как и обычно, Анна Павловна не могла уснуть до возвращения мужа. Я рассказала ей, как умер дедушка. Анна Павловна поплакала не больше, чем полагалось. Все ее чувства давно сосредоточились на одном человеке. Сердечных резервов больше не оставалось.
Разговаривая со мной, она напряженно вслушивалась, не раздадутся ли шаги на лестнице. Сердцебиение, начавшееся у нее, когда послышался шум от возни с ключом, застрявшим в замке, возвестило ей о приходе мужа.
Петр Петрович вошел в комнату, громко насвистывая. Сначала он долго разбирал портфель, потом так же не торопясь ел. Потом с утомительной тщательностью принялся развешивать гимнастерку и брюки, вложил в сапоги колодки, и все это, не переставая говорить. Его ровная книжная речь действовала удручающе. Я готова была захныкать, а Петр Петрович, занятый только собой, все говорил, говорил...
Наконец он разделся и улегся на диване. Заснула и Анна Павловна.
Смущение и тоска овладели мной. Тихонько я соскочила с кровати и открыла мою корзинку. Потрогала мандаты, браунинг, кожаные брюки. Увы, здесь мандаты потеряли свою силу, браунинг был не нужен, а брюки... Придется ли их надевать еще когда-нибудь? На московских улицах девушки не ходят в кожаных брюках.
Долго я не могла побороть бессонницу, все прислушивалась, не раздастся ли выстрел, не проскачет ли за окнами верховой с пакетом.
А утром я ушла от Анны Павловны в рабфаковское общежитие. Предстояло сызнова включаться в какую-то новую жизнь. Минувшие годы были лишь подступами. Это я теперь поняла.
РАБФАК
На рабфаке на экзамене пожилой учитель в бархатной толстовке задал мне сложную арифметическую задачу. Я принялась переписывать и переставлять цифры, не находя решения.
Неудачи ждали меня и дальше. Я провалилась по всем предметам. Путалась в диктовке, позабыла правила грамматики.
Учитель в толстовке сокрушался и недоумевал.
— Не волнуйтесь, подумайте, — уговаривал он меня, точно я могла вспомнить то, чего вовсе не знала.
Это был странный день. Я провела его совершенно одна, бродя между университетскими зданиями. Вся моя жизнь, все прожитые годы лежали передо мной обозримые и простые. И не с кем было посоветоваться. Не было дедушки. Ольга находилась далеко.
А мысли были невеселые. До сих пор я думала, что все уже постигла, ко всему подготовлена. Прочтенные книги и случайные знания придавали моим речам и мыслям видимость глубины. Я сама обманулась, сама сочла себя не тем, чем была на самом деле.
Такой ли я клялась себе быть в тот день, когда получала партийный билет? Не уйти ли с рабфака, подальше от учителей — свидетелей моего невежества, моих глупых претензий, на которые я не имела права. Как быть? Бежать... или спрятать в карман былую самоуверенность, превратиться в добросовестную скромную ученицу, как сотни других девушек, отрывающихся ежедневно от станка для книг. Почему я вообразила себя лучшей, нежели они? Не потому ли, что их учили грамоте в церковноприходских школах и детьми гнали на фабрики, а меня посылали в прогрессивные гимназии за сто двадцать рублей в год. Они знали мало, мало знаю и я. Тем лучше! Мы вместе идем за партией, мы вместе одолеем науку...
Много мыслей пронеслось в моем мозгу в эти одинокие часы. Нелегко было преодолеть стыд перед тем, что скажет Валерьян, узнав о моей малограмотности.
Проверяя свои знания, я натыкалась на одни только незаполненные листки. Например, Маркс, Энгельс — как мало я о них знаю.
Митинговые речи и популярные лекции, с которыми я выступала в армии, были поверхностны, словно те брошюры, о которых Василий Иванович говорил: «Ветер какой-то ».
С безжалостностью разоблачала я себя.
Было уже поздно, а я еще сидела в рабфаковской столовой. Подавальщицы кончали убирать со столов и выжидательно посматривали в мою сторону.
— Будто пьяная, сидит и ни слова, — сказала одна из них громко.
Мне стало весело. Я и впрямь была пьяна от мыслей о прошлом и будущем.
Вышла из здания рабфака и пошла по чужой мне Москве. Поднялась по Тверской. Остановилась у окна РОСТА, где вывешивались последние «Известия».
Двадцать восьмого августа 1920 года под Варшавой шли упорные бои. Рабочие Петрограда отправлялись на фронт в помощь Красной Армии.
Мучительно захотелось прочь отсюда, снова на фронт... С трудом усмирив себя, пошла дальше.
У Театра революционной сатиры — «Теревсата» — толпился народ. Шла «Тройка». На афише Колчак, Юденич, Деникин тащили колымагу Антанты, которую сзади подталкивали вожди II Интернационала. Билетов в кассе не оказалось. Спектакль был продан одному из заводов. На углу Страстной площади на бульваре стояли деревянные футуристические грубо размалеванные красной и синей краской «скульптуры» в виде треугольников, шаров и кубов на квадратных постаментах. Дождь смыл с них краску. Так и не поняв замысла их создателей, я уселась на скамейку возле старушки в полинялой пелеринке. Нагнувшись ко мне, она сказала зловеще:
— Царство большевиков ненадолго, об их пришествии еще ведь в Апокалипсисе сказано. Скоро конец!
Из расположенного напротив Страстного монастыря вышли две монашки и дюжий поп в рясе с засаленным подолом. Перешептываясь и смеясь, монашки исчезли в переулке. Посидев, и я пошла, гонимая голодом, вниз к «Кафе поэтов», на углу Камергерского переулка, где можно было купить пирожное из моркови и даже стакан жиденького варенца.
Темнело. В низкой грязной комнате было многолюдно. Начинался вечер импровизации. Буфет сегодня не открывали, и надежды мои рухнули.
Присев на деревянный венский стул, голодная, оробевшая, но полная преклонения, смотрела я на маленькие подмостки. За столом несколько поэтов в изрядно поношенных толстовках и гимнастерках торопливо записывали темы для импровизации, предложенные из зала.
— Хлебников, Шершеневич, Мариенгоф, — прошептала мне сидевшая рядом девушка, с бледным лицом, пунцовыми губами и черными, будто лаком покрытыми волосами.
— Вы тоже поэтесса? — замирая от волнения, спросила я, вспомнив, что и я когда-то писала стихи.
Девушка повела широкими блестящими черными бровями и ответила небрежно:
— Да, я акмеистка.
Так и не поняв, что это значит, я молча прослушала импровизации, загадочные, как деревянные фигуры на Страстном бульваре, и вышла на тихую улицу. Рядом с университетом высился знакомый дом ЦК партии. Во всех окнах горел свет, двигались тени-люди. А напротив в кирпичной короне возвышалась кремлевская башня.
Так начались для меня иные, новые будни. И я сама подытожила наконец свои успехи и неудачи.
Браунинг, мандаты, карточки деда и Павла были уложены с почетом на дно корзинки. На них легли тетрадки, которые я неистово исписывала, готовясь к занятиям...
Жила я в общежитии рабфака, находившемся на одной из дальних московских улиц. Многоэтажный наш дом стоял среди низких барских особняков.
Приближалась зима. Выпал первый осенний снег. Белые ворсистые заплаты прикрыли ветхость старых домов, убогость ржавых оград, сгладили рябую поверхность мостовых.
Своеобразна была старая Москва, город косых переулков, пустырей-площадей. Все вместе похоже на помещичье имение, вокруг которого приютились крепостные деревеньки-окраины. Но снегопад приукрашивает строения, и зимой становится по особому красивым этот древний неповторимый город.
Я часто отрываюсь от книг и подхожу к окну — очень уж необычно зрелище за стеклом. Десятки разноцветных блестящих церковных макушек над серыми деревьями, покатые снежные крыши и над ними — дым, медленно ползущий, плотный. И город вокруг розовый, светлый.
Революция еще не коснулась домов, не снесла заборов. Особнячки по-прежнему стоят за оградами — непрочным символом собственности. И, глядя сверху на соседние дворы, я легко представляю себе, где была конюшня, где псарня, где ютилась дворня, стояли беседки, шумели вековые деревья. Стараюсь представить себе иную, новую Москву и не могу, заблудившись в этой чаще отслуживших строений и узких проходов.
Нас восемь девушек в комнате. Утром мы гурьбой отправляемся мыться. Очень холодно в кухне, пол как лед. Мы прыгаем, разминаемся, приседаем, колотим друг друга. День начинается смехом, потасовкой и шутками. Потом, сидя на своих койках — в комнате всего два стула, — мы пьем чай, принесенный снизу, из столовой. Одна читает в это время вслух газету.
Мои мысли прикованы к югу. Письма Ольги вызывают лишь досаду. Она разжигает интерес и, не удовлетворив его, обрывает рассказ, кончая обещанием досказать все в следующем письме.
«Я не мастерица писать, не сердись на меня. Перед сном, — а бывает иногда, что удается прикорнуть только на рассвете, — я обязательно думаю о тебе: где ты, какая теперь, чем живешь? Жду тебя к лету не дождусь. Помнишь, как мы мечтали вместе пожить в Крыму? Теперь это осуществимо. Да, забыла о самом главном. Помер Семен. В теплушке, во время переезда. Жаль парня, не дождался ни Крыма, ни международной революции. Осталась после него неподписанная инструкция о работе клубов. Вчера похоронили. Товарищ Рейс сказала замечательную речь на его могиле, наши салютовали. Как ты думаешь насчет того, чтобы Крым превратить в здравницу? Пошлем туда рабочих, крестьян со всех концов РСФСР. У меня на этот счет превеликие планы. Приедешь — расскажу. Ольга».
Фекла Ивановна в своих письмах ограничивается пожеланиями удачи и поцелуями. Только Василий Иванович, начинающий всякое послание обязательным призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», не скупится на слова и не торопится с рассказом. От него я знаю, что клуб наш существует, что удается даже с одним составом слушателей проводить беседы и по партийной программе, и о текущем моменте.
«Читаем с охотой Демьяна Бедного, а классики, да простит меня бывший бог, все-таки дохлое дело. Да здравствует всемирная революция! Твой верный товарищ Василий Лапов».
Я берегу эти письма, выучиваю их наизусть. Они лежат у меня в корзинке в больших серых конвертах, перевязанные ленточками с пометками, указывающими год и имя писавшего.
Для писем Валерьяна я завела отдельную деревянную коробку с унылым осенним пейзажем. Прежде чем положить туда очередное письмо, я подолгу, терпеливо перечитывала его, следуя за мятущимися мыслями своего друга. Увы, письма не делали нас ближе.
Он писал, в сущности, для самого себя, бессознательно уверенный, что нужное, интересующее его так же важно и адресату. Даже почерк свидетельствовал о непостоянстве и себялюбии.
Тщетно просила я Валерьяна сообщать каждую мелочь. Его письма были чаще всего не связаны ни с временем, ни с местом.
«Милая, я хотел бы, чтобы звонкой радостью прозвучали слова мои. Я хочу, чтоб и ты была веселой! Мы молоды. В серых сумерках я сижу одиноко и слушаю, как галки спорят за окном. Тихо плачет душа... Милая, я люблю тебя, и образ твой в бою и на отдыхе всегда со мной. Помнишь ли, ждешь ли? Истосковалась душа...»
Рабфак был переполнен, и наш курс иногда занимался на холодной лестничной площадке; учились мы, сидя в полурасстегнутых полушубках, в валенках и шапках. И, однако, никто не роптал и не ленился.
Много сил и энергии отнимала у нас учеба. Я видела, с каким героическим напряжением работали мои товарищи, еще вчера не знавшие грамоты. Девушка-зырянка, жившая в одной со мной комнате, только год тому назад впервые вышла на станцию железной дороги. И первый увиденный в жизни поезд, испугавший ее своим таинственным гулом, отвез ее из области Коми-Зырян в Москву учиться.
Я видела жадные, воспаленные глаза моих товарищей, склонившихся над учебниками физики, над чертежами.
Революция дала им жизнь и открыла все тайны мира.
Но простор этот был так велик, что требовал умения дышать и не задыхаться, умения видеть, слышать, понимать, не теряясь в этой стихии красок, звуков, чувств и мыслей.
Я видела молодых и старых людей, сидевших в аудиториях рабфака с той особенной улыбкой, которую я ранее подмечала на лицах победителей, вступающих на отвоеванную землю.
Иногда я улавливала в их глазах беспокойство и без труда отгадывала его причину.
«Пойму ли, выучусь ли? — думал каждый из нас. — Трудно!»
Случалось, мы метались по коридорам, мучительно старались дать себе отчет в только что узнанном, случалось, до боли кусали губы, не находя ответа на вопрос преподавателя, готовые плакать от бессилия.
Взрослыми, сознательными людьми мы впервые узнавали то, что, не задумываясь, воспринимает в школе ребенок. Каждый день готовил нам новые запоздалые открытия.
На ужин сторож Трофим выдавал нам воблу и хлеб. С этим скудным пайком мы возвращались в нетопленные аудитории, чтоб слушать монологи Кориолана и Шейлока, теорию прибавочной стоимости, историю русских фабрик, доклад о международном положении. Это были «сверхурочные» занятия.
Проводя дни на лекциях и в общежитии, я почти не видела Москвы и все реже вспоминала армию.
Прошло четыре месяца. Меня перевели на второй курс. Я написала Ольге: «Кое-что сделала, но как еще мало!»
ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
Однажды нежданно на пороге нашей комнаты в общежитии появился Валерьян. Он показался мне еще более красивым и статным, чем прежде. Военная форма, кобура револьвера, даже шевровые сапоги — все было на нем новое, праздничное.
Я подметила впечатление, произведенное им на моих подруг, уловила не без ревнивого раздражения внезапный блеск их глаз, торопливое прихорашивание. Мне стало досадно оттого, что он так мужествен, так привлекателен. Не слишком ли? Во мне боролись два чувства — раздражение и тщеславие.
Накануне я впервые за многие месяцы надела вместо сапог ботинки. Они были черные, матерчатые, с кожаными носками и задниками. Весь день я чувствовала небывалую легкость. Хромовые сапоги, эти неуклюжие, мрачные уродцы, казавшиеся мне когда-то пределом красоты, выглядывали из-под кровати. И хотя я радовалась женственной своей обуви, все же смутная надежда на то, что сапоги мне еще понадобятся, не умирала во мне.
Валерьян привез мне в подарок суконный шлем, флакон духов в атласном футляре, мешочек изюму и немного ржаной муки.
Я испекла сладкие лепешки, и наша комната стала готовиться к пиру.
Только вечером в театре нам с Валерьяном удалось наконец остаться одним.
Мы просидели весь вечер в уголке фойе, на диване, Валерьян говорил о своей любви все более требовательно. Я была счастлива, но вдруг он стал зло высмеивать некогда заключенный нами сердечный договор.
Я насторожилась.
— Довольно, — говорил он, стискивая мою руку. — Мы не дети. Ты обрекла себя на бесцельную муку. Мы разыгрываем какую-то глупую мещанскую пьесу. Сколько времени ждать? Год, два? Ответь мне — ради чего? Я люблю тебя и больше не в силах, не желаю быть один, ты толкаешь меня к другим женщинам.
Сердце мое забилось.
— Ты хитришь, все это выдумки, уловки, — продолжал Валерьян. — Любовь и рассудочность несовместимы. Решай...
Я молчала. Что тут скажешь? В детстве подобное чувство пустоты и тяжести овладевало мною, когда разбивалась любимая кукла и становились видны находившиеся внутри уродливые перекладинки и два глаза на шарнирчиках. Жалко становилось и потому, что нет больше куклы, и потому, что она оказывалась пустой, неожиданно безобразной.
Валерьян продолжал, жестикулируя одной рукой и отбрасывая резким движением щек кудри, падающие на лоб:
— Да, да, решай. Я бросил все и приехал к тебе, чтобы требовать ответа. Да или нет? В конце концов, я не монах и мне не трудно найти другую женщину.
Он ненатурально вздохнул.
— Что же делать? Похороню чувство к тебе на дне души.
Спектакль кончился. Зрители хлынули из зала.
Мне хотелось горько плакать от разочарования и обиды. Ничего не сказав, я встала, и мы вышли из театра на улицу.
— Мой девиз: все или ничего... — снова заговорил Валерьян.
— Тогда — ничего! И довольно об этом, — крикнула я с неожиданной для себя силой. — Довольно! Те, кто любят, умеют ждать. Любовь и верность неотделимы.
— Напыщенная фразеология, — отрезал Валерьян.
Мы посмотрели друг на друга, будто впервые увидевшись.
— Ты ищешь какого-то карточного героя. Таких на свете не водится, — продолжал Валерьян.
— Я хочу настоящего, верного чувства. А пока работа, книги и ледяной душ ликвидируют эту любовную драму, — добавила я вызывающе, повторяя где-то вычитанные или слышанные слова, популярные в нашем общежитии.
Мы остановились у рабфаковского общежития. Валерьян робко взял мою руку.
— Я все-таки люблю тебя, и ты меня еще любишь. Сразу ведь чувство не вырвешь из сердца. Давай не будем загадывать.
— Ладно, — прошептала я, чувствуя, что отношения непоправимо испорчены.
Мы распростились, глядя в разные стороны. Через два дня Валерьян уехал в Киев. С дороги в письме он просил забыть нашу размолвку и обещал быть мне верным.
А через несколько дней в рабфак во время перерыва зашла Анна Павловна.
— Ушел! — сказала она, не подав мне руки.
Я сразу поняла, о ком идет речь, и попыталась найти слова утешения. Мы вышли в университетский дворик.
— Что она хочет от моего мужа, бессовестная? — продолжала Анна Павловна. — Как осмелилась она ворваться в чужую жизнь. Разве она его любит так, как я? Сколько измен я простила, сколько плакала потихонечку в уголке, чтоб он не видел, не раздражался. Вот она, благодарность на старости лет! Какой нестерпимый позор! Что скажут люди?
Анна Павловна не хотела слушать моих возражений.
— И знаешь, это женщины во всем виноваты, а не он. Они его сами обхаживают. Ну, послушай только, что пишет ему какая-то дурочка — я перехватила ее письмо. «Вы мощный дуб, у вас сапфировые глаза!..» Но эта, теперешняя, она-то хитрая! Зачем он ей? Я пойду к ней и скажу всю правду: поверьте мне, старухе, скажу я, — он ведь вас бросит. Я ведь его избаловала... А вы...
Анна Павловна громко заплакала. Я побежала раздобывать валериановых капель в аптечке у сторожа. Прохожие с состраданием посматривали на пожилую женщину, безутешно рыдающую на скамье.
«Кто судья человеческому сердцу? — думала я. — Ну, можно ли жить так, как жили Петр Петрович и Анна Павловна?» Я вспомнила наше детство, частые сцены, вранье.
— Послушайте, тетя Аня, — я нарочно снова назвала ее, как когда-то в детстве. — Не приходила ли вам в голову простая мысль, что жить можно не только для единственного обожаемого человека, а для многих людей? Вы ведь были так несчастны. Не чувствовали вы хоть когда-нибудь, что заслоняет вам свет? Попробуйте жить без подпорок, стать на ноги.
— Но он ведь может заболеть, погибнуть из-за этой девчонки!
Решительно Анна Павловна была не в состоянии понять меня. Советы здесь были излишни.
— Ну, а если бы Петр Петрович умер, тетя Аня, что было бы с вами?
— Не знаю. Тогда я не была бы брошенной женой, покинутой ради другой. Я стала бы его вдовой, мне не было бы стыдно перед людьми.
Мы расстались с Анной Павловной еще более чужими друг другу, чем всегда.
Может быть, наивно, но искренне и горячо подумала я в тот день о женщинах, окружающих меня. О женщинах, что, склонившись над чертежами и микроскопами, всходя на трибуны, строя и созидая, именно этим путем победили неравенство.
ВОСЕМЬ ДЕВУШЕК
Однажды зимним утром я готовилась к зачетам.
Нелегко давались мне занятия. Уставала я иногда до слез, но отступать не хотела. К ночи голова становилась тяжелой.
Передо мной лежала книжка о философии Гегеля. В паническом страхе я погружалась в рассуждения о том, что «идеально»-диалектический процесс как таковой содержит не идеально-смысловые противоречия, но реально-смысловые противоположности и различия.
Ох, как трудно это было понять! Отрываясь от книги в изнеможении, я гляжу на город, на звезды вверху. Как в детстве, жизнь представляется мне полчищем вопросов.
Все восемь девушек, живущих со мной в нашей комнате, мечтают о том, чтобы кончить рабфак, быть может, даже университет. Все мы готовимся к своему будущему, как солдаты к битве, к победе. Но мы не только учимся до одури, но и пляшем до упаду, и поем хором до хрипоты, и дурачимся, как озорные мальчуганы.
Самой веселой считается среди нас Тоня — бывшая горничная. Она умна, смешлива, разговорчива. Иногда она рассказывает нам о нравах и быте своих бывших хозяев, о праздных женщинах, щедрых пьяницах и картежниках, о сложных любовных перипетиях и тяжбах из-за наследства — словом, обо всем, что узнала, переходя из дома в дом, прислуживая, исполняя хозяйские капризы. Приветливая, круглолицая, миловидная и добродушная, она, судя по всему, легко становилась наперсницей купеческих содержанок и опечаленных, грубо обманутых жен. Кутилы и проказливые наследники богатых отцов пытались соблазнить ее чаевыми и обещаниями, подстерегая в темных прихожих. Она хитро ускользала от их домогательств и проникалась глубоким презрением ко всему, чему являлась невольным свидетелем.
У Тони был природный дар актрисы, и мы пророчили eй успех в театре. Случалось, после ее мимических представлений кто-нибудь из нас спрашивал: «Тонька, зачем ты пошла на рабфак?»
Она отвечала не задумываясь, но всегда с глубокой серьезностью, что с малолетства ее тянуло учиться, и рассказывала, как, стоя перед господами и чувствуя себя невежественной и глупой, она думала про себя: «Погодите, может, и я ученой буду, вы, поди, тоже голыми родились!»
— Сватались ко мне лакей, кучер, лавочник, но я в замужестве не видела интереса. Муж потребует: и обед сготовь и за ребенком присмотри, а для меня нет в этом удовольствия. Да и какой хороший мужчина взял бы меня, дуру малограмотную?
Однажды, смущаясь и упрашивая не судить ее строго, она показала нам свои рисунки. Неумелые, робкие, они, однако, поражали какой-то мыслью, особым, одной Тоне свойственным, своеволием. И девушка, которую мы считали такой самоуверенной, краснея до слез и запинаясь, призналась, что хочет быть живописцем.
Мы жили вместе — восемь девушек, восемь разных характеров и биографий. Были среди нас девушки, впервые взявшие книгу в руки, привыкшие к своему станку. Их детство так разнилось от моего. В нем тоже были свои печали, свои беды и горести. Но эти девушки родились родными детьми революции, а я, как мне казалось, подкидышем. Правда, будь у меня своя семья, как знать, не стала ли бы я тем, чем стала Катя. И я радовалась своему сиротству.
Все мы мечтали о приобретении профессии. Я хотела, подготовясь, уйти на партийную работу, Тоня всему предпочитала живопись. Были среди нас будущие агрономы, инженеры, врачи. И только одна из девушек — Зина — стремилась неизвестно к чему. Мы никогда ни о чем не спрашивали ее, щадили, оберегали. Есть люди, как бы пришибленные тяжелым прошлым. Зина казалась нам такой, еще не отогретой, страдающей, болезненно недоверчивой, обидчивой.
Ранней весной тысяча девятьсот двадцать первого года общежитие разбудила тревога. В Кронштадте начался мятеж.
Накинув шинели, мы сбежали вниз, присоединились к толпе студентов и в строю двинулись к штабу войск особого назначения. По дороге Зина сказала мне своим сиплым негромким голосом:
— Чего таиться? Вы все, разве я не вижу, жалеете вы меня. Думаете, чего доброго, Зинка — пропащая. И зря. Что была пропащая — это правда, а теперь меня нечего жалеть. Я себя нашла, я сильная и еще не старая. Мне всего двадцать шесть. И не годы меня измучили, годов мне мало. Разве виноват кто, что мать родила меня в публичном доме? Все было, через все пробивалась. Я и по сей день желтый билет берегу. Понимаешь теперь, что для меня революция?
Долго говорила Зина о том, как в октябре сражалась в Питере за Советы, как словно родилась она тогда заново. Была она, оказывается, и на фронте.
— Не умею всего сказать, только я за новую жизнь драться буду, я этого ввек не забуду. — Зина грозно сжала винтовку.
Всю ночь до утра в боевой готовности ждали мы приказа о выступлении.
Мысли были тревожные. Неужели враг настолько силен, что революции грозит опасность? Каждый из нас мечтал в эту ночь быть под Кронштадтом. Но отобрали только немногих.
В тягостном раздумье сидела я в штабе ЧОНа [ЧОН — части особого назначения.]и размышляла о прошлом. Величественная и печальная, окутанная траурным крепом, вставала передо мною Парижская коммуна. Палач Тьер топтал восставший Париж, но никто из коммунаров не просил о пощаде.
На кладбище Пер-Лашез, читала я где-то, есть стена смерти. Если бы время не уничтожило на ней следы крови, она стекала бы и сейчас, так много ее было пролито. Прошли десятилетия. Баррикады 1905 года, виселицы Петропавловской крепости, страшные казематы Александровского централа.
Ужас и гнев поднимались в моем сердце. Нет! К прошлому не должно быть возврата!
Задумавшись, я не заметила, как на глазах у меня появились слезы. Вытерла их кончиком красной косынки и оглянулась вокруг. Было стыдно и слез и подкравшихся неизвестно откуда сомнений. Внезапно вызвали сидевшую неподалеку Зину.
— Прощайте, скоро вернусь, — крикнула она, уже стоя на грузовике, и, сорвав красный платок с головы, взмахнула им в воздухе.
Нас осталось семеро в нашей комнате.
По-прежнему гурьбой мы ходили учиться, а в нечастые досуги зазывали из соседних комнат товарищей и подруг и пели или спорили до полуночи. О чем только мы не тревожились, чего не обсуждали!
Десятый съезд партии. Время было сложное. Страна переходила от войны к миру. Мы впервые столкнулись с противоречиями внутри партии и негодовали против тех, кто посмел осложнить ее работу в трудные дни государства.
Мы сзывали к себе всех жильцов квартиры. Их было пятьдесят человек — в общежитии, большом и когда-то нарядном доме, маленьких квартир не водилось.
Тоня — наш комсомольский секретарь — ежевечерне ораторствовала от имени всей нашей комнаты.
Заботы страны и партии были всегда первыми нашими заботами. Слова Ленина звучали для нас непререкаемой истиной. Мы читали вслух первый том «Капитала», упорно стремясь понять его смысл.
«Одолеем ли?» — беспокоились мы, когда переставали понимать то, что читали. Убежденность в непререкаемости марксистского учения внушала нам незыблемую веру в непогрешимость линии партии. И, поднимая руку на партийном собрании за «Платформу десяти», я знала, что поступаю правильно. Где Ленин — там истина, в это мы верили все.
Шли дни. Восстание было подавлено. Нетерпеливо поджидали мы Зину. Но она не вернулась, погибла на льду залива.
В Зининых вещах мы нашли страшный билет проститутки, и я сохранила его на память о великом горе и обиде, которая подстерегала когда-то женщину.
Мы очень ценили наше время. Боялись растратить хотя бы минуты и все же были неизменными посетителями всяческих лекций и литературных диспутов.
С одинаковой страстностью искали мы причины поражения венгерской революции и объяснения биологических загадок. Спорили громко и горячо о происхождении Земли и преимуществах Пролеткульта перед Художественным театром. Постановка «Дочери мадам Анго» сильно ослабила позиции наших левых театралов.
Для беспокойного поэта
Мало веселого, шумного света... —
пели то в одной, то в другой комнате. С этажа на этаж перекидывались мотивы. Мы записывали и зубрили слова арий.
Дочь мадам Анго
Все вы вначале, видно, не знали,
Но мадам Анго, видите сами,
Снова пред вами, —
подбоченившись и взобравшись на стол, распевала Тоня.
В Политехническом музее, замерзшие до дрожи, мы слушали оглушительные, как елочные хлопушки, выступления футуристов. Нам нравились эти схватки, но в памяти от них оставалось не больше, чем от дуровских утренников в цирке.
Дни, проносящиеся в напряженном труде, в юношеских забавах и страстных беседах, омрачались для меня неурядицами сердца. Валерьян настойчиво звал к себе. Письма его, какие-то больные, тревожили, отвлекали от дела, мешали жить.
«Пиши побольше о делах, пиши о том, чем живешь ты и твои товарищи, а о любви покуда помолчим», — писала я ему.
«Приезжай, — настаивал Валерьян. — Крым чудесен. Возле Бахчисарая я увидел нежданно-негаданно наши российские березки. Совсем обезумел от радости. Остановил коня и долго смотрел. Вечерело. На прощанье солнце поцеловало вершинки деревьев. Никто не видел, только я, а они покраснели. И долго, долго, до тех пор, пока в небе не появились звезды, все трепетали смущенно зелеными веточками. Ты просишь писать не о любви. Что мне сказать? Война кончилась. А я по натуре воин. Мне битвы нужны. Пусто стало, скучно. Как жить? Сам не знаю. Научи! Ты кажешься мне иногда сильной. С тобой нелегко. И я иногда ненавижу тебя за это, но и люблю. Вот и разберись-ка тут. Зачем ты не стала сразу моей женой? Я хотел твоей любви, любви женщины. А ты твердишь, что нельзя мешать друг другу расти и жить. Не могу понять, чего же ты хочешь? Тебе уже восемнадцать лет!»
Читая это письмо, я вспоминала все, что было у нас и чего не было, и горевала не о Валерьяне, а о себе да еще о Павле. Таким цельным, простым и сильным казался мне тот мертвый по сравнению с этим живым. Чувствовала, как далека я от Валерьяна. Хотелось полюбить его, но не получалось. Веры не было, и, думая о нем, я сама должна была во всем разбираться.
«Ошиблась в нем ли, в себе ли... Не дешево платишь, видно, за опыт, за знанье людей. Найду ли я такого, который будет мне и мужем, и братом, и отцом, и товарищем? И бывает ли это?» — думала я.
С весны, с теплым ветром зачастили к нам ребята из соседних комнат. Тянуло на воздух. И, отложив книги, мы уходили на окраины, в парки встречать рассвет.
Город вдали просыпался медленно, и мы принимались фантазировать, указывая на пустыри и глухие тупички московских предместий.
— Пройдут годы, — провозглашал кто-нибудь из нас, — и автомобили заполнят асфальтированные мостовые. Мы воздвигнем здания и дворцы, каких не видел мир, электрическими огнями осветим каждый уголок города. Все станет таким прекрасным, что жаль будет отдать темноте хотя бы один камень.
Кое-кто смеялся. Начинались споры.
Но фантазеры не унимались:
— Под землей побегут поезда, над землей паутиной растянутся воздушные дороги. Розы зацветут вдоль набережных, а по Москве-реке, широкой и светлой, поплывут яхты и пароходы... У каждого из нас будет домик, светлый, легкий, поворачивающийся вслед за солнцем. Послушный человеческой воле, он сможет подниматься в воздух, скользить по воде. Внутри одна из стен будет экраном. Все зрелища, все происшествия, где бы они ни случались, будет отражать чудодейственное полотно. Слушайте, смотрите! Я нажимаю кнопку, и через серебряные трубы врывается в дом симфония земли и неба. Вот доносятся звуки карнавала с озера Чад. Черные люди танцуют на берегу под неистовый грохот тамтамов. Хотите знать, о чем говорит оратор сейчас на международном слете аэронавтов? Они собрались на Огненной Земле. Там теперь в разгаре зимний спортивный сезон. Делегаты с острова Таити не привыкли к низкой температуре, и решено согреть для них воздух. Но зачем мне тени жизни, а не сама жизнь? Я передвигаю рычаг, и раскрываются стальные крылья. Дом поднимается в воздух. Куда направить его? В Австралию. Завтра там собирается очередная сессия Центрального Исполнительного комитета великой Советской республики — Земли. На повестке: посылка делегации на Марс. Так куда же мы летим? В Австралию или Калькутту, на праздник белых слонов?
— А пока что, ребята, ходу на рабфак, — командовала наконец Тоня.
Однако мы унимались не сразу. Петя Золотарев, о котором у нас говорили, что он «далеко пойдет», становился в позу и, простирая руку к восходящему солнцу, заявлял:
— Что Огненная Земля? Детское путешествие. Сел да поехал. А ты вон туда нырни, — он показал рукой в небо. — Страшновато. Ну, а я полечу обязательно.
Целые ночи мы проводили без сна в подмосковном лесу вокруг костров и, усталые, под утро возвращались домой. Говорить не хотелось. Чтобы размяться и согреться, мы бежали наперегонки. Выстраивались парами и по команде ускоряли шаг. Сонливость проходила, сильнее билось сердце. Все было приятно, даже режущая боль под ложечкой, какая бывала в детстве при беге. Быстрее, быстрее. Однажды я обогнала всех и побежала вдоль леса. Казалось, что бегу совсем одна. И тем неожиданнее прозвучали рядом слова:
— Ты мне давно нравишься, Наталка! Черт знает как нравишься! Приходи сегодня ко мне, парней я выставлю из комнаты.
Это был Петя Золотарев. Я остановилась. Прелесть утра была нарушена. Уж очень некстати прозвучало это грубое приглашение. Нас догоняли товарищи.
Я знала Петю с первых дней учения на рабфаке. Мы сидели рядом. Он помогал мне иногда решать задачи по алгебре, мы вместе читали Шекспира.
Мало изменились люди. «Неторопливо расцветает цветок истории», — вспоминались мне слова дедушки. Или у истории другое летосчисление?
Мы часто говорили об этом с Петей. Книги, которые он поглощал с катастрофической быстротой, и напряженное учение меняли его, как и всех нас. Пете наука давалась легко. Он шел первым в классе. Каждый предрекал ему будущность, которой хотел бы для себя. Объявляли его блестящим инженером-конструктором, профессором-экономистом, мужественным летчиком, полководцем, красноречивым вожаком масс.
Петя никогда не делился с нами своими намерениями. Он был скрытен и насмешлив. Мы выбирали его во все бюро, комиссии, на все студенческие конференции. Деятельный, одаренный и красноречивый, он был всеобщим любимцем и баловнем. Девушки гордились его вниманием.
Петя был мне по-братски, по-дружески дорог. Я тоже гордилась им.
Тем неожиданнее прозвучали в то утро его слова. Я знала женскую дружбу. Ее олицетворяла Ольга. Но бывает ли такая же дружба между мужчиной и женщиной?
Петя меня ждал с папиросой во рту у своей двери. В комнате никого не было. В ногах Петиной кровати валялись мандолина, учебник по геометрии, начатый чертеж.
Тускло светила лампочка под потолком. Петя взял мандолину и начал перебирать струны. Мы молчали. Исчезла обычная простота, понимание с полуслова, шутки, которые всегда находились у нас при встрече. Резко бросив мандолину, Петя неуклюже и решительно обнял меня.
— Хорошо, что пришла. Волновался я черт знает как. Сдурел, будто со мной никогда этого раньше не случалось.
Я осторожно отвела руку.
— Да ты не бойся, не укушу, — птичка какая нежная, — сказал он с неожиданной грубостью.
Трудно сказать, что обижало меня больше в его поведении — слова, жесты или гримаса, которой все это сопровождалось. Но я испугалась, как бы вдруг не расплакаться. И начала с несвойственной робостью что-то рассказывать о себе, о нем, о дружбе, которую предлагаю.
— Дружба? — переспросил он удивленно и насмешливо. — Это что же — отговорка? Подаяньице? Дружба, скажите пожалуйста, — предприятие на паях. К черту! Вранье! Чего нам загадывать: если оба мы молоды и ни с кем не связаны, дружба обернется любовью. Я ведь правдиво к тебе подошел. Моя жизнь — далекое плаванье. Для любви у нас с тобой времени нет, а друзей и так довольно. Герцен пишет, я на днях читал, что, когда юноша и девушка читают вдвоем все, за исключением разве чистой математики, всегда это кончается поцелуями. А мы что, амебы вареные, что ли?
Он резко обнял меня. Оттолкнув его, я нечаянно расцарапала ему руку.
— Дура! — крикнул он, отпуская меня.
Никогда в жизни я не видела такого злого лица. Враг, а не друг был передо мной.
— Ты что же, издеваться надо мной явилась? Шутить? Я напрямик сказал, чего хочу. Думаешь, мы, парни, любим прикасаться к руке девушки потому, что она друг, товарищ по учению? Ну, а об остальном ты не думала?
Он вскочил и с силой отшвырнул попавшуюся под руки мандолину. Казалось, он не мог сдержать откуда-то нахлынувших слов.
— Пришла, чтоб прочесть мне ханжескую лекцию и потом этакой святошей уйти? Рассчитывала, что насилье слишком грубый акт, на который не пойдет сознательный парень. Ну, а о насилии, которое совершаешь ты, заигрывая с человеком, у которого голова кругом идет, ты не подумала? Да и вообще не верю я в «недоступность неприступных белых лилий». Кривлянье все это, мещанство!
Он закурил папиросу и принялся нервно шагать от окна к двери и обратно.
— Между мужчинами и женщинами дружбы не бывает. Ты это хотела от меня узнать? Что ж, я прямо говорю тебе это.
Впервые за все время я на другой день пропустила занятия. Слонялась по городу, не зная, куда себя девать. Зашла к Анне Павловне. Она обрадовалась, что может снова поворошить старое. Есть люди, которым приятен вид собственных ран, приятно сознание перенесенной обиды.
Хнычущим голосом заговорила она о том, как жесток Петр Петрович.
Однообразные причитания и вздохи покинутой женщины погнали меня прочь. Я снова пошла бродить по московским улицам.
* * *
Однажды, в один из весенних дней, я зашла в магазин Мюра и Мерилиза. В сырых залах толкались скверно одетые люди. Грязные полы, ободранные стены, потемневшие потолки. Как угрюмо все это выглядело!
Внезапно кто-то окликнул меня. Оборачиваюсь — Варя, та самая Варя, которую мы с Ольгой некогда провожали из армии в Москву. Бросаемся друг другу в объятия. Все, что напоминает недавнее прошлое, все, что связано с армией, навеки дорого мне. И хотя нас толкают и бранят, мы упрямо стоим в проходе, всем мешая, и говорим, говорим без умолку. Наконец Варя уводит меня к себе. Она живет тут же, поблизости, в огромном доме, на самом верхнем этаже, и Москва, которую я так люблю теперь, далеко видна из ее окна. Но тяжелая, чванливо-раздутая, ярко-желтая мебель (этот цвет мы называли в детстве «гоголь-моголевым») и ковры на стенах и на полу! Как может Варя двигаться среди такого множества вещей, как здесь дышать, думать? Молчу, однако, чтобы не обидеть Варю, силюсь попять, откуда у нее все это, зачем.
— Хорошо, правда? — говорит Варя. — Мебель из настоящей карельской березы, а ковры дивные, ширазские. Стоят уйму денег. А ты, бедненькая, все такой же оборвыш, как в армии. Нет, у нас в Москве женщина должна быть прежде всего женщиной. Я убедилась, что туалет для нас все. Плохую картину спасает рама. Словом, если бы тебя одеть, была бы дуся. А так, пройдешь мимо и не заметишь. Просто обидно!
— Для кого обидно? Я как-то плохо соображаю.
— Вообрази, — не отвечая мне, тараторила Варя, — у меня оказались незаурядные способности. Учусь в драматической школе. Амплуа — молодые девушки, такие, знаешь, особые, мечтательные и в то же время опасные. Прежде они назывались инженю. Пришлось, вообрази, как это ни грустно, оставить для театра партию. Совместить нельзя. Либо сцена, либо общественное служение. Понимаешь?
Нет, я ничего не могла понять.
— Уйти из партии? — повторила я, растерянная, с трудом собираясь с мыслями. — Отчего же? Почему — партия или театр? Почему не то и другое? Где тут противоречие? Разве нельзя быть большим артистом и вместе с тем борцом? Не могу понять, не могу...
— Ты по-прежнему норовишь поучать. В тебе по-прежнему нет гибкости. Что ж одна живешь? Или рискнула согрешить?
Я не ответила. Варя, напевая, принялась хлопотать по-хозяйству. Достала котлеты, мармелад, булку. Вкусная еда вызвала во мне такой приступ голода, что на мгновение я позабыла обо всем. А Варя снова начала говорить, ставя передо мной тарелки:
— Ты не удивляйся. Это мой друг добывает, он такой чуткий, внимательный.
Пока я ела, Варя сидела подле меня, медленно затягивалась папироской и рассказывала о том, кого называла другом.
— Он, правда, но молод, но для мужчины это иногда даже достоинство. Он столько видел и так умен... обо всем умеет рассказывать. Просто заслушаешься. У других мужчин ласкового слова не вытянешь, а этот совсем не такой.
Варя помолчала. Потом, подождав, пока я кончу есть, и усевшись так, чтобы видеть свое отражение в зеркале шкафа, предложила:
— Хочешь, я тебе почитаю?
Я согласилась. Мягкий диван, еда, усталость ослабили меня. Хотелось спать. Варя читала с придыханиями, с многозначительными паузами. Сквозь дремоту я еле слышала напыщенные стихотворные строки. Внезапно одна из них показалась мне ужасно смешной, и я не могла удержаться от смеха. Если бы Ольга слышала весь этот напыщенный вздор, если бы она видела Варю перед зеркалом в позе царицы Савской. Но Варя не на шутку рассердилась.
— Комсомольская дура, — закричала она с подлинной злостью.
Я не успела ответить. Легкий стук в дверь заставил меня замолчать.
— Знакомьтесь, — сказала Варя церемонно, — моя знакомая по армии, мой друг.
Я взглянула на вошедшего и невольно отступила. Передо мной стоял Петр Петрович.
* * *
Весной я окончила рабфак.
Седой учитель в толстовке, который был свидетелем моего провала на приемных испытаниях, протягивает мне свидетельство об окончании. Все мы, сегодня окончившие рабфак, стоим в темной канцелярии, молчаливые и торжественные, готовые мгновенно зашуметь и броситься друг другу на шею с поздравлениями и поцелуями.
Кто-то спрашивает нас, будем ли учиться дальше? Я задумываюсь. Мне сейчас на этот вопрос трудно ответить.
В КРЫМ
Два дня, сидя в вагоне, я ждала отправления поезда из Москвы в Симферополь. Ни в одном расписании, впрочем, не значился день и час отправки. Да и были ли вообще тогда расписания поездов? Мы стояли на запасных путях, вдали от станции, среди товарных эшелонов.
Понурые, печальные, растянулись по обе стороны нашего поезда вереницы теплушек. Запомнился мне один дряхлый товарный вагон. Дырявое, обесцвеченное временем и непогодой дощатое рубище едва прикрывало полуразрушенный остов. Много тысяч пудов груза протащил он, вероятно, на своем веку. Не его ли я видела на фронте, у элеваторов Украины, подле шахт Донецкого бассейна? Не он ли подвозил армиям подкрепление, не он ли кормил и обогревал города? Железнодорожный ветеран, почтенный товарный вагон верно послужил эпохе.
Последние дни в общежитии прошли для меня грустно и горестно. Когда после встречи с Варей я вернулась домой, мне сказали, что накануне Петя Золотарев напился. Это было небывалое происшествие. Уж очень строги и аскетичны были в ту пору наши воззрения и нравы, И вот теперь Петя уронил звание комсомольца и пролетарского студента. Все шесть комнат нашей общей квартиры собрались, чтобы выслушать его и осудить.
— На тебя смотрят, у тебя учатся другие! — сказал первый из выступавших. — Ты комсомолец, ты облечен доверием партии. И ты запятнал свой билет комсомольца! Мы тебе верили, Золотарев, но ты не выдержал пробы. Кто знает, каким еще проверкам подвергнет нас партия, какие бои ждут наших ребят в будущем?
Неожиданно Петя бессвязно и грубо обвинил в происшедшем меня, назвал хитрой и опасной притворщицей, якобы обольстившей его. От меня потребовали объяснений.
Я, как могла, рассказала о том, что произошло у нас с Петей.
— Подумаешь, — сказала одна из девушек. — Любовь, дружба. Все это фразы одни. По-моему, главное для нас — это учеба.
— Петька — рабочий парень, Петька талантлив, — заявила другая, — на Петьку рабфак возлагает большие надежды. Мы должны оберегать его. А так рассуждать и вести себя, как Наталка, может только буржуйка. Шутка сказать! Парень из-за любовной волокиты может свихнуться.
Не то крайняя усталость, не то уверенность в своей правоте сделали меня почти бесчувственной к этим словам. И только когда Тоня выступила в мою защиту, у меня стало покалывать сердце и едва не прорвались наружу слезы.
— Стыдитесь, товарищи, — сказала она под конец. — Утверждение, что сойтись с мужчиной для девушки так же легко, как выпить стакан воды, это не наша, не большевистская мораль. Стыдитесь!
Этим же укором начала и я свое выступление. Я говорила об истинной любви и о пошлости, облепляющей незаметно наше сознание липким, трудно отмываемым налетом, о том, что мы должны быть чисты и тверды не только в общественной, но и в личной жизни.
— Петя не любит меня, и я не люблю его. Почему же вы считаете, что между нами возможно сближение, которое должно совершаться только тогда, когда люди любят друг друга?
Слова вырывались у меня торопливо, мысли лихорадочно путались. Но когда я кончила, не последовало ни одного вопроса. И только на другой день в коридоре нашей квартиры Петя подстерег меня и смущенно сказал:
— Не поминай меня лихом. А ты молодчага в общем и целом. Хочу тебе сказать: увидимся или нет, но я всегда тебе друг. Не сердись на меня.
А под вечер товарищи гурьбой проводили меня на вокзал.
Поезд отправился из Москвы ночью, так что я даже не заметила, как и когда. И только проснувшись, не увидела вокруг старых приятелей-теплушек. Ехали знакомыми мне дорогами. Мимо Орла, мимо Курска.
Два пулемета стояли у окна просторного купе, рядом лежали винтовки. За Лозовой белые банды нередко разбирали рельсы и грабили поезда. Поэтому все мы были вооружены и готовы к защите. Старательно чистя свой маленький браунинг, я почувствовала давно не испытанное возбуждение.
Когда наступила ночь, я прильнула к окну. Сыро, ненастно. Вдали мелькнул огонек. Исчез, вспыхнул опять. Не бандиты ли крадутся за холмом навстречу поезду? Мне чудятся голоса, лошадиный топот. Рванувшись, вздрогнув и тяжело лязгнув, поезд останавливается. Мы хватаемся за оружие и ждем. Но ночь тиха. Смолкла визжавшая на ходу горящая букса соседнего вагона. Мы прыгаем на влажную росистую траву. Трещат кузнечики. Какие-то люди лезут под вагон и начинают его ремонтировать. Мы перекликаемся очень громко, беспричинно смеемся. Волнение спадает.
Наконец, громыхая и отдуваясь, поезд снова пускается в путь. Светает. Мы расходимся по своим купе. Но уснуть нелегко. Мысли бегут и бегут. Каков-то теперь Валерьян? Меня захлестывает давно заглохшая тоска но нем. Может быть, теперь мы не расстанемся больше? Может быть, будет все, как когда-то обоим хотелось? Я крепко жмурю глаза. Из золотых глубин выходит давно забытый желтый верблюд и отправляется в путь. Я снова маленькая девочка и снова засыпаю в нашей с дедушкой комнате. Мне спокойно и тепло в моей постели. Верблюд идет прямо к желтым разводам солнца на небе. Я иду за ним и, наконец, засыпаю.
Утром мы пересекаем узкую полоску Перекопа. Кое-где колючим шиповником со столбов свисает проволока. Симферополь близок.
Я в Крыму.
В партийном комитете, в столе личного состава, мы встретились с Василием Ивановичем и решили вместе ехать в Ялту. Он свободен. Книги нашего клуба сданы в местную красноармейскую читальню. Василий Иванович рассказывает о своем житье-бытье, и бороденка его вздрагивает.
— Сбрейте бороду, Василий Иванович, зачем вам этот веник? — робко прошу я.
— Нет уж, этого в уставе партии не требуется. Я насчет своего фасада допотоп. Допотопом и умру. А места здесь отвратительные, — переводит он дипломатически разговор на другое. — Куда ни плюнь — офицеры. Я их насобачился во всех туалетах распознавать. Землячка чистила, чистила, скребла, скребла, но их, как мух в августе, тьма-тьмущая.
— Выскребем, — заверяю я.
— Да уж постараемся.
Мы расстались до утра, когда со случайным грузовичком нам удалось выехать в Ялту.
При мне снова был мандат, на поясе, под кожаной тужуркой нараспашку, снова висел револьвер, и только в сапогах теперь не было никакой нужды.
«Комиссар санатория!» — вспоминала я, чувствуя себя все более значительной.
Рабфак вернул мне пристрастие к книгам, и корзинка моя, сильно потрепавшаяся от долгой бессменной службы, была набита ими сверх меры, так что замок едва придерживал потемневшую и кое-где продырявленную плетеную крышку.
В Крыму цвели глицинии и розы, раскачивались широкие ветви каштанов. Солнце и тепло расслабляли и будоражили. Билось сердце. Не было ничего, кроме настоящего. Ольга ждет меня в Ялте, Валерьян приедет туда же. Скорее к морю, скорее к ним.
Василий Ивапович и неразговорчивый, степенный Николаич, которого посылали нашим начальником, дремали, надвинув на лоб шапки и подняв воротники. Николаич уже успел расположить меня к себе своей внимательностью и приветливостью.
— Люблю молодежь, — в вас наше будущее, любил и люблю, — заверил он меня.
«Какая интересная боевая жизнь была у этого старика», — с невольной завистью думала я. Николаичу было не больше сорока лет, но в те времена четыре десятилетия казались мне огромным сроком.
Баррикады и рабочие демонстрации, тайные тропинки, ведущие сквозь лесные чащи на места подпольных маевок, прокламации, печатаемые в подземельях... явки... преследования... налеты жандармов... тюрьма... бегство из ссылок... опасность... борьба, победа... Какая честь и счастье! Зачем я опоздала родиться? Чем оправдать мне право быть товарищем этого человека, право идти с ним в одних рядах...
Свежесть бессолнечного утра отгоняла сон. Все волновало и радовало меня — и природа вокруг и ожидание встречи с друзьями. Мы пересекли ярко-зеленую долину, окаймленную неподвижными тополями. Тополя сопровождали всю мою жизнь. Их седые листья заглядывали в дом моего детства. Позднее они шумели вдоль моих военных дорог. Они были изображены на картинках в моих юношеских книгах. Я читала о них в сказках. Теперь они выстроились почетным караулом вдоль дороги у подножия гор. Горы были остроконечными, скалистыми. Незаметно мы поднимались к перевалу. Редкие птицы перекликались в чаще. Сырость пронизывала до костей. В облаках исчезли контуры деревьев. Я ощутила разочарование. Перевал — и никакого величия. Только иногда сквозь белую пелену показывался и снова исчезал серый горный шпиль. Скоро перевал остался позади. Его легко было и вовсе не заметить... Небо было со всех сторон; долину затянул нежный, хрупкий туман.
Деревня, которую мы проезжали, казалась такой же заброшенной, как остатки генуэзских башен. Мы радовались мальчишкам, просящим хлеба. Значит, за наглухо закрытыми дверями домов были люди. Одичавшие цветы ползли вдоль поломанных оград и пустых террас. Доски накрест загородили двери лавчонок, в которых давно ничем не торговали.
Стало жарко. Сотни незнакомых горьких и пряных запахов пропитали воздух. Я пыталась отгадывать: роза, левкой, ковыль? Ковыль у моря, возможно ли?
Неожиданно лопнула камера у нашего автомобиля, и мы остановились. Кусты шиповника и ежевики соперничали в пышности. Я уселась на траве, и меня охватила истома от зноя, долгого пути, от запаха цветов, надушивших ветер. Эта южная весна околдовала меня, спутала все ощущения, все желания. Но в одном я была уверена: жить хорошо. Превосходно! И когда мы трогаемся, я оглядываю море, землю, цветущие рощи и небо, пронизанное солнечными лучами, с чувством, будто все это принадлежит мне одной.
В Ялте я узнала, что Ольга уехала, и мне ничего другого не остается, как ждать ее, расположившись в доме, обвитом голубыми глициниями. Я составила стулья так, чтобы на них можно было лечь. Василий Иванович расстелил свою шинель на полу, и мы заснули, как на фронте, отлично обходясь без подушек и одеял.
ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ
Мне хочется скорее все узнать об Ольге. Разве не было между нами уговора не таиться и сообщать друг другу каждую мелочь о пережитом.
В ее комнате стоят рядом две кровати. На письменном столике подле бутылки с рыжей увядшей розой лежит листок бумаги. Чьей-то незнакомой мне рукой на нем написано:
«1. Не финти, будь сама собой.
2. Не создавай себе глупых кумиров. Посвяти себя лучшим идеям времени.
3. Не волнуйся из-за пустяков. Воля и вера в себя и в свои силы — не есть самоуверенность.
4. Не устраивай эгоизма вдвоем.
5. Читай эти заповеди трижды в день и люби Сайку».
Кто это писал? Чья кровать стоит рядом с Олиной? Чей кисет валяется на подоконнике? Подозрения смущают меня. Кто это — Сайка? Женщина или мужчина? Косоворотки в шкафу ничего не объясняли. Я не решилась заглянуть в деревянный ящик с крышкой, стоящий в углу комнаты и, видимо, заменявший чемодан. Но Василий Иванович, разгадавший мое беспокойство, хитро завертел бороденкой.
— Пахнет, безусловно, махорочкой и вообще мужским «элементом», — заявил он.
«Эгоизм вдвоем, — вспомнила я без всякой радости. — Утаила от меня! А еще, называется, друг».
Но Василий Иванович помешал мне углубиться в горестные размышления о непрочности дружбы.
Голодные, как воробьи, мы отправились искать столовую и нашли ее при местном отделе коммунального хозяйства. После долгих препирательств нам наконец выдали обеденные талоны, и, поев, мы отправились искать партийный комитет. Нашли мы его в конце кипарисовой аллеи, тянувшейся от моря к белой вилле далеко под горой. Желтые розы густой сеткой обвили террасу, прилепились к стенам и прикрыли листвой выбоины от пуль. Венецианское окно было разбито. Дом, видимо, брали с боя.
Едва мы вошли внутрь, как сразу же нас поглотила знакомая толчея и оглушил многоголосый говор. Тут было все, как в Москве, как в Политотделе армии, как в любом большом или малом штабе от Тихого океана до западных границ. Люди разговаривали, писали, курили в коридорах и в комнатах, примостившись на столах и подоконниках. Секретаря укома мы нашли в комнате, сплошь облицованной зеркалами, за письменным столиком, украшенным деревянной мозаикой. Креслом ему служил ящик из-под патронов. Нас забросали вопросами о Москве. От волнения лицо секретаря стало влажным. Он признался мне, что тоскует по Иваново-Вознесенску, откуда прислан в Крым на поправку.
— Третья стадия, — сказал он печально. — Да разве теперь время думать о здоровье. Я так и говорю товарищам, а они ругаются. Отдохнуть успеем, а теперь есть дела поважнее.
Он старался удержать кашель, от которого еще ярче становился нездоровый румянец щек. Кашляя, он рассказывал о том, что в горах прячутся белые банды, а с севера уже едут больные, для которых не приготовлено ни питания, ни крова.
— Как видите, дела много, и важного дела. Мы дадим вам обоим санаторный район. Через две недели из Питера приедет партия больных с Путиловского завода. Нужно поставить товарищей на ноги. Сумеете?
— Сумеем, — ответила я за себя и за Василия Ивановича.
Тут же в белом доме укома мы быстро отыскали всех, кто мог научить нас, как приняться за дело, и только поздно вечером после целого дня беготни я вернулась к дому Ольги и расположилась на траве у калитки. В полночь, треща и дымя, к дому подъехал маленький пыльный «рено», и из него вышла Ольга. За ней шел высокий мужчина в белой русской рубашке.
— Вот моя подруга, о которой я столько тебе говорила, Саинька, — сказала Ольга после того, как мы с ней крепко расцеловались.
Я вгляделась, но в темноте аллеи увидела только очертание кудрявой головы и широкие плечи.
— Знакомьтесь, Александр Иванович Сапегин, а для тебя, как и для меня, просто Сайка, врач и старый большевик. С тысяча девятьсот четырнадцатого года в партии, — тараторила Ольга. — Я забыла раздобыть керосину, так что ляжем спать при звездах, — добавила она, входя в дом.
И мы легли. Напряжение первых минут проходило с трудом. Разговор вертелся вокруг пустяков. То ли разные мы стали, то ли отвыкли друг от друга? Мысль о том, что чужой человек мог отдалить меня от Ольги, огорчила меня.
Кто он, откуда взялся, как смел он стать между нами? Разве я не ближе ей, разве мы не связаны навсегда пережитыми вместе опасностями, задушевными признаниями, общими радостями, печалями и борьбой? Но ведь и у меня есть Валерьян. И разве не бывало подчас, что из моих мыслей исчезала подруга? Чего же я хочу? Тут должно быть равенство. Но кто же все-таки этот Сайка? Может, он уже знает многое из того, что я предназначала только для одной Ольги? В желании до конца открыться, отдать все, что имеешь, не отдавала ли она ему и полученное от других, их тайны, их мысли?
Вероятно, Сайка знает меня, как Валерьян знал Ольгу. Ведь прошел год. И какой год! Кто для меня сегодняшняя Ольга? Я ведь даже не знаю, подруга ли она мне. В 1919 и 1920 годах мы были верными друзьями, а теперь?
* * *
Я проснулась оттого, что огромная роза шлепнулась о мою щеку. Это Сайка обстреливал меня с террасы цветами. У него оказалось мужественное умное лицо. Голос его понравился мне еще накануне. И все же первое мое чувство к нему была враждебность, надежда увидеть в нем плохое, недостойное Ольги.
— Вставай, лежебока, — сказал он с простотой и радушием давнишнего друга.
Ольга уже готовила завтрак из мясных консервов, и в доме аппетитно пахло. Как всегда, движения ее были лишены всякой суетливости, а лицо еще более спокойно, чем обыкновенно. Она была счастлива, и это сказывалось во всем... Счастье делало ее красивой, даже со мной она была еще добрее, чем раньше.
Меня огорчало, что Сайка и Ольга так подходят друг к другу не только внешне, но, видимо, и всем своим внутренним складом. Значит, их любовь — не случайность, значит, Ольге не нужна наша дружба. Ревнивая досада грозила довести меня до слез. Но никто не замечал моего состояния.
Не успела я подняться с постели, как Ольга, пристыдив меня за лень, потребовала повторения всего урока гимнастики, который когда-то в армии она ввела в наш обиход.
Меня заставили съесть тарелку каши с мясом и запить завтрак какими-то каплями. — Ольга по-прежнему любила лечить. Было семь часов утра, и я поджидала Василия Ивановича, чтобы ехать в район. Ольга и ее муж торопились на работу.
— Ты бледна и худа, — сказала мне Ольга на прощание, — вот что мне не нравится. А впрочем, хотя я и не успела вытрясти из тебя ничего, но уверена, что все — сущие пустяки. Пора повзрослеть, миленушка. Я приеду посмотреть, как ты устроилась на новом месте и, главное, есть ли там молоко? Тебе оно необходимо. А про себя что говорить! Лучше не бывает. Живу, сама видишь, отлично. Ты, конечно, уже сообразила, что Сайку я ужасно люблю. И он меня вроде как бы тоже. Во всяком случае, не бьет, — со смехом закончила она и, снабдив меня банкой с консервами, платьем и бутылкой лекарства, побежала к поджидавшему ее «рено». — В случае затруднений присылай гонца, мы поможем, уком, я и Сайка, — крикнула она, уже садясь в машину.
Оставшись одна, я заплакала. От обиды, от грусти или от неясного желания быть такой же спокойной и удовлетворенной, как Ольга, трудно сказать почему, но слезы полились у меня рекой.
Хорошо плакать, когда плакать, собственно, не о чем. И я с горьким удовольствием позволила слезам литься. А час спустя Ольгин «рено», заботливо присланный за мной, отвозил нас с Василием Ивановичем к месту работы, в деревушку подле Алупки, и ветер добросовестно осушил мои щеки.
ТЕНИ ПРОШЛОГО
Минуло несколько дней. Мы обосновались на новом месте, а мне уже стало казаться, что я в Крыму с тех самых пор, как его заняла Красная Армия.
Странный мир открылся мне здесь. Мир безлюдных дворцов, одичавших, запущенных розариев, заплесневевших прудов, развалившихся беседок. Мы бродили по нарядным залам, удивляясь их красоте или уродству. Было видно, что праздность господствовала в этом умершем мире. Молельни соседствовали здесь с холодными бальными залами. Картины, исполненные таланта, висели подле грубо раскрашенных литографий, на драгоценных коврах валялись безвкусно вышитые подушки. Вырождение отметило не только дома и их убранство, но и лица, глядевшие на нас с портретов. И день за днем, упрямо преодолевая враждебность и скуку, мы рылись в шкафах, пахнущих плесенью и духами. Отбрасывая ненужную рухлядь, мы собирали необходимую утварь для первых советских санаториев. Мы увозили на телегах сервизы, кастрюли, подушки и многое другое в светлые, удобные дома и дачи, годные для приема больных.
Василий Иванович строго наблюдал за перевозкой, а я старательно вписывала в инвентарную книгу каждую взятую нами вещь.
Однажды в барской даче у моря я дольше обыкновенного провозилась с описью вещей. В комнатах, давно не проветриваемых и безлюдных, пахло нафталином и плесенью. В сумерках едва различима была тяжелая резная мебель. Неожиданно, уже направляясь к выходу, я услышала чьи-то шаги и возню. Пошла на звук, стараясь ступать неслышно. В спальне кто-то возился у комода. Было что-то мерзкое и вороватое в круглой спине человека, наклонившегося над ящиком. Я заметила непомерно большое и очень розовое ухо. Человек достал из комода золотую цепочку и торопливо положил в карман. И снова принялся ворошить кружева, разбрасывать носовые платки и мужские рубашки, ища чего-то в этой груде материи.
— Стой! — крикнула я, потеряв самообладание.
Человек повернулся, и лицо Николаича, нашего с Василием Ивановичем начальника, потное и растерянное, оказалось передо мной. Трусливая, заискивающая улыбка растянулась между ушами, и в ней исчезли и без того маленькие блеклые глазки.
— Вы что-то взяли! — продолжала я, сама теряясь от своих подозрений.
— Рехнулась, прямо-таки рехнулась! Чего это тебе показалось, камса ты эдакая? (Камсой звали в Крыму молодых коммунистов.) Я, видишь ли, в порядке проверки. Как, мол, все ли цело. — Голос Николаича становился по-обычному самоуверенным и нагловатым. — Умора мне с тобой, прямо. Меня, революционера, заподозрить! В чем? Эх ты, девчонка. Ну ладно, ладно. Оно и правильно. Зоркость требуется. Всяко бывает. С виду человек преданный партии, а поройся в его прошлом — лгун и сволочь.
C тяжелым чувством пришла я в этот вечер к себе. Как быть? А вдруг я ошиблась! И решила написать обо всем письмецо Ольге.
Вечерами после работы мы чистили и красили пустые комнаты для больных товарищей, которых ждали. С гордостью я расставляла на столах вазочки для цветов.
День, в который мы перевезли бильярд, мороженицу и аппарат для электрического массажа, был отмечен на заседании нашей партийной ячейки как день достижений. А когда Василий Иванович раздобыл в одном из дворцов полную лекарств стенную аптечку, баллон с кислородом и десятка два одеял, мы наградили его лишней порцией серебристой камсы за обедом. Уже два санатория были почти готовы. Татарка Файзет — санитарка, Василий Иванович — завхоз, старичок доктор, знавший Чехова и называвший себя «слугой народа», и я — комиссар — были счастливы и бесконечно горды оказанным нам доверием. Ведь нам вверяли здоровье сотен людей.
Мы нашли подушки и скатерти, чашки и гамаки, пианино и аптечки. Мы отобрали верных людей. Рыбаки принесли нам бочки мелкой рыбешки, крестьяне — сухие фрукты минувшего сбора и лечебные вина. Но хлеб, жиры... Их у нас почти не было. Как старатели, ищущие золотоносные реки, рыскали мы за мукой, ворочая камни, поднимая люки, опускаясь в погреба и подполья.
О хлебе для наших больных я думала, просыпаясь среди ночи, работая, расхаживая в аллеях роз и левкоев.
Старичок доктор говорил растерянно;
— Больные не прибавят в весе, питаясь котлетами из камсы. Мы не даем им и двух тысяч калорий в день.
* * *
Время продолжало оставаться тревожным. Телефонная связь с Ялтой то и дело прерывалась. Бандиты орудовали в горах и на дорогах — перерезывали провода, нападали на проезжающих.
В эти дни, не добившись разрешения на выезд, я отправилась в Ялтинский уком требовать помощи в доставке продовольствия. Мучила меня еще мысль о том, отчего не едет и не пишет Валерьян. Я была в Крыму уже давно, он находился где-то неподалеку, а встретиться нам все не удавалось.
В укоме шло городское партийное собрание. Был жаркий вечер, и часть собравшихся расселась на террасе с потрескавшимися колоннами.
Дверь в комнату была открыта настежь, и на подоконнике я увидела Ольгу и Сайку. Собрание было многолюдное, и протиснуться к ним было невозможно. Мы обменялись улыбками. Ольга помахала мне своей красной косынкой. И вдруг неподалеку от нее в человеке, стоявшем вполоборота, я узнала Валерьяна. Его небритое лицо показалось мне чужим, постаревшим. Брюки навыпуск и подпоясанная шнурком косоворотка сменили военный костюм. В одном из своих писем Ольга писала мне, что он демобилизовался и переменил несколько мест работы, переехав из Симферополя в Севастополь. Значит, теперь он обосновался в Ялте? Отчего же он ничего не писал мне об этом?
Я не отрывала глаз от его лица. Валерьян торопливо скручивал из газеты «козьи ножки», и синий дым часто скрывал его от меня. Рядом с ним стояла молодая миловидная женщина в беленькой блузке. В том, как она несколько раз склонялась к нему, чувствовалась их несомненная близость. Внезапно он ласково ей улыбнулся. Ревность обожгла меня. Щеки мои запылали. Я едва подавила желание закричать, броситься к Валерьяну.
Тщетно пыталась я пробраться к Ольге, найти в ней поддержку. Это по-прежнему было невыполнимо. Между тем собрание шло своим чередом, и неожиданно раздавшиеся громкие рукоплескания вывели меня из оцепенения.
К столу председателя подошел очень статный красивый человек. Прямо и молодо взглянул он на собравшихся и заговорил, почти не повышая голоса. Товарищ, сидевший рядом на ступенях террасы, шепнул, поймав мой вопросительный взгляд:
— Это Дмитрий Ильич Ульянов, врач, председатель Крымского ревкома, брат Ленина.
Дмитрий Ильич говорил о том, что так волновало всех нас. О голоде, о разрухе, о белобандитах, о великой ответственности коммунистов, строящих первую всероссийскую здравницу. От имени ревкома он обещал доставить санаториям хлеб, мясо и жиры для больных, предлагая наряду с этим немедленно приняться за хозяйство при санаториях, начать ловлю рыбы, наладить садоводство, разведение птицы и кроликов.
Вглядываясь внимательно в лицо оратора, я искала в нем сходство с Лениным. Дмитрий Ильич был значительно выше ростом, но улыбка, от которой щурились его умные глаза, очень напоминала старшего брата.
Когда обсуждение первого вопроса «повестки дня» закончилось, Дмитрий Ильич, сославшись на необходимость срочного возвращения в Севастополь, распрощался со всеми и вышел. Собрание продолжалось уже без него.
— В текущих делах вопрос о поведении Валерьяна Зубова, — объявил председатель.
Не успела я отдать себе отчет в услышанном, как слово предоставили Александру Ивановичу Сапегину.
Две керосиновые лампы отчаянно чадили. Налетали москиты, больно кусая. Было томительно душно.
— Товарищи, — начал Сапегин громко, —Дмитрий Ильич Ульянов рассказал нам о великих трудностях, которые нам, коммунистам, нужно преодолеть здесь, в Крыму. Нанося нам удары в спину, в горах скрываются остатки врангелевских банд. Пробираясь к морю, белобандиты нападают на транспорт, доставляющий продовольствие больным, убивают и терроризируют местное население. В городах орудуют спекулянты, срывают наши начинания саботажники. Борьба продолжается, но мы обязаны победить голод и разруху.
К сожалению, есть среди нас товарищи, которые видят не дальше своего носа. Один из них, товарищ Зубов, еще недавно отважный начдив, хорошо воевавший в Красной Армии, систематически отказывается от работы, на которую его посылает партия. Он критикует партийную линию. За несколько месяцев товарищ Зубов переменил не менее десяти мест, хотя в их выборе ему шли навстречу. Теперь он пишет в уком, что работа по снабжению не дело коммуниста. Зубов утверждает, что ему нет применения в современной России, потому что он только воин, а партия сложила оружие, отступает, сдает позиции.
Товарищ Зубов отнюдь не мальчик, ему тридцать лет. В прошлом, еще до революции, ему посчастливилось прослушать три курса университета, и он многому мог бы научить нас. Но от этого он тоже отказывается. К тому же в последнее время он стал много пить. Давайте же, товарищи, сообща попытаемся разобраться в том, что случилось с Зубовым, и попробуем ему помочь. Зашел человек в тупик, а выхода не ищет. И не в первый раз Зубов плутает. Ведь известно, что он был некогда анархистом. — Сапегин помолчал и через минуту добавил: — А теперь послушаем самого товарища Зубова.
Необычно жестким и незнакомым показался мне голос Валерьяна.
— Что мне сказать? — начал он. — Все, что я чувствую, по сути, мое личное дело. Не нравлюсь я вам, исключайте.
Собрание зашумело.
— Никто тебя не собирается исключать! — послышался чей-то голос.
— Извольте, я выскажусь. Да, я человек ищущий, и рассказ мой, пожалуй, нудная для вас эпопея о лишнем человеке, о бесцельно существующем индивидууме, — ненатурально вскинув голову и как бы любуясь переливами своего голоса, произнес Валерьян.
На лицах многих присутствующих отразилось недоумение.
— Да, я пришел из другого мира, более того, в университете я увлекался правыми течениями, даже числился в монархистах. В начале революции меня увлекли черные знамена, и я стал анархистом, но и в анархизме скоро разочаровался. И все же к партии я пришел честно, меня захватила стихия войны. Боролся я тоже честно, товарищи, не жалея самой жизни в борьбе за советскую власть. Но война кончена. Наступают будни, и что самое страшное — партия отступает. А я человек наступления. И вот я мечусь. За эти месяцы я переменил черт знает сколько званий и работенок. Предлагали мне учиться, но поздно. Вы мне объясните другое: почему снова буржуазия вылезла? За что же мы боролись? Вы скажете, что это — временное отступление, тактика революции и прочее? Не поверю. Я дрался с международной буржуазией, а теперь мы ей отдаем концессии! Как это следует понимать? — Он провел рукой по лбу и решительно тряхнул головой. — Нет, я пе приемлю нэпа. Хозяйственника, администратора вы из меня не сделаете. Не для этого я дивизию в бой вел. Я подал заявление. Прошу отправить меня за границу. Там есть еще с кем воевать. А здесь тишь, да гладь, да буржуям благодать.
Последние слова Валерьян выкрикнул. Первый раз видела я его таким и вдруг поняла, что он ко всему прочему еще и немного навеселе.
Наступившая было в комнате тишина сменилась громким гулом негодующих голосов. Неожиданно Валерьян заговорил снова:
— Отправьте меня в Сибирь, я там зверей бить буду, золото искать, а тут мне нечего делать. Большевики поворачивают назад, к капитализму. Революция пролетарская кончилась... Кончилась!..
Он сжал виски руками и замолчал.
Какие страшные по нелепости слова сказал Валерьян. Что это — безумие или дезертирство? Искренен ли он или лжет? Совсем недавно умерла Зина на льду Невы, совсем недавно был X съезд партии. Делегаты приезжали с фронта, и мы встречали и приветствовали воинов революции. В горах Крыма бродят банды, по всей стране разбрелись и притаились враги. Правдив он в своем заблуждении или хитрит — безразлично. Его мысли, вольно или невольно, вредны, он вносит смятение.
Мне пришло на ум, что на оборванной проволоке Перекопа еще не стерлась кровь и еще болтаются на ветру лохмотья красноармейских шинелей. Сколько еще будет боев и трудностей! Борьба ведь только началась. А Валерьян толкует о буднях, об отступлении... Невозможно понять. Невозможно принять.
Председатель собрания объявил перерыв. Ольга подошла ко мне и крепко сжала мои руки. Слезы хлынули из моих глаз. Стыдясь их, я потащила ее в темную аллею. Моя исповедь была бессвязной, но она сразу все поняла.
— Плохо! — сказала Ольга. — Ведь, помимо всего остального, он еще связан с другой и к тому же очень хорошей женщиной. Ты ведь видела ее — они стояли рядом.
Впезапно из-за стены кипарисов вышел Валерьян.
— Ты? — произнес он, узнав меня. — Ты была на собрании...
— Да, была, все слышала и все видела, — отвечала я тихо.
— Но что же, собственно? — смутился он.
— Твоя жена очень хороша собой, — ответила я, задыхаясь.
— Ах, ты об этом. И, как всегда, делаешь поспешные выводы.
— Не надо лжи, Валерьян, не надо.
Он торопливо закурил папиросу и, неестественно улыбаясь, спросил:
— Судя по всему, ты хочешь со мной поссориться? Не знал, что ты любишь мелодрамы.
Я вспыхнула.
— Я люблю не мелодрамы, а честность в отношениях между людьми!
В это время к нам подошла женщина, которую я уже видела с Валерьяном. Она показалась мне еще более красивой, чем на собрании. Подойдя к Валерьяну, она взяла его под руку и вопросительно поглядела на нас с Ольгой. Не говоря ни слова, я потянула за собой Ольгу и пошла по аллее. Прежнего раздражения я больше не испытывала. После жестокой боли от неожиданного удара я почувствовала теперь полное безразличие и внутреннюю опустошенность.
Ольга увела меня к себе, а на другое утро я уехала в санаторий. Что со мной было потом? Приступ малярии, солнечный перегрев или то, что в старых книгах называлось нервной горячкой, — это не смогли определить ни Василий Иванович, ни наш старичок врач.
Только через несколько дней я стала поправляться. Ольга в коротенькой записке обещала приехать ко мне и бранилась. «Сейчас болеть не время!» — таков был смысл ее письма. Она была права, но если бы она знала, как трудно мне было. В эти дни я получила письмо и от Валерьяна, бесцельное, как все письма, возвещающие о расставании.
«Родной девушке счастье и радость, — писал он в обычном своем приподнятом стиле. — Немножко горя, но все остальное праздник! Мне жаль, что я причинил тебе горе, но иначе я не мог. Ведь я сложный, путаный, и тебе меня не понять. Я и сам не всегда себя понимаю. С той, с другой женщиной, я расстался. Одного лишь не знаю — что буду теперь делать один? Может быть, все-таки ты мне напишешь? Я не скоро уеду. Через неделю, через месяц, а может, никогда. Истосковался по тебе! Когда я тебя увижу, и увижу ли вообще? Поехать, что ли, в Сибирь, золото добывать... Ты морщишь лоб, я слышу твой голос: «Это неврастения, лечись! Таких большевиков не должно быть». Прости. Тоскует моя душа!..»
Я осторожно уложила письмо в коробку с унылым полустертым пейзажем на крышке. Первым побуждением было сжечь эти листочки, но потом я решила их сохранить. А еще несколько дней спустя я спокойно подвела итоги: нет, я больше не хотела видеться с Валерьяном.
Потом я долго бродила по нижней дороге, вдоль моря. Морской прилив весело гладил прибрежную гальку. И всякий раз от его прикосновения она начинала чудесно искриться и блестеть. Едва уходила вода, камешки быстро подсыхали. Обесцвеченные, неровные, они казались всего лишь булыжниками, уродливыми, серыми, пыльными. Разве не таким же был и Валерьян? Наша эпоха подобна этим чудотворным волнам. Прикоснется к таким, как он — и посеребрит их хоть на мгновение. А потом схлынет вода, чтоб тотчас же вернуться, а они поблекли и снова неотличимы от щепок, выброшенных на берег прибоем.
НЕУДАЧНАЯ ВЫЛАЗКА
И снова ровной чередой двинулись дни. По-прежнему вели мы, коммунисты и комсомольцы, задушевные беседы по вечерам на скамейке перед старым домом, где разместился местный партийный комитет. Нас было несколько десятков человек, молодых коммунистов и комсомольцев. Вожаком нашим был волжанин Егоров, самарский кузнец, бывший партизан, несмотря на чахотку, загнавшую его в Крым, или, может быть, благодаря ей, неутомимый и быстрый в решениях. За худобу и смуглую кожу мы прозвали его Гайаватой. На этой же скамье, обвитой жимолостью, в тот день, когда верховой из соседней деревни привез известие о том, что белая банда спустилась с гор, убила комсомольца и разграбила обоз с продовольствием, Егоров устроил летучий митинг.
— Ребята, товарищи! — сказал он нам. — Неужели мы, бойцы за мировой Октябрь, не можем справиться с остатками врангелевской нечисти? Какие мы после этого большевики? Предлагаю немедленно двинуться в горы и покончить раз и навсегда с врагами революции. Насильно мы никого не тащим, но кто не трусит, пойдет за мной.
— Позволь, — отозвался кто-то, — а как же уком! Твоя затея — это партизанщина.
— Мы должны помочь партии сами, а не дожидаться директив, — ответил Егоров. — У нас есть оружие и военный опыт. Можно поставить в известность военное командование в Севастополе. Через Бахчисарай нам пришлют подкрепление, и в одну ночь мы окружим бандитов, уничтожим их и наведем порядок в горах.
Начался спор. Уламывали сомневающихся, обсуждали мелочи предстоящего похода. Остатки рассудительности исчезли в обуявшей нас всех жажде подвигов. И, отправив телеграммы в Ялту и Севастополь, в ту же ночь двинулись в горы.
Пробираясь в зарослях колючего кустарника, мы поднимались на отроги Ай-Петри. Море осталось далеко внизу. При свете луны, такой опасной и предательской в эту ночь, цветы в траве казались нам пестрыми насекомыми. Забыв, ради чего мы ползем вверх по обрыву с винтовками и патронташными лентами вместо поясов, мы испытывали желание растянуться в траве, глядя на светлячков, вспыхивающих, словно крохотные мерцающие звезды. Ай-Петри высился над нами.
— Уж очень сладок этот Крым, — заметил кто-то. — Тесно здесь. Эх, хорошо бы на наше, на волжское приволье.
— Тише! — прошептал Егоров.
И мы продолжали молча продвигаться вперед.
Случилось так, что я отбилась от товарищей и внезапно, оглядевшись вокруг, увидела, что осталась одна. Луна ледяным острым светом освещала ложбинку и деревья вокруг. Стараясь не шуметь, я бросилась в тень и побежала в глубь леса, вверх.
Проклятая луна освещала поляну. Деревья гнались за мной, и за каждым стволом, казалось, прятались, выслеживая меня, какие-то тени. Как отыскать дорогу к своим? Внезапно чья-то рука тяжело сжала мое плечо. Еще секунда, и человек в рваной шинели вырвал у меня винтовку.
— Ты кто? — хрипло спросил он.
Как и я, мой противник был совершенно один. Я попыталась вырвать у него винтовку, мы сцепились и упали на землю. Но силы были неравны. Тяжелый удар в переносицу, и я упала, обливаясь кровью.
— Подохла, — прозвучал надо мной мужской голос.
Я продолжала лежать неподвижно. Сквозь кровь, облепившую мои ресницы, я видела, как отпустившая меня рука подняла с земли большой камень.
— Подохла, — повторил обманутый моей неподвижностью человек и отбросил камень. Он привстал и протянул руку к винтовке. И в ту же минуту я вскочила, успев опередить его. Спусковой крючок легко поддался нажиму пальца. Раздался выстрел. И тотчас же мой противник ударил меня чем-то тяжелым в висок. Теряя сознание, я услышала шум и выстрелы.
Тошнота и мягкий комок в горле, мешающий дышать и говорить, были первыми свидетельствами того, что я осталась жива. Но все смешалось в моей памяти — сроки, события. Вслед за темнотой, вслед за тщетными попытками проглотить или выплюнуть комок, застрявший в горле, ощутила невыносимое физическое страдание. Голова и ноги мои были забинтованы, боль сверлила кости. Я застонала и открыла глаза. Неужели это далекое, расплывчатое лицо принадлежит Ольге? Вещи вокруг стали по местам, я начала понимать происходящее.
— Тебе лучше? — спрашивала Ольга, и голос ее был полон материнской тревоги и нежности, от которой хотелось плакать. Попробовала ответить, но не смогла. Хрип вырывался вместо слов из моего горла. И начались дни болезни.
Так одной из первых больных нового санатория оказалась я — комиссар санаторного района.
Ольга отдавала мне весь свой досуг. Она ухаживала за мной, как мать. Но когда врач объявил, что я вне опасности, она не удержалась от упреков.
— Угораздило вас, — сказала она с досадой. — Сорок отчаянных головушек отправились в горы. Бессмысленная, вредная затея! Тоже, называется, большевики. Анархистики или дети, не разберусь сама. Мы из-за вас секретаря комсомола с выговором сняли, да и тебе, естественно, нагоняй полагается. Поправишься, заставим ответить. Экие тоже герои. Хорошо еще отделались, ведь могли вас всех переловить. А зачем? Думаешь, мне тебя жалко? Нисколько! Эх ты, героиня! Чучело ты книжное! Лезла небось и думала: какая храбрая, всех удивлю своими подвигами. А вышло вот что. — Она печально погладила мои бинты. Я была запелената с ног до макушки, как новорожденная.
Беспомощность казалась мне унизительной. Раны заживали медленно. По временам я просила Ольгу рассказывать мне о том, что видно с балкона, о том, что происходит вокруг.
— В санатории очень шумно, — рассказывала она. — Прибыло двести иванововознесенцев. Заселены не только все комнаты, но и домик Василия Ивановича. Сам он спит в солярии и очень этим доволен. Вчера был концерт. С Украины прислали муку. Из Феодосии идет рыба. Все очень хорошо, будет еще лучше. Больные начали прибавлять в весе.
Приближалась осень. Голову мою высвободили из повязок. Временами ветер жалостливо гладил мои виски. Но бинты вокруг груди и плеч все еще мешали дышать.
Тревожные мысли наполняли мои неподвижные дни. Снова с горечью вспоминала я Валерьяна.
Ольга осторожно сообщила мне, что он уехал неизвестно куда.
«Как неузнаваемо меняются человеческие характеры, — думала я. — Отныне, раз и навсегда, когда меня спросят о ком-нибудь, даже близком, я отвечу: в таком-то году и месяце он мне казался таким-то».
Страстно и нетерпеливо ждала я выздоровления. Незаметно прибывали силы и с ними потребность в движении.
Однажды, целуя меня на прощание, Ольга сказала, стараясь шуткой прикрыть свою радость:
— А знаешь, я, кажется, брюхата. Саша так рад! Приятно иметь ребенка, когда тебя черт знает как крепко любят.
— А ты тоже хочешь иметь ребенка? — спросила я, взволнованная Ольгиными признаниями.
— Не знаю, — она пожала плечами. — Саша говорит, что дети скрепляют отношения между мужчиной и женщиной.
Вскоре я наконец поднялась с постели. Как передать радость первого самостоятельного шага? Ноги упорно пытались ослушаться меня, подгибались, дрожали.
За три месяца моей болезни многое успело перемениться вокруг. Горы стали свободными и безопасными, дворцы один за другим превращались в дома отдыха и санатории.
По дорогам двигались грузовики с продовольствием. И больные, полные надежд на выздоровление, прибывали со всех концов страны.
Вскоре я стала замечать, что, кроме работы, которой Ольга отдавала столько энергии, жизнь ее обогатилась новым чувством. Беспомощность и беспокойство либо умиротворение попеременно отражались на ее лице. Ее муж с милой чуткостью отзывался на каждую ее мысль, и казалось, не одна Ольга, но и он любовно вынашивал их ребенка. Раньше между ними случались ссоры, теперь он уступал ей во всем. Радостно и чуточку завидно мне было смотреть, как утром и вечером он провожал ее, осторожно отбрасывая с дороги камни, чтобы она не оступилась. Оба они решили к весне, когда их будет уже трое, ехать в Москву.
Да и все мы беспрестанно загадывали о будущем, которое неизменно казалось нам полным радостного труда и побед.
ПАРТИЙНАЯ ЧИСТКА
Наступили дни партийной чистки. В большой комнате с окнами, увитыми мелкими японскими розами, точно вылепленными из воска, мы собрались все вместе — сто девять человек коммунистов. Сто девять человек, знавших и не знавших друг друга. Сто девять бойцов, соратников и товарищей. Мы старались вглядеться в самое сердце друг другу, проникнуть в чувства и мысли. Я волновалась, как и все. Сто восемь человек будут слушать мою исповедь, каждый сможет спрашивать меня обо всем. И каждый обязан ответить мне на любой мой вопрос.
Товарищ, присланный из Симферополя, занял место у стола, и секретарь написал на белом листке протокола число и месяц.
Один из нас встал и начал рассказывать свою биографию.
— Мой отец и дед были рабочими, — начал он. — Четырнадцати лет я стал к станку. Шестнадцати лет на заводе Гартмана в Луганске мне довелось повстречаться в цехе с Климом Ворошиловым, первым большевиком, которого я увидел. И определилась моя жизнь... Пять раз меня арестовывали, два раза ссылали, однажды я бежал...
Вглядываясь в лицо товарища, проходящего чистку, я вижу преждевременно поседевшие виски, умный взгляд, и когда под аплодисменты он возвращается на свое место, мне уже не так боязно и неприятно стать на его место у стола и рассказать о себе. И я говорю, строго следя за тем, чтобы не смягчить свои проступки, не преувеличить то, что мне кажется хорошим, не утаить плохого.
Три месяца я была прикована к постели, целых три месяца прошли для меня совершенно бесполезно. Я прощу партию простить мне и моим товарищам наше неразумное предприятие.
Сто девять человек отчитывались в эти осенние крымские вечера перед партией, перед рабочим классом.
— Заносит меня, — сказал Егоров. — Заносит в сторону с дороги. Но без партии, как без воздуха, я не проживу. Подтянусь, выправлюсь. А биография моя, она несложная. Отец слесарем был — горькая доля, горькое пьянство, помер. Я тоже в прошлом слесарь.
Говорили о себе недавние крестьяне, рабочие, матросы, учителя, врачи, молодые и старые. Волнуясь, краснея либо бледнея, то сбивчиво, то связно рассказывали они о своей жизни.
Татарка Файзет из Кокозов, отец которой был муэдзином и продал ее купцу из Трапезунда. Подруги помогли Файзет бежать с турецкой фелюги. Партизанский отряд и Красная Армия стали для нее домом.
— Я хочу видеть светлую жизнь и сама хочу жить свободно, — сказала она, обращаясь к сидящим в зале.
Отдельная жизнь находит себя в массе других жизней. И старый вопрос, в чем смысл бытия, кажется мне сейчас не таким уж неясным.
Проверяла себя в поисках ясного ответа — почему я по эту сторону баррикад?
Совсем недавно я узнала кое-что о судьбе своего отца. Подобно Кате, он перешел границу, бросил родину вскоре после Октябрьской революции. Следы его затерялись на улицах Парижа. По слухам, он вел жалкое существование и, опускаясь все ниже, дошел до эмигрантского трактира, где играл на гитаре.
Судьба Кати была не менее печальна. Какой-то южноамериканский скотовод содержал ее, потом бросил где-то между Буэнос-Айресом и Рио-де-Жанейро. Попала ли она в публичные дома Аргентины, в которых погибло немало красивых эмигранток из России, сумела ли вынырнуть, об этом мне не удалось узнать. Как и мой отец, она исчезла в космополитической толпе полунищих, бродяг и проституток капиталистического мира.
Кто же я в революции? Подкидыш?
Виновата ли я в том, что родилась в семье, принадлежащей к классу, законно растоптанному революцией?
Сто девять сердец, сто девять разных дорог к революции.
Странное, но не тягостное напряжение царило в комнате. Мы хотели верить друг другу до конца и именно поэтому были настороженны и беспощадны. Мы хотели до конца принять либо отринуть протянутые друг другу руки, чтоб идти дальше вместе. Мы хотели быть истинными соратниками.
Одним из первых был разоблачен Николаич. Многие среди нас ему верили, считали заслуженным революционером. Случайность заставила меня начать присматриваться к нему зорче, искать в его прошлом ответа на возникшие у меня сомнения.
Город Астрахань, откуда Николаич был родом, сторожит устье Волги. Мимо на Каспий проходили в Персию, Бухару и Хиву караваны, оттуда везли в Москву восточные товары.
Исстари далекий город был пристанищем вольницы. Разин и Пугачев находили в нем верных сторонников. Теперь он стал городом рыбаков. Рыба обогащала торговцев, но едва кормила обитателей домишек, выстроившихся вдоль заболоченных каналов.
До 1917 года в Астрахани было все, чему полагалось быть в городе, приносящем изрядную прибыль: церкви, трактиры, ночлежки, купеческие клубы.
Николаич сызмала служил в рыбной палатке. На скользкой вонючей скамье он с утра до ночи вспарывал рыбьи животы, мечтая о том, чтоб купить лавчонку на приданое купеческой дочки, с которой гулял на откосе по воскресеньям. Потом действительно женился на ней и, заполучив ее денежки, занялся торговлей, посадил жену за прилавок, а сам поступил на работу в трамвайное депо. Однажды при свете лампадки он нашел листовку, сунутую кем-то в карман его форменного пальто, и прочел не без интереса. Он тоже был недоволен налогами на мелочную торговлю и порядками в конторе трамвайного парка. Был 1905 год. Борьба становилась жестокой, расправа — суровой. Случилось так, что Николаич был задержан полицией.
— Я человек занятой, — божился он, — владею лавкой. Какая уж тут политика?
Так протокол охранки стал свидетельством человеческого ничтожества. Шло время. Николаич разбогател, торговал на пристани, оставил службу в трамвайном парке, обрюзг.
«Я сызмала был рабочий», — клялся он после Октябрьского переворота и, оставив Астрахань, в чужом городе получил партийный билет. Отныне только страх быть разоблаченным нарушал благополучие его дней. Ложь породила новую ложь. Нарастали проценты с украденного капитала выдуманной биографии. Его уважали за прошлое, которое он сам для себя придумал. Так было до тех пор, покуда бывший астраханский грузчик не узнал его в одном из санаториев и не рассказал о нем все, что знал.
ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
Время шло. Я снова вернулась в Москву. Мне не хватало знаний, и я приехала «вооружаться», как сама определила свое поступление в университет. Снова мою жизнь заполнили книги, лекции, появились новые друзья. Начались занятия в аудиториях факультета, в белых палатах клиники.
Нелегко было многим из нас сразу понять и примириться с тем, что принесла на улицы Москвы новая экономическая политика.
Мы радовались звонкам трамваев и многолюдию города. Но зачем в маленьких лавчонках Охотного ряда снова восседали пунцоволицые торговцы? Зачем рядом с Домом Союзов, возле двухэтажной, точно присевшей на корточки церкви Параскевы-великомученицы снова началась бойкая торговля рыбой, мясом и мелким товаром?
Дремля на облучке, широкозадый извозчик поджидал даму в пальто с соболями, пока она торговалась, выбирая взлетевшую от прикосновения ее пальцев пуховую подушку.
На Ильинке, в подворотнях, люди с лицами, похожими на изжеванные окурки сигар, шептали:
— Есть доллары, есть золотые николаевские монеты.
Что это? Воскресало, казалось мне, далекое, ушедшее прошлое.
Вечером из ресторанов и пивных доносилась музыка веселящейся нэповской Москвы.
Мне хотелось плакать, глядя на пухлые лица новых буржуев, как называла я этих людей, появившихся на улицах нашей столицы.
В комнатах общежития, где мы жили, пять девушек-медичек, часто возникали споры о нэпе.
Секретарем нашей партячейки была большевичка с 1906 года Людмила Степановна. Мне нравилась ее спокойная, уверенная походка, откинутая назад голова, прямой взгляд, тихий, но твердый голос. В прошлом акушерка, она не имела возможности учиться в годы большевистского подполья, проведенные большей частью в тюрьмах и в Нарымской ссылке. Всю гражданскую войну она была в армии. И вот теперь, сорока с лишним лет, начала учиться, чтобы стать врачом.
Измученная сомнениями, я решила поехать к ней домой, куда она не раз меня приглашала.
На подножке переполненного трамвая я добралась до 2-го Дома Советов, огромного общежития коммунистов. На фронтоне большого дома увидела знакомые фрески Врубеля и несколько красных флагов (был один из революционных праздников).
Людмила Степановна приветливо провела меня через узенькую переднюю своего номера. В открытую дверь я увидела ванну, где лежало, видимо, только что выстиранное белье.
В комнате с потрепанными портьерами и коврами мебель была погребена под грудами книг. На стене висели портреты Маркса и Ленина.
— Сядь, — сказала Людмила Степановна, освобождая из-под груды книг стул, — и чувствуй себя, как дома.
Но не успела я заговорить, как в дверь постучали.
Вошла хрупкая, невысокая женщина с слегка раскосыми глазами и резко очерченными скулами. Пышные седеющие волосы красиво обрамляли небольшую голову. Длинная юбка и белая кофточка с высоким воротником и узкими рукавами придавали облику вошедшей строгую прелесть. Я вскочила с места. Это была Мария Ильинична Ульянова. Она строго и вместе с тем ласково посмотрела на меня и сразу узнала — мы познакомились в Крыму. На наши расспросы о здоровье Ленина Мария Ильинична отвечала просто и тихо.
Разговор продолжался, и внезапно было произнесено слово «нэп».
Я вздрогнула и, уже не робея, заговорила:
— Мне бы хотелось спросить у вас... Я и многие мои друзья, молодежь, не все понимаем. Частный капитал... концессии иностранцам... Что же это? Простите мне мои сомнения, но уж очень все непонятно и тяжело.
Милая, чуть насмешливая улыбка тронула губы Марии Ильиничны. Хороша была эта улыбка, молодая, умная, добрая.
— Сомнений бояться нечего, — сказала она, становясь серьезной. — Это ведь неизбежно, когда ищешь правильных решений. Надо только не теряться самой и не путать других. Продумайте, чему учит партия? На войне победить можно в несколько месяцев, а вот культурно и экономически одолеть врага в такой срок нельзя. Не все ведь берется штурмом, — она снова улыбнулась. — Знаю, трудно, особенно в молодости, брать крепости тяжелой и медленной осадой. Но, чтобы победить, надо не бояться подчас и временного отступления ради меньшего количества жертв. Это ведь тоже тактика борьбы.
Вскоре Мария Ильинична поднялась. Мы попрощались. Я долго и радостно ощущала пожатие ее узкой руки.
Когда Людмила Степановна, проводив гостью, вошла в комнату, слезы неудержимо лились из моих глаз.
Это была душевная разрядка. Ведь столько раз в эти месяцы растерянности звучали у меня в памяти истерические слова Валерьяна: «За что же мы боролись?»
— Почему ты никогда не поднимала этих больных для тебя вопросов на партийных собраниях? — спросила Людмила Степановна строго. — Неужели боялась?
— Боялась, — ответила я. — Боялась, что, не разобравшись сама, принесу вред другим. Хотела сначала сама понять...
Я ушла из 2-го Дома Советов только в полночь. Разговор с Людмилой Степановной возвратил мне спокойствие. Так некогда на берегу Днепра нашла я свою дорогу в жизнь, читая книги, которые приносил мне Лука.
Скоро Людмила Степановна организовала у нас в университете кружок политзанятий. Нас было восемнадцать студентов, собиравшихся еженедельно с жадной потребностью ответа.
Ленин говорил в ноябре 1922 года на IV конгрессе Коминтерна:
«Мы уже достигли того, что наше крестьянство довольно, что промышленность оживает и что торговля оживает... Что касается торговли, я хочу еще подчеркнуть, что мы стараемся основывать смешанные общества, что мы уже основываем их, т. е. общества, где часть капитала принадлежит частным капиталистам, и притом иностранным, а другая часть — нам. Во-первых, мы таким путем учимся торговать, а это нам необходимо, и, во-вторых, мы всегда имеем возможность, в случае, если мы сочтем это необходимым, ликвидировать такое общество, так что мы, так сказать, ничем не рискуем. У частного же капиталиста мы учимся и приглядываемся к тому, как мы можем подняться и какие ошибки мы совершаем...»
БРАТЬЯ
Летом 1923 года, возвращаясь с лекции, в узком переулке на Арбате, где жила второй год, я уже не впервые столкнулась с человеком лет тридцати с небольшим, который давно привлек мое внимание. Есть такие лица, как бы излучающие ум и доброжелательность. Человеку с таким лицом невольно улыбнешься и протянешь доверчиво руку. Такой не подведет, не обманет.
В последние месяцы мы постоянно случайно встречались. Видела я его в Третьяковской галерее, напряженно рассматривающего репинские полотна, в Музее западной живописи, в библиотеке. Замечала перебрасывающимся шуткой с миловидной продавщицей булочной на нашей улице. Как-то, сердито повернувшись в трамвае, чтобы обругать неловкого соседа, я встретила серые умные глаза и не нашлась что сказать в ответ на торопливые извинения. И вот он снова передо мной. Удивление промелькнуло и на его лице. Он неуверенно поклонился, и я ответила. Как было не ответить? Ведь я знала даже то, что у него вот уже больше месяца не хватает пуговицы на пальто. Очевидно, дело было в привычке оттягивать карманы — они у него, как у озорного школяра, всегда оттопыривались.
Невольно обернулась. И вдруг он решительно повернулся и нагнал меня.
— Мне давно хотелось заговорить с вами. — Он немного заикался, и голос у него был низкий. — Неужели то обстоятельство, что у нас нет общих знакомых, может послужить помехой для знакомства? Не правда ли, это предрассудок? Давайте познакомимся. Меня зовут Георгий Козинцев. Отчество мое — Николаевич, но оно ведь необязательно. А вас как зовут?
Мы познакомились. Есть люди, присутствие которых вызывает ощущение умиротворения и покоя. Козинцев был таким человеком. Настойчивый в достижении цели, он всегда легко преодолевал мою замкнутость, которую прозвал «игрой в прятки». Приветливый без притворства, сметливый без мелкой хитрости, волевой, но не упрямый, умелец на все руки, он всегда вносил с собой спокойствие и деловитость. Едва переступив порог комнаты, он мгновенно находил себе какое-нибудь занятие. То починит, то наточит, то приладит что-либо из несложного моего хозяйства. На моей этажерке скоро появились забавные человеческие фигурки, рамки, коробочки.
Я узнала, что в партии он с 1908 года. Февральская революция вернула его из ссылки. В 1917 году он был красногвардейцем, потом воевал на Восточном фронте.
Вернувшись из Красной Армии, Георгий недолго учился и затем ушел на партийную работу в деревню. Недавно вернувшись в Москву, он был выбран секретарем партийной ячейки на одной из московских фабрик.
Георгий любил вспоминать деревню, которую я совсем не знала.
— Меньшевики болтали, — говорил он, — что крестьяне, мол, любят большевиков, которые дали им землю, но не любят коммунистов, когда они берут у них хлеб для рабочих. Вранье! Я-то деревню знаю. О любви чего говорить — это дело дамское, однако уверяю тебя по опыту, что крестьяне тянутся к коммунизму и в трудные минуты ищут нас сами. Конечно, я имею в виду середняков и бедняков. Кулак — он был и есть лютый недруг. Но верит мужик коммунистам настоящим.
— А бывают и ненастоящие? — улыбаясь, спрашивала я. Мне ли было не знать? Я уже встречала таких на своих жизненных дорогах.
— Как же не быть, — сурово продолжал Георгий. — Зря, что ли, партию чистили?
Как-то Георгий сказал:
— Крестьянин, несмотря на горькие подчас обиды от коммунистов ненастоящих, всегда твердо верит коммунистам подлинным, ленинским. Я в этом убежден.
Мне хотелось знать все о Егоре (как я скоро начала называть своего нового друга) и о его семье. Оказалось, что отец Козинцева, сначала простой рабочий, стал потом мастером. Жили родители его в ту пору не бедно. К 1905 году были у них уже домик и корова.
Георгий рассказывал мне:
— Нас было три сына у матери. От старшего, Петра, повелись в семье «политики», как окрестил нас отец. Замечательный человек был мой брат Петр. Лет на десять старше меня, он начинал свой путь большевика, работая в цехе рядом с Михаилом Калининым. В тысяча девятьсот семнадцатом году, в октябре, Петр погиб в боях за советскую власть...
Помолчав, Георгий продолжал:
— Есть у меня еще брат — Михаил. Мы с ним погодки. Вместе вступали в тысяча девятьсот восьмом году в партию. Михаил у нас в семье всегда был самый грамотный. Удалось ему, не в пример мне, экстерном кончить гимназию, потом он даже в университете учился...
И, как бы отбросив какое-то досадное воспоминание, Георгий продолжал говорить о том, как много слез пролила его мать из-за сыновей.
— Помню, как она носила нам передачи. Петра я знал лучше, чем Мишу. Вернувшись с поселения, именно Петр нас, младших, привел в Коммунистическую партию. В Октябрьские дни он вывел воинскую часть, где служил с тысяча девятьсот шестнадцатого года, на помощь рабочим Москвы и в одной из первых схваток был смертельно ранен.
Георгий помолчал, потом добавил печально:
— Петр был для меня больше, чем брат. Это был настоящий человек и настоящий коммунист.
— А Михаил? — спросила я.
Георгий долго не отвечал.
— Его я знаю мало. Когда-то он льнул к меньшевикам. От партийной работы на несколько лет отходил вовсе... Нет, нетвердый он человек. Это я и от Петра частенько слыхал. Многого я в нем понять не мог и по сей день не разберу. Простоты большевистской, чуткости, что ли, нет. Разные мы с ним. Вот и теперь, как повстречаемся, обязательно спорим. — И Георгий решительно перевел разговор на другое.
В шестую годовщину Октябрьской революции я была на торжественном вечере в клубе фабрики, где секретарем ячейки работал Георгий. Под клуб только что передали большой особняк фабриканта, некогда проживавшего во дворе своей фабрики.
В зале было многолюдно и шумно. Наконец началось торжественное собрание. Участники большевистского подполья и Октябрьского переворота рассказывали о недавнем прошлом.
Одним из последних вышел на трибуну широкоплечий человек среднего роста. Председатель представил его собранию. Я насторожилась. Это был брат Георгия.
Лицо у оратора было очень привлекательным и немного усталым, и я тотчас же решила, что сероватый оттенок кожи и морщины вокруг глаз, как и у Георгия, — следствие пребывания в заключении. Заметила его короткопалые, широкие руки и вспомнила, что он работал в юности токарем.
Георгий старался не выступать с трибуны на многолюдных собраниях, на которых чувствовал себя неуверенно и начинал заикаться.
Михаил, в противоположность брату, был хорошим митинговым оратором. Начав свою речь как бы небрежно и тихо, он постепенно оживился, зажег слушателей. Слова его лились плавно, уверенно. Красивый низкий голос окреп. Для своих мыслей он неизменно находил убедительную, правда несколько выспреннюю, словесную форму. Тогда я не заметила деланности его жестов и напыщенности в словах.
Михаил вспоминал с трибуны годы подполья и борьбы. Перед моими глазами оживала жизнь профессионального революционера. Пропагандистские кружки на заводах, воскресные школы, подпольные типографии, собрания. Я как бы видела шествия протестующего народа, слышала визг жандармских нагаек. Мысленно я отыскивала коренастую, широкоплечую фигуру Михаила среди рабочих за решеткой тюрьмы, в толпе арестантов. И все привлекательнее казалось мне его лицо, немного похожее на лицо Георгия и, однако, другое, более надменное и самодовольное.
Михаил закончил речь под аплодисменты. Едва он ушел с трибуны, как мне все стало неинтересно.
Когда торжественная часть собрания кончилась, я побежала на сцену. Там убирали стулья и готовились к концерту. У пыльного задника с грубо намалеванными деревьями я отыскала Георгия.
— Где твой брат? Какой он блестящий оратор!
— Понравился? Да, он говорун умелый, недаром учился дикции перед зеркалом, — иронически заметил Георгий.
«Завидует», — против воли подумалось мне.
Мы нашли Михаила у выхода из клуба. В просторной, тюленьего меха куртке и круглой шапке он показался мне еще внушительнее, чем на трибуне. Но меня неприятно поразили раздражительность в его голосе, когда он отвечал брату, и незнакомое враждебное выражение, появившееся тотчас же на лице у Георгия.
Повернувшись ко мне, Михаил смягчился. Вероятно, он заметил мое почтительное восхищение, и оно ему польстило. И когда он ответил мне добродушной улыбкой, я, казалось, заглянула до самого дна в его вдруг просветлевшие зеленовато-карие глаза.
— Сколько лет вы просидели в тюрьме? — не утерпела я, чтобы не спросить Михаила Козинцева уже через несколько минут после того, как произошло наше знакомство.
— Наберется лет семь. Цифра семь вообще проходит через всю мою жизнь: семь раз меня ссылали, семь раз я бежал...
— Ну, это уж какая-то чертовщина, — вмешался Георгий.
— Седьмое ноября тысяча девятьсот семнадцатого года, — продолжал, как бы не слыша слов брата, Михаил. — Семнадцати лет я вступил в партию. О семерке и у Пифагора говорится. Так-то, товарищи. Ну ладно. Мне пора.
Он приподнял руку и красиво помахал ею, прощаясь.
«Необыкновенный, по-настоящему цельный человек», — решила я, едва Михаил скрылся за дверью. И слишком простым показалось мне прямодушное лицо Георгия. Я и не подумала о том, что он мог бы рассказать с трибуны не меньше, а, может, значительно больше о жизни подпольщика-большевика, чем его брат.
С этого дня я начала часто думать о Михаиле. Лицо его вставало в моей памяти всякий раз по-иному. Я старалась разгадать его выражение, понять его характер, душу. Это был опасный симптом, смысла которого я тогда не понимала.
Скоро я стала искать повода, чтобы встретиться с Михаилом. Но это было нелегко — Георгий избегал брата.
— Небось завидно, что брат обогнал тебя в развитии и образовании, — сказала я как-то Георгию, и мы впервые едва не поссорились.
Через несколько дней, найдя наконец предлог, я отправилась в главк, которым ведал Михаил Николаевич Козинцев.
Нарядная секретарша долго допытывалась, что, собственно, мне нужно, но я сумела убедить ее, что у меня важное дело, и после часа ожидания вошла в большой полутемный кабинет.
Михаил холодным и важным кивком указал мне на кресло. Не этого я ожидала. Собравшись с духом, я от имени нашей парторганизации попросила допустить группу медичек для знакомства с одним из подведомственных Козинцеву исследовательских институтов.
Пока я говорила, Михаил, очевидно, припомнил, что видел меня. Он стал проще, и мы разговорились. Был уже вечер. Рабочий день кончился. Из наркомата мы вышли вместе. Секретарша проводила нас недоумевающим взглядом.
Тихий ноябрьский вечер был так хорош, что Михаилу захотелось пройтись, и мы пошли вдоль Кремля. О чем мы говорили? Никогда я не могла бы вспомнить об этом. Единственное, что мне теперь ясно, — мы оба старались изо всех сил выставить себя в наиболее выгодном свете и незаметно выпытать побольше у собеседника. Цитаты из книг, обрывки своих и чужих мыслей перемежались с вопросами бесцеремонными и прямыми, как пункты анкеты.
Ответы Михаила, как и его воспоминания, которые я слушала на праздничном вечере, снова были посвящены его жизни и подвигам. Он вспоминал о побегах из тюрем и ссылки, о работе на заводе в далекие дни царизма, о том, как учился и получил диплом.
Михаил часто вставлял в разговор латинские поговорки, читал наизусть четверостишия Хайяма и Фирдоуси. Никогда я не знала раньше этих имен и прекрасной персидской поэзии.
— Я одинок, — сказал между прочим он. — Знаете, как пели мы в молодости?
Ох, ох, не дай бог с политикой знаться.
Не успеешь полюбить, надо расставаться.
В третий раз оттягивая расставание, мы подошли к моему подъезду, устав плутать по переулкам.
Я попросила у Михаила одну из незнакомых мне книг, счастливая, что у меня появился предлог для новой встречи. Была уже полночь, когда мы расстались. Я не сомневалась, что не встречала в жизни более интересного человека.
МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Придя к Михаилу домой и очутившись в большой неуютной квартире, я невольно растерялась. После фронта, после общежития, где я провела немало лет, мне не случалось бывать в таких комнатах. Прошлась по большому кабинету, столовой, заглянула в спальню. Нигде ничего не свидетельствовало о присутствии женщины. Обрадовалась. Но вся обстановка квартиры показалась мне неприятно показной и, главное, случайной, точно в гостинице.
Древние китайские божки, средневековая керамика из Палермо, кувшины-термосы из Лондона, американские курительные приборы, разные века и разные по назначению вещи нелепо соединились здесь. Неразбериха и смешение эпох, стилей и сюжетов господствовали в картинах и книгах, громоздившихся на полках, на столах, в шведских шкафах. С трудом отыскав большое кресло, обыкновенное, не чванное, я поспешила забраться на него, как бы укрывшись от окружающего меня нашествия негостеприимных вещей. Захотелось своей, но по-иному обставленной квартиры, уединения в семье, захотелось устроенной, налаженной жизни. Ведь все эти годы, словно в пути, я ждала все новых и новых пересадок.
Мне подумалось, что Михаил поселился когда-то в этой до него устроенной квартире, носящей и теперь отпечаток чужого вкуса. Зачем ему все это? Душно в этих загроможденных вещами комнатах. На одном из столиков я увидела несколько комплектов шахмат. Тут были китайские резные фигурки из слоновой кости, деревянные с забавными изображениями солдатиков, крепостей и королей, крошечные из какого-то ценного металла. Михаил заметил мое удивление и с гордостью стал показывать свои коллекции марок и гравюр.
— Зачем вам это? Отдали бы для общего пользования, в музей, что ли, — вырвалось у меня. Я решительно не понимала этого человека. Но он так радовался своим безделушкам, что у меня невольно рассеялось недоумение.
За ужином Михаил удивил меня своим умением хозяйничать, приготовлять пищу, накрывать на стол, как-то особенно раскладывая по тарелкам закуски и сласти.
После ужина он закурил трубку, похваставшись заморским табаком, и заговорил о себе. Он заметно оживился, и снова я была увлечена его рассказами.
Внимание Михаила кружило мне голову и не хотелось задумываться над тем, к чему это могло привести.
В эти дни радостного возбуждения я заболела и очутилась в больнице. Подруги по институту навещали меня, но это не спасало от острого чувства одиночества. Подолгу перебирала я несложное прошлое.
Мои представления о любви в то время уже сложились. Маркс и Женни Вестфален, Ленин и Крупская — вот чья взаимная любовь казалась мне образцом для коммуниста.
Как счастливы были эти люди в браке. Всепоглощающее чувство любви помогало им жить, защищало от недругов, учило служить идее, народу. Полюбив однажды и навсегда, они обрели свободу, которой никогда не находят те, кто мечется от одной привязанности к другой. Кто из нас не мечтает и не ищет такой совершенной любви?
«Может быть, — надеялась я, — Михаил тот человек, с которым я смогу быть счастливой до самой смерти, всегда, везде, в горе, в борьбе, в покое».
Воспоминание о Михаиле заставило мое сердце забиться по-особому. Поглощенная этими мыслями, я отвернулась от окна и внезапно увидела его.
В белом халате он стоял передо мной в больничном коридоре. Удивление и радость были так велики, что я не стала допытываться, случайно ли мы с ним встретились.
— Очень хорошо, что я вижу вас здоровой, — сказал он ласково, порылся в портфеле и протянул мне книгу и нарядный блокнот.
Мы сели на скамью. С детства скопившаяся нерастраченная нежность вдруг захлестнула сердце. Михаил стал расспрашивать о моей жизни, и я поведала ему о своих мечтах, о самых сокровенных думах и желаниях.
Когда он ушел, воображение, как в детстве, услужливо воссоздало то, к чему я стремилась, чего хотела. Михаил Козинцев, расцвеченный любовью, стал в моем представлении лучшим из людей.
И в тот же день пришел ко мне в больницу брат Михаила. Чем-то озабоченный, он и не заметил, какой восторженно-счастливой была я. Вывалив передо мной груду заботливо собранных гостинцев, Георгий тяжело опустился на стул.
— Вчера до поздней ночи был на партийном собрании. Жаль, что ты хвораешь... Да, братец ты мой, Наталка. Трудно... Совсем недавно Ленин наголову разбил рабочую оппозицию, и, казалось, критиканы поуспокоились. Да вышло, что ненадолго. Троцкий снова атакует партию.
Георгий сообщил мне о письме Троцкого в ЦК, о брошенном им и его сторонниками вызове партии, о возникшей в связи с этим партийной дискуссии. И сразу же все личное отступило. Партия, ее заботы, ее будущее — вот что поглотило меня. Всю ночь я не могла уснуть. Как когда-то на фронте, меня раздирало мучительное беспокойство, желание действовать, бороться.
Через несколько недель, выписавшись из больницы, я первым делом пошла к Михаилу. Но, войдя к нему, сразу почувствовала какую-то необъяснимую неловкость, отчужденность. О политической борьбе, поднятой оппозиционерами, Михаил говорить отказался. Поморщившись, он сухо заметил, что обо всем этом я смогу подробнее узнать в своей партийной ячейке.
— Дома в часы отдыха я хочу забыть обо всем, даже о революции, — добавил он и притворно зевнул.
С тяжелым чувством провела я столь долгожданный вечер. Мне казалось, я чего-то не понимаю. Может быть, Михаил сложнее меня. Но вместе с тем раздражало его пристрастие к безделушкам, хотелось высмеять это ребячье увлечение игрушками. Не понимала я и его отношения к себе.
— Вы меня любите? — спросила, когда он вдруг обнял меня и поцеловал.
— Надо думать. Иначе зачем бы я звал тебя. Мне с тобой хорошо.
Это был ответ эгоиста, но, как всегда в последнее время, я стала подыскивать объяснения тому, чего не могла понять. «Он скрывает, проверяет меня и себя. Разве такие люди могут поступать необдуманно», — мелькнула мысль, за которую я уцепилась, как за спасение.
И в эти же дни моих душевных неурядиц и метаний в университете на партийном собрании началась дискуссия по письму Троцкого и выступлениям его приверженцев.
Ленин был в это время тяжело болен. Мы все надеялись на его выздоровление и ежедневно ждали обнадеживающей весточки из Горок. Но ждали напрасно.
В университете мы не были спаяны так крепко, как на рабфаке. Многие мои однокурсницы уже вышли замуж, жили семьями; ушли из общежития и те, которые совмещали учебу с работой.
Вспыхнувшая в партии дискуссия сразу же объединила некоторых из нас, а с другими совсем разделила.
Мы приходили в эти дни в сумрачную прохладную аудиторию факультета задолго до начала собраний и жарко спорили. Мне подчас становилось тяжело и страшно оттого, что некоторые мои товарищи по курсу, как мне казалось, попросту жонглировали в этих спорах словами.
— Вы погубите все, чего мы добились, принеся столько жертв! — кричала я. В их речах мне слышались отзвуки мыслей Валерьяна и, что было еще чудовищнее, напыщенные фразы Петра Петровича.
Некоторые мои однокурсники говорили о необходимости какой-то иной, такой же как в буржуазных странах, демократии, об отрыве партийного аппарата от масс, они противопоставляли молодежь будто бы переродившимся старым кадрам. Я не могла понять, заблуждение ли это, охлаждение ли к борьбе за коммунизм или измена, и душевно металась в поисках истины. Так недавно кончилась гражданская война, на Волге крестьяне еще голодали, бедняки и середняки дрались с кулаками, выжидательно и хищно сгрудились вокруг Советского Союза империалисты.
Демократия! Я стояла на кафедре, волнуясь и подыскивая слова, и говорила притихшему собранию:
— Мы ли боимся свободы и правды? Нет! На процесс левых эсеров мы допустили Вандервельде и представителей враждебного нам Интернационала. В своих общежитиях, в зале Политехнического музея мы смело говорим обо всем, что нас тревожит. Мы издаем мемуары Витте, переписку Романовых. Мы ничего не боимся. Мы обсуждаем малейшее сомнение, возникшее в нашем сознании. Разве переход к нэпу не свидетельство нашей безграничной силы? Не бояться отступить и при этом победить, понимать свои ошибки и учиться на них — вот в чем подлинная большевистская правда!
Я привела чудесные слова из речи Ленина на XI съезде РКП (б): «Пролетариат не боится признать, что в революции у него то-то вышло великолепно, а то-то не вышло. Все революционные партии, которые до сих пор гибли, — гибли оттого, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях. А мы не погибнем, потому что не боимся говорить о своих слабостях и научимся преодолевать слабости». Вот что такое советская демократия! Но позволять клеветать на нас, позволять подрывать наши силы, наше великое единство, демагогически настраивать молодежь против старшего поколения, отдавшего жизнь, лучшие годы за нас, молодых, настраивать партию против ее же станового хребта, аппарата, — это безумие, заблуждение или злой расчет. На эту удочку, брошенную мелкобуржуазными ловцами, попадутся лишь те, у кого слабые душонки или затаенная вражда в умах!
Я сошла с трибуны и уселась на задней скамейке аудитории.
Мне вспомнились в эти минуты два брата Козинцевы, Павел, Ольга, Александр Сапегин, Валерьян Зубов. Разные люди, разные судьбы. Но из всех только Валерьян бежал из строя, да вот еще Михаила Козинцева я не вполне понимала. Не понимала, но хотела ему верить.
Шли недели. Михаил то приближал, то отдалял меня от себя. Самолюбивая во всем, я, однако, беспрекословно подчинялась ему. Он все еще казался мне лучшим из всех, кого я знала. Ту пропасть, которая лежала между нами, я наполняла иллюзиями, наивной верой в то, что биография человека — оттиск его души, патент на доверие.
Однажды, проснувшись утром, я почувствовала особенное уныние. С горы, на которой стоял дом, где жил Михаил и где я провела эту ночь, вдали были видны на рельсах окружной железной дороги красные товарные вагоны и такого же цвета кирпичные корпуса. Над всем этим висело небо, будто скверно подсиненная тряпка с оборванными краями.
Михаил брился. Я, притворясь спящей, из-под приспущенных ресниц стала разглядывать лицо этого первого близкого мне мужчины. Какой он? Спокойный, равнодушный, самодовольный.
— Проснулась? — спросил Михаил, отодвигая мыльницу и как бы избегая называть меня по имени.
— Проснулась, — ответила я и беспомощно оглянулась. Все было вокруг такое чужое и равнодушное. Потянувшись за платьем, висевшим на стуле, я опрокинула что-то и растерялась чуть не до слез. Даже вещи здесь недружелюбно относились ко мне.
За завтраком Михаил снисходительно коснулся моей щеки рукой, пахнущей мылом.
Мне вдруг захотелось укусить эту руку, но я сдержалась.
— Вот что, девочка, — сказал он, видя, что я собираюсь уходить. — В этом доме меня отлично знают... Здесь столько кумушек... Было бы лучше и для тебя не давать повода к болтовне. Неудобно нам вместе выходить с парадного хода. Не пойми меня ложно, но... ты видела дверь на кухне... — Он замялся.
Я поняла и покорно кивнула.
Лестница черного хода была полутемная и сырая. Каменные ступени показались мне липкими, я ступала точно по мху.
Таким было начало женской моей жизни.
Когда я прошла пустой каменный двор и вышла на улицу, мимо меня проехал автомобиль. Я узнала Михаила. Он сидел самодовольный, слегка обрюзгший. Едва заметно кивнул головой и, приподняв руку в перчатке на уровень подбородка, пошевелил пальцами в знак приветствия.
Автомобиль свернул за угол и скрылся. В большой витрине я увидела свое отражение. Коричневое пальтишко, полуботинки, густо покрытые грязью, в руке ветхий портфельчик, с которым я прямо после занятий вчера пришла к Михаилу.
Только на мосту через Москву-реку, по пути домой, я овладела немного своими мыслями и принялась обдумывать случившееся.
Обида, перенесенная только что, ныла в каждой клеточке тела. Отвратительная тоска охватила мозг.
Зачем жить? Как жить, потеряв доверие к любимому человеку? Да и что такое доверие? Человек, чья биография казалась мне залогом добра, оказался крохотным недобрым себялюбцем.
Мысли путались. Во мне было оскорблено достоинство женщины. Но как отомстить тому, кто не любит? Я стояла на мосту, с трудом преодолевая страх осознанного бессилия, усталость, желание умереть.
Решения менялись и уплывали, как осенняя вода реки подо мной.
Что, если зачеркнуть случившееся, как будто ничего не было. Или отомстить? Но он неуязвим из-за того, что не любит. Тогда заставить его любить. Пробудить в этом расчетливо-холодном сердце нежность, привязанность, заставить этого человека, боящегося огласки, всюду говорить о своей любви...
Эта мысль показалась мне смелой, в ней было спасенье, в ней было чувство собственного достоинства.
Сердце твердило: заставь его полюбить тебя!
И началась извечная, как сама любовь, скрытая, упорная борьба. В жажде победы для меня сосредоточивалось все: самоуважение, жажда мести, воля к жизни. Было ясно, что через кухонную дверь до меня выходили и другие женщины, но ни одной не удалось заставить признать себя, ни одна не вошла в его жизнь.
Прошла неделя после нашего сближения, а Михаил не искал меня. Я предвидела это. Видимо, он боялся упреков, жалоб, требований. Мне вспомнился дед, друг моего детства. Он говаривал: «Человеку отпущен рубль. Вот и решай — хочешь, купи за этот рубль большую любовь, а хочешь, разменяй его на сто медяков».
Так и не дождавшись зова Михаила, я сама зашла к нему в главк и долго ждала в приемной.
От моего мучительного зоркого взгляда не укрылась его недовольная гримаса, когда я вошла в кабинет.
— Здравствуйте, Михаил Николаевич, — как ни в чем не бывало промолвила я.
Он посмотрел на меня выжидательно, но я продолжала говорить, ничем не проявляя недовольства и не посягая на фамильярность. Постепенно его тревога рассеивалась. Он успокоился. Я рассказала ему с притворной доверчивостью о новостях истекших дней, ни единым взглядом или намеком не касаясь нашей близости. Говоря, я как бы читала его мысли: «Эта девчонка не глупа, но крайне легкомысленна. Тем лучше. У нее нет самолюбия, и она легко усвоила мой намек на то, что ничего серьезного у нас с ней не может быть. Отлично, мне это нравится».
Таков или примерно таков был ход его мыслей. Вслух же он сказал мягко, понизив голос:
— Что ж, заходите. Я буду рад...
— Как-нибудь зайду, — ответила я.
Он снова недоуменно искоса взглянул на меня.
— Видишь ли, — сказал он внезапно, — нам нужно объясниться. Надо тебе сказать, что я терпеть не могу всякой этой любовной канители, которую выдумали женщины и писатели. Самая интересная женщина, да и мужчина надоедают друг другу не позже, чем через три месяца. Это факт проверенный. Зачем же тогда огород городить? Ведь для товарищеских добрых отношений нет нужды поселяться вместе и влезать в жизнь другого.
— А как же, если родятся дети? Ведь им-то нужны родители? — спросила я, едва сдерживая возмущение.
— Общественное воспитание, по-моему, значительно полезнее для ребенка, — не моргнув глазом, ответствовал Михаил.
На этом и закончился наш разговор.
ВОЛЯ К ЖИЗНИ
Борьба, которую я начала, словно подстегивала меня. Никогда я не читала так много и так легко не запоминала прочитанного, как в этот период полной душевной и умственной собранности. Чем могла я поразить Михаила, много испытавшего, много видевшего? Юность моя была освещена заревом революции и войны. Кожаная куртка, грубая косоворотка, красноармейский шлем — таковы были недавние мои доспехи. Я пропахла дымом, запахом сена и смолистым ароматом леса.
Так же, как и большинство моих сверстниц, впервые ощутив блаженство равенства с мужчинами, я старалась во всем подражать им. Как и мои подруги, я была неуклюжей, угловатой и грубой. Теперь я вспомнила Варю, ее ловкое умение нравиться и подумала о том, что была бы рада кое-чему у нее поучиться. В эту же пору я стала подолгу рассматривать себя в зеркале. Захотелось украсить, усовершенствовать то, что дала мне природа.
Болтливая парикмахерша с деспотическим пылом принялась за мою прическу. Ее похвалы придали мне бодрость.
Когда, приодетая и завитая, я пришла в общежитие, одни встретили меня презрительными улыбками, а другие одобрительными возгласами. Многим из моих сверстниц давно уже хотелось заменить кожаные куртки и сапоги красивыми платьями и туфлями.
Михаил, увидев меня в новом обличий, удивленно приподнял брови и о чем-то напряженно задумался. Весь вечер я ловила на себе его внимательный и недоуменный взгляд. Это повторялось и во время дальнейших наших встреч. Но отношения мои с Михаилом по-прежнему казались мне унизительными. Я приходила по первому его зову, стараясь ничем не выдать нараставшего раздражения, и по-прежнему уходила через кухонную дверь.
Михаил любил рестораны. Он водил меня в самые нарядные и усаживал под искусственными пальмами, на листьях которых лежал слой бурой пыли. Играл оркестр, на эстраде по временам появлялись певцы.
— Как расцвела Москва со времени введения нэпа, — говорил Михаил, оглядываясь на проходивших мимо нарядных женщин.
Возвращаясь после таких вечеров в общежитие, я не могла преодолеть тревожного беспокойства, а в ушах у меня еще долго звучали песни о Коломбо, алжирских зуавах и увядших розах.
* * *
Со времени моего сближения с Михаилом я почти не виделась с его братом и была этому даже рада. В самом деле, что я могла сказать Георгию, если бы он стал укорять меня за мою любовь к человеку, который так мало меня уважал?
Поймет ли он, что у меня есть самолюбие и все дело в том, что я не могу порвать с Михаилом, пока не разберусь в себе и в нем до конца.
Как-то утром Георгий зашел ко мне. Выложив на стол пакеты с хлебом, маслом и колбасой, он уселся на стуле у моей кровати.
— Я хотел бы поговорить с тобой, — начал он, сильно заикаясь. — Дело в том, что в последнее время ты стала какая-то другая. Не смотришь в глаза, потемнела, осунулась. Не нужно ли тебе чего? Может, беда какая-нибудь у тебя стряслась? Признавайся! — Он решительно взял мою руку и продолжал, точно пересиливая себя: — Я ведь люблю тебя, с первого знакомства люблю, понимаешь ты это?
Что мне было делать? Задаваться вопросом о том, почему я полюбила Михаила, а не Георгия, было поздно. Но Георгию я не могла лгать. Он должен был знать все. И я безжалостно рассказала ему обо всем, что со мной случилось.
Он слушал меня, не произнося ни слова, глядя в сторону и все ниже опуская голову.
— Ты, верно, презираешь меня, удивляешься моему безволию? — закончила я. — Ты разлюбишь меня теперь, не правда ли?
— Нет, — тихо отвечал Георгий. — Все мы люди, все человеки. А то, что нас подчас не ценит плохой человек, не умаляет нашего человеческого достоинства. — Помолчав, он добавил: — Как же это Михаил счастье свое упускает? Душой, видно, мелок. И как случилось, что я ничего не заметил? Мало я вашего брата, женщин, знаю. Некогда было приглядываться. То в тюрьме, то в подполье. Но если бы я знал, что ты счастлива, я бы как-нибудь пересилил себя. Скверно, что ты тоже несчастна. — Он все сильнее заикался. — Ведь если я скажу тебе: Наталка, милая, забудь его, — ты можешь подумать, что я говорю это из-за того, что ты его предпочла мне... Я ведь то, что называется лицо заинтересованное. А хочется быть беспристрастным. И я хочу тебе счастья, только счастья.
Не скоро ушел от меня Георгий. О многом мы с ним переговорили, и в конце концов он, видимо, понял, что я еще надеюсь и люблю Михаила.
Связь наша действительно продолжалась, но Михаил неизменно вносил в мою жизнь давящую напряженность. При нем мои мысли блекли, он утомлял меня и оскорблял, часто сам этого не понимая.
Как-то он предложил мне поселиться в соседнем доме.
— Ты будешь ближе ко мне. В общежитии мне неудобно бывать у тебя. Стипендии недостаточно. Я буду давать тебе на квартиру нужную сумму. Не стесняйся. Сколько тебе нужно ежемесячно? Для меня ведь это пустяк.
Я задрожала от негодования.
— Спасибо, я предпочитаю оставаться твоей любовницей по-прежнему без оплаты.
Михаил уже не казался мне ни загадочной, ни могучей личностью. Некогда он породил во мне иллюзии, он же их теперь и разрушил.
— Тебе, как всегда, нужны острые углы, любовная морока, слова, чувства, преувеличения, — сказал он. — А я устал и хочу покоя.
Теперь, когда я сама начала кое-что понимать, мысли Михаила, раньше удивлявшие меня, казались пустыми.
Михаил совершенно не интересовался моей жизнью. Отношения наши он тщательно скрывал и когда звал меня к себе, то старался, чтобы никто другой не зашел к нему в эти часы. Я не знала его друзей, он не делился со мной ни своими заботами, ни делами.
Однажды, незваный, пришел к брату Георгий и увидел меня. Михаил растерялся, засуетился.
— Вот твоя знакомая зашла за книгой. А может быть, вы условились у меня встретиться?
Георгий брезгливо поморщился и перевел разговор на другое.
Оба брата были пылкими шахматистами и вскоре принялись за игру. Михаил играл лучше, и Георгий, все более раздражаясь, проигрывал партию за партией.
— Слабенок ты в теории. Учиться надо, а ты все практикой увлекаешься, — вдруг сказал Михаил. — Дальше своей фабрики ничего не видишь и не понимаешь.
Георгий мгновенно вспылил.
— Мы с тобой в революцию шли, не думая о теории, — проговорил он взволнованно. — Ребята учатся говорить раньше, чем узнают грамматику, и говорят обычно правильно на родном языке. Революция, коммунизм для нас родной язык, без них мы бы остались немыми. Я на фабрике учусь управлять государством так же, как учился марксизму с братом Петром в подполье и в тысяча девятьсот семнадцатом году. А ты вот, родной мой, позабываешь пролетарский язык. Я таким, как ты, быть не хочу!
— Понятно, — огрызнулся Михаил. — Сводишь счеты на личной почве? — Скверная улыбочка появилась на его красивом лице.
Георгий побледнел, как-то сразу осунулся и, ни на кого не глядя, быстро пошел к двери.
Я побежала за ним, но так и не догнала его ни на лестнице, ни на улице.
РАВНОДУШИЕ
В эти тяжелые, путаные дни внезапно приехал Сапегин, работавший хирургом в большой больнице одного из южных городов. Он горячо и увлеченно рассказывал мне о своей работе, о проделанных им операциях.
— Представь себе заворот кишок — больной одной ногой в могиле. Юноша, шахтер. Доставлен на операцию с опозданием. Началось омертвение кишок. Понятно ли тебе ощущение врача, в руках которого в прямом смысле слова человеческая жизнь? Это вам не терапия, тут риск, величайшая ответственность перед своей совестью. Малейшая рассеянность, неосторожность — и зарежешь человека. Возможно, что с годами сухой профессионализм охладит, засосет и меня, но пока каждый оперируемый вбирает часть моей души. Ольга — такой же энтузиаст хирургии, как и я.
— Вы с Ольгой счастливые, нашли, чем и как жить. Но что привело тебя в Москву?
Александр Иванович хмурится и отвечает как-то необычайно робко:
— Я нашел кое-что новое в методах консервативного лечения ран.
Принявшись объяснять мне свое открытие, он добавил печально:
— Мои собратья-медики поднялись на меня войной. Сожгли бы, пожалуй, на костре, да не так легко. Мы ведь не из тех, кто сдается, когда уверены в своей правоте. Теперь мне нужен совет опытных специалистов.
Я решила познакомить Сайку с Михаилом. Он так много мог сделать для него. Мы отправились в главк и были приняты.
Михаил покровительственно слушал Сапегина, а я, сидя поодаль, невольно сравнивала их обоих.
Несмотря на то что Александр Иванович давно покинул родную рязанскую деревню, свежесть полей и березового леса навсегда сохранилась в его облике. И сейчас словно милый запах молодого сена исходил от его кудрявых, едва расчесанных волос, когда с доверчивой искренностью и надеждой он рассказывал Михаилу о своей работе и научных исканиях.
— Это может умножить силы организма в борьбе с любой инфекцией. Я уверен, что прав. Мне бы только хорошую лабораторию и контакт с учеными, разрабатывающими смежные, тесно соприкасающиеся области в эндокринологии и хирургии, — говорил он, волнуясь.
Но боже, с какой чванной и скучающей миной слушал все это Михаил.
Нетерпеливо постукивая пальцем по сукну стола, он заговорил об экспериментах рокфеллеровского института, о Цондеке, о каких-то других, едва ведомых мне и Сапегину прославленных врачах.
Сапегину оставалось лишь молча слушать вельможного собеседника.
Торопясь отделаться от нас, Михаил закончил:
— Я не врач, я только руководитель учреждения, но все, что вы здесь изложили, как-то попахивает кустарщиной. Где-то в глуши, без должной подготовки вы что-то такое открыли... Как-то все это по бабке-знахарке. А медицина, знаете ли, — наука точных знаний. На догадках, эмпирике, дедовских средствах тут далеко не уедешь.
Глаза Сапегина стали как густые серые тучи. Он встал.
— Вы начали с того, что вы не врач, но сейчас же изрекли приговор моей идее, исходя из научных выводов, — сказал он глухо.
— Хорошо. Поставим ваш доклад на обсуждение в соответствующем научном учреждении, — важно кивнул головой Михаил.
Попросив Сапегина подождать меня в приемной, я осталась в кабинете.
— Вы оба большевики, — сказала я горячо. — Сапегин не бабка-знахарка и не пустомеля. Он имеет право на внимательное отношение к его работе.
Михаил пробурчал что-то невнятно.
Я невольно отступила перед столь откровенным безразличием к судьбе человека.
Сколько начинаний, надежд, творческих замыслов разбивалось о камни такого вот равнодушия! Но имеет ли право член партии быть таким безучастным к людям, к их нуждам?
До самого дома шли мы с Сайкой молча. Он, как некогда в Крыму на пляже, проходя по скверу, носком ботинка ловко подкинул камешек, и тот прыгнул в его подставленную ладонь. Он сунул его в карман и принялся демонстрировать этот фокус обступившей его детворе. Каким точным чутьем дети угадывали в широкоплечем, сильном и внешне суровом человеке истинного своего друга. Александр Иванович подзывал к себе ребят одного за другим, давал им клички, шутил, вызывая их громкий смех.
С трудом мы вырвались из детского круга. И снова наступило молчание. В моей комнате Санегин вынул из кармана камешек.
— Этот достопочтенный индюк, к которому ты меня водила, думается мне, похож на этот камень.
Я принялась защищать Михаила. Рассказала о лучшем, что знала из его прошлого, но Сайка остался непреклонным.
— За прошлое спасибо, но теперь он мешает. Это человек в двух измерениях.
Неожиданность и точность вырвавшегося у моего друга определения поразили меня.
— Как, как ты сказал? — переспросила я, чувствуя, что сердце у меня заныло, точно больной зуб.
— В этом человеке два измерения: ширина — он уже тучен и длина — он высок ростом и положением. Вот и все.
— А третье?
— Глубины в нем не осталось. Жалею тех, кто к нему близок.
«Я!.. Я!..» — хотелось мне закричать, но стыд помешал мне. Признание, какое я однажды сделала Георгию, было мне теперь не под силу. Я прижала к груди диванную подушку и ничего не сказала.
Утром следующего дня меня вызвал Георгий. Табачная фабрика, на которой он работал секретарем партийной ячейки, несколько лет бездействовала. Преодолевая разруху, медленно восстанавливались цехи, вводились в строй заново отремонтированные станки. Совсем недавно дом, в котором прежде жил фабрикант, превратили в клуб. Там я впервые увидела Михаила.
Георгий попросил меня помочь в устройстве медпункта на фабрике. Краснопресненский райздрав охотно направил меня в помощь опытной фельдшерице Марии Ивановне, работавшей там постоянно. Правда, я немало времени отдавала практическим занятиям в клинике, но это не казалось мне серьезным препятствием. «Раз надо, значит, надо», — думала я.
Под медпункт отвели маленький флигелек на большом фабричном дворе. Трудно было мне и Марии Ивановне, маленькой, одутловатой от болезни сердца, шестидесятилетней женщине, привести две почерневшие от копоти комнаты с разбитыми дверьми в пригодный для приема больных вид.
Но мы обе не зря прошли школу гражданской войны. Трудности подхлестывали нас, умножали наши силы. Отмывая многолетнюю грязь и беля стены, мы видели, как с тем же упорством такую же работу делали для нас во дворе и в цехах другие. Нелегко было нам получить стекло и починить пол, но рабочие, довольные тем, что вместо нерегулярно посещающего их медработника у них будет постоянно лечебный пункт, помогали нам во всем. Через два дня запущенный, ветхий флигель стал неузнаваем. Правда, огромный фабричный двор был все так же мрачен и грязен, но на окнах медпункта белели накрахмаленные занавески.
Из красного уголка я унесла и повесила в приемной портрет Ильича, поставила вазон с фикусом, после чего принялась собирать медицинский инвентарь и необходимые лекарства.
И наконец, облачившись в белые халаты, мы с Марией Ивановной принялись за осмотр больных.
И все же Георгий был недоволен нами.
— В профессоров превратились, — сказал он сердито. — Трубочки, пробирочки, скляночки — это хорошо, но вот о профилактике вы совсем позабыли. У вас-то чистота, а что вокруг, то вас не касается?
Он был прав. Унылое открылось нам зрелище. Помещения, построенные в начале века фабрикантом, были отвратительны. Не хватало света, воздуха. Табачная пыль разъедала легкие и вызывала у людей неукротимый кашель. Мне стало понятно, почему на старых табачных фабриках рабочие, особенно молодые, в течение нескольких лет погибали от туберкулеза. Я вспомнила рассказы Ольги о ее тягостном детстве.
— Вот оно, проклятое наследство дореволюционной России, — сокрушался Георгий. — Страшно подумать, сколько нам еще предстоит тяжелой работы!
ПОРАЖЕНИЕ — ПОБЕДА
В эти же дни произошло заседание «избранных», на котором Сапегин сделал доклад о своей работе. Присутствовало несколько видных специалистов. Все они носили известные, чтимые в медицинском мире имена. Один из них, профессор Ахов, имевший свою школу-лабораторию, творил чудеса с помощью никому не известных засекреченных, таинственных препаратов. Профессор был очень худ и неврастенически подвижен, причем двигалось у него все: руки, ноги, голова, даже уши. Его очки скрывали очень увертливые и тоже весьма подвижные глазки. Никто точно не знал, где и когда он учился. Он появился как-то внезапно после гражданской войны и начал преподавать в институтах и врачевать в больницах, так нуждавшихся в те годы в опытных врачах. На лекциях он щеголял иностранными фамилиями, кого-то чудодейственно вылечил, и скоро его имя воссияло, прославляемое откуда-то вынырнувшими апостолами; которых он в свою очередь поддерживал.
Взглянув на Сапегина, Ахов подвигал очками, раздул ноздрями, помахал кудлатой головой и отрывисто забормотал:
— Рад. Наша смена. Слыхал. Смело, смело, однако надо помнить, что медицина не какой-нибудь опиум для народа.
— Совершенно верно, коллега, — согласился с ним профессор Боков, не вполне усвоив, впрочем, что хотел сказать Ахов.
Профессор Боков был человек, не возглавлявший никакой лаборатории, не претендующий на величие, но действительно знающий то, чему учился и учил. Болезни печени и желчных путей он изучил в совершенстве. Ему было около семидесяти лет, и жил он в мире великих теней. Пирогов, Захарьин, Высокович то и дело воскресали в его думах и словах. Он был так близко связан с ними, что всегда говорил о них в настоящем времени: Захарьин считает, Пирогов думает, Высокович делает. Добросовестный, отличный практик, он был искренне уверен, что является последним хранителем великих традиций в русской медицине.
О Сапегине он заранее решил, что работа его ересь и невежество. К тому же профессор Боков считал человеческий организм незыблемо определенным от природы и вообще порицал искания в области переливания крови.
Внешне профессор Боков был похож на знаменитого оперного певца. Вкрадчивый, бархатный голос, которым он играл свободно и уверенно, превосходно сшитый костюм, не сходящая с лица улыбка и ласковость обхождения — все было в нем приятно, но как-то не заинтересовывало. Ко всему, что его не касалось, он был подчеркнуто безразличен.
Совершенно не интересуясь Сапегиным, он с самой обворожительной улыбкой пожал ему руку и, назвав дорогим коллегой, пожелал успеха.
Последними в зал заседания вошли двое, в которых Сапегин со свойственным ему чутьем угадал иную человеческую породу. Один из них был немолод, второму же было не больше тридцати лет. Боков сразу же принялся своим прелестным баритоном рассказывать Сапегину о вошедших. По его словам, тот, что был помоложе, многого достиг в области изучения желез внутренней секреции, другой, постарше, был виднейший хирург. Сапегин давно знал его имя и почувствовал радость оттого, что сможет рассказать ему о своих опытах. В обоих ученых не было ничего особо примечательного, и все же они резко отличались от тех, что пришли раньше. Ни фальшивого дружелюбия, ни деланных улыбочек здесь не было и в помине. Скромность и глубокий интерес к делу чувствовались даже в их внешнем облике. Естественность их не могла не привлечь. Сапегин, одинокий среди «павлинов», как он про себя обозвал окружающих, подошел к ним. Завязалась беседа, в которой, как ему показалось, он нашел понимание и сочувствие.
Вошел Михаил. Он напоминал манекен из магазина готового платья. Пять или шесть государств снабдили его предметами туалета. Поглядев на него, профессор Ахов сказал на ухо профессору Бокову:
— В Козинцеве, хоть он и большевик, совершенно нет ничего плебейского.
Большей похвалы от него нельзя было услышать.
Заседание началось. Когда часа три спустя оно кончилось и Сапегин вышел на улицу, ему показалось, что липкая, сладкая, грязная жижа, которой его пытались облить, проникла в мозг и склеила мысли. Его преследовало хихиканье вертлявого профессора Ахова. Он вспомнил, как Михаил дважды оборвал старого хирурга, пытавшегося сказать что-то в защиту нового открытия. Сапегина обвинили в плагиате.
— Это же Цондек, коллеги, это Штейнах, не говоря уже о Воронове! — кричал Ахов.
— Да ведь все, что мы слышали, — шаманство! — заявил Боков. — Во всем этом та же путаница, что у защитников тибетской медицины.
— Непонятно, и тем более для врача-коммуниста. Я хоть и не врач, но вижу, что все это вреднейшая путаница, — резюмировал обсуждение Михаил.
* * *
Несколько дней спустя я прихворнула, пришлось посоветоваться с врачом. Он рассеял мои сомнения. Мне предстояло стать матерью. Я почувствовала себя на мгновение раздавленной этим открытием. Как мне следовало поступить? Радостью было бы ожидание ребенка вдвоем с мужем. Но теперь? Я ведь знала, как отнесется Михаил к моему сообщению. Снова возникло против него чувство злобы, даже брезгливости. Ведь наш ребенок будет так же далек ему, как и я. Горечь и радость переплетались в моей душе. Ну что ж, выращу свое дитя сама, если нет со мной человека, который полюбил бы его так же, как я.
К вечеру я попросила Георгия зайти ко мне, но не призналась ему, почему рассеянна и задумчива. Приятно было смотреть на то, как он кипятит чай, исправив предварительно чайник, как движется по комнате, преданный и заботливый. Я принялась читать ему вслух газету, чтобы только нарушить тишину.
В это время позвонили у входной двери. Я бросилась открывать. Это был почтальон.
Редко я получала письма, и долго я стояла в передней, вглядываясь в незнакомый почерк. Кто бы это мог быть? Большие торопливые буквы Ольги я знала отлично. Письмо было не от нее.
Только когда Георгий ушел, я решилась вскрыть сиреневый конверт.
Прочтя первые строки, я услышала неистовое биение своего сердца.
«Наталка, голубка моя. Я не мастер писать письма и любить, как видно, тоже. Но ты давно не приходишь, и, представь, меня обуяла тоска. Если ты помнишь, однажды я предлагал тебе поселиться по соседству со мной. Ты не согласилась и что-то такое наговорила мне тогда о своем нежелании быть моей любовницей. Ну что ж, может быть, ты согласишься на другое. Будь, как говорится, моей женой. Не всегда я был хорош к тебе и, верно, сам того не желая, обижал. По правде сказать, я не люблю всякой там любовной мороки, которая так нравится молодым женщинам. Я хочу покоя и думаю, что мы с тобой сможем жить, не мешая друг другу. Недавно ты сделала мне несколько справедливых упреков. Ну что ж, сдаюсь и предлагаю — давай попробуем начать все сызнова. Любящий тебя Михаил».
Снова и снова я перечитывала написанное. Радость, появившаяся вначале, исчезла. Усталость наполнила мое сердце. Борьба за утверждение своего человеческого достоинства оказалась слишком тяжела для меня. Может быть, я и окрепла в ней, но, близко узнав Михаила, я его уже не любила.
Неожиданно с шумом распахнулась дверь, и на пороге появился Сапегин. Сидя спиной к входу, я увидела его в зеркале и привстала. «Свирепый или больной?» — подумалось мне. Сайка тяжело опустился на диван. Припухшее лицо его было багровым. Он положил на стол газету и провел пальцем по заголовку. В статье повествовалось о доморощенных открытиях «некоего» Сапегина. Сообщая о прискорбном явлении, имевшем место недавно, когда неведомо откуда взявшийся лекарь (именно так было написано) пытался протащить никчемную и крайне вредную лженаучную теорию, автор статьи разражался бранью по адресу моего друга.
* * *
В тот же вечер я пришла к Михаилу. На столе стояли цветы.
— Оставим предысторию, — заговорил он, поцеловав мне руку. — Будем считать, что наша дружба началась только сегодня.
Я уселась, поджав ноги, в большое кожаное кресло, где провела уже столько грустных часов. Все в этих комнатах было мне хорошо знакомо, во всем была частичка моих дум и моей печали. На мгновение мне захотелось сказать Михаилу, что у меня будет ребенок, но искушение быстро прошло, и я промолчала.
Михаил подсел ко мне. В лице у него снова появилось робкое и просительное выражение.
— Ты понимаешь, — сказал он с искренним удивлением, — мне тебя стало не хватать. И ночью и днем я испытываю потребность чувствовать, что ты рядом. Вот какая оказия со мной приключилась!
Он попытался обнять меня, но я отодвинулась и сказала каким-то удивившим меня самое чужим голосом:
— Не надо. Сделанного не исправишь. Я ни в чем не хочу тебя винить, но того, что сломалось, теперь не склеить. Дед мой когда-то говорил, что он жизнь свою уронил. Так вот и я любовь к тебе уронила на черной лестнице, вон там, — я указала на кухню.
— Какая чепуха, — возразил с раздражением Михаил. — Ведь теперь все будет по-другому. Какое все это имеет значение?
Мы посмотрели друг на друга как чужие. Я встала. Михаил засуетился.
— Мне казалось, что ты меня любишь, и я тоже привык к тебе, — сказал он тоном капризного избалованного ребенка.
Я с недоумением поглядела на него. Странное у меня было чувство. Я подумала о том, что месяцы нашей близости нисколько не сблизили нас.
— Твое бездушие порождает жестокость, — сказала я. — Подумай, что ты сделал доброго людям? Взять хотя бы твое отношение к молодому врачу, приехавшему за советом, за деловой помощью... Подлая статья, которую ты пропустил... может быть, даже сам написал. Нет, — сказала я твердо, — я не стану твоей женой. Есть удары, которые наносятся в самое сердце. Они не забываются. Ты обидел не только меня. И стать твоей женой, зная заранее, что не будет у меня к тебе доверия и уважения, было бы нечестно, нам надо расстаться.
Сказав это, я вышла, не слушая всего того, что говорил Михаил, пытаясь переубедить меня.
* * *
Нелегко далось мне принятое решение.
Прошло несколько дней, а я все еще не могла прийти в себя и взяться за занятия.
Все это время я не видала людей и не читала газет. И только недели через две после прощания с Михаилом, преодолев терзавшие меня мучительные сомнения, я почувствовала себя спокойной. Мне захотелось снова быть среди людей, и с ощущением человека, выздоравливающего после тяжелой болезни, я вышла на улицу.
Вечерело. Стоял сильный мороз. И сразу же все вокруг показалось мне необычным. Воздух был пронизан чем-то зловещим, мрачным стал даже свет, лившийся сквозь замерзшие стекла фонарей и витрин.
Мимо меня в одну и ту же сторону шли толпы людей, голоса их звучали тревожно.
— Умер Ленин! — внезапно донеслось до меня...
...История, величавая, как жизнь и смерть, стояла на страже у гроба. Каждое мгновение рвалось ввысь, в вечность. Смерть Ленина возвела рубеж в жизни людей. Еще вчера мы знали — так говорит Ленин, сегодня никто больше не мог бы услышать его голос.
Кто из нас не мечтает об идеале, о вожде, которому можно всецело довериться, за кем можно идти. Кого из нас не пленяет образ предельного человеческого совершенства, образ человека, чьи поступки, слова, цели безупречны, полны силы, ума и благородства. Мы выискиваем образцы человеческого высокого стремленья в прошлом и настоящем и жадно рыщем по биографиям гениев. Человек, для которого раскрыт мир и вселенная, человек, окидывающий одним взором все закоулки земли, сердец и мыслей, — вот кого мы ищем повсюду.
Прошлое вечно живо оттого, что оно дает нам таких людей, какими хотели бы стать и какими должны быть и будут люди будущего.
Дым догорающих костров, сливаясь с морозным туманом, исчезал в пустом злом небе. Ленин умер. Сознание все еще сопротивлялось, отгоняло страшную правду. Шаги сотен тысяч людей по хрустящему снегу улиц, плачущий голос гудков и сирен, грозная печаль оркестров, деревянный мавзолей, и на нем одно всеговорящее слово «Ленин».
Ленин, энергии и ума которого хватало на все человечество, гений, пронзивший взором века, лежал здесь, поверженный смертью. Каждый шедший в эти дни к его гробу отдал бы за него свою жизнь, но даже миллионы жизней не могли бы продлить ни на секунду его бытия.
Мне казалось, что я живу в эти дни в черном, глубоком колодце. Все личное стало ничтожно-мелким и нестоящим по сравнению с глыбой горя, придавившей страну.
* * *
Весной 1924 года Георгий пришел ко мне, чтобы попрощаться перед отъездом, — я уезжала в маленький город работать врачом. Смущенно достал он из кармана пакет. Это была розовая погремушка из целлулоида с головой смеющегося бульдога.
— Твоему малышу. Помни, я люблю тебя и приеду, когда позовешь. Я жду!
— Спасибо. А сына я назову Георгием.
Всего неделю назад мы с Георгием проводили Сапегина. Он уезжал приободрившийся: борьба ему предстояла нелегкая, но вмешательство научных консультантов развеяло клевету. Работа Сапегина была признана ценной и важной.
Когда поезд тронулся и я осталась одна, мысли о будущем ребенке и о работе, которая предстояла, помогли мне собраться с силами. И снова, окрепшая и спокойная, я готова была идти вперед в сомкнутых рядах неутомимой армии коммунистов.
1958
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





