ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
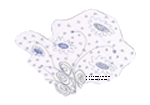

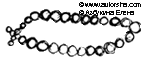
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ильина Наталия 1987
На первых же двух — диктант и сочинение — я провалилась. Из предложенных для сочинений тем я выбрала о Маяковском, я его тогда любила и писала, помнится, вдохновенно. Но что именно писала — из памяти выветрилось. «А сочинение ваше какое-то странное!» — сказал мне директор института В. С. Сидорин, беседовавший со мной после этих позорных провалов. Я не поняла, какие «странности» имелись в виду, а спросить не решилась.
Думаю, что дело было вот в чем. В советских учебных заведениях, ни в средних, ни в высших, я не училась, Маяковского, следовательно, не «проходила», и какими словами полагалось о нем писать в то время, мне, естественно, ведомо не было.
Что касается диктанта, то причины моего провала были ясны совершенно: две орфографические ошибки и девять не туда поставленных запятых...
Диктовали нам отрывок смутно знакомый, когда-то читанный. Тургенев? Описывалось ясное летнее утро в среднерусской полосе, лужайка, лесная тропинка, пчельник, и мелькнуло прилагательное, заставившее меня содрогнуться: «дощатый»? «досчатый»? Спокойно. Спокойно. Если сомневаешься — напиши и так, и эдак, инстинкт одно отвергнет, другое примет. Написала. Фокус не удался: инстинкт ничего не отвергал, колебался, а раздумывать некогда, и могильным холодом повеяло на меня от этого радостного солнечного утра, от лужайки, пчельника, лесной тропинки... Проза лилась тут нескончаемыми потоками, их следовало сдерживать то тире, то запятой, то точкой с запятой. Инстинкт, придушенный страхом, умолк окончательно, и не на что опереться: школьные годы давно позади, грамматика забыта... Куда-то настойчиво просилась точка с запятой, но куда, куда именно? А будь они прокляты, эти фразы длиною в полстраницы, эта неторопливая описательность классиков XIX века! И мне вдруг представился Тургенев в шлафроке, в сафьяновых туфлях, уютно сидящий за столом (в окне вид либо Парижа, либо какого-нибудь аккуратного немецкого городка), с ностальгической грустью описывающий из своего прекрасного далека скромный русский пейзаж, и я ощутила к Тургеневу глубокую неприязнь...
Аудитория невелика, светла (высокие старинные окна, за ними зелень сада), нас, сидящих за черными, учебными, исцарапанными столами, немного, каждый на виду, заглянуть бы в листок соседа (как он там вышел из положения с «дощатый», «досчатый»?), но не могу! Преподаватель, диктуя, то и дело поднимает на нас глаза, он вскинет — а я заглядываю, позор! Не школьница. Не девчонка. Я тут едва ли не старше всех. Впрочем, не сильно старше, пришедших со школьной скамьи что-то не видать, большинству за двадцать, некоторым под тридцать, а то и больше — институт особый и время особое: совсем недавно окончилась война.
И вот, через два, что ли, дня, мы вновь сидим за исцарапанными черными столами. На моем, к примеру, чей-то перочинный нож сработал целую фразу: «Я люблю подмосковные рощи». Сколько усердия, сколько терпения, не пером писано — ножом, каждая буква усилие, какова, интересно, была цель этих трудов, испортивших казенную мебель? Я усмехнулась, помнится, не ведая, что сейчас мне будет не до смеха...
Вошли двое. Тот, кто диктовал нам, и с ним — заместитель директора. В их лицах, в их поступи было что-то грозно-торжественное: суд идет! Это и в самом деле был суд, явившийся назвать имена тех, кто не вынес первых испытаний, и объявить приговор: их осуждали на недопуск к дальнейшим экзаменам, закрывали дверь в институт...
Замдиректора поднял к лицу бумагу со списком осужденных, начал читать голосом нейтрально-спокойным, и вдруг громовой удар, будто рядом разрядили огнестрельное оружие, — так выстрелила мне в ухо моя собственная фамилия. Замдиректора теперь уже беззвучно, как в немом кино, шевелил губами — я оглохла.
В том же оглушенном состоянии я вышла из института, шла по бульвару, бормоча: «Я люблю подмосковные рощи...» Шла и шла, ничего кругом не видя, надо бы на троллейбус, но я шла и шла, и к реальности, к Москве, к жаркому августовскому дню меня вернули рядом взвизгнувшие тормоза, чьи-то проклятья и лицо милиционера, передо мной возникшее. Я увидела залитую солнцем Арбатскую площадь (в те годы бестуннельную), мы с милиционером стояли в самом ее центре, автомобили огибали нас, я, оказывается, пыталась пересечь площадь по диагонали (что внесло смятение в ряды движущегося транспорта) и едва не стала жертвой «наезда»: из остановившейся неподалеку машины мне кричали что-то неодобрительное и грозили кулаком. Милиционер жестом пресек это справедливое негодование, еще одним мановением руки приказал машине исчезнуть (она исчезла), после чего, указав мне на странность, а также недопустимость моего поведения, потребовал штраф в десять рублей. У меня не было десяти рублей. Отпустили так. Милиционер оказался душевным человеком. А быть может, вид у меня был такой, что дрогнул бы и камень.
Затем я лежала на веранде в Гагаринском переулке, лицом к стене, делая вид, что сплю, дверь в сад — настежь, мимо меня ходили на цыпочках, тетя Инна шептала: «Кажется — заснула. Пришла такая расстроенная! Провалилась на экзамене». И позже, вернувшемуся со службы дяде Ване: «Ваня, подумай! Она провалилась!» О моем позоре тетка сочла нужным уведомить всех обитателей квартиры, а также, думаю, своих знакомых, в тот день звонивших.
Под вечер я не выдержала, сказала, что голова болит, хочу проветриться. Тяжко было идти через кухню (сочувственные взгляды), но вот дверь затворилась, я на улице, среди прохожих, они ничего не знают обо мне. Я ходила по арбатским милым переулкам, и они сами привели меня на улицу Вахтангова. На этой улице, когда она называлась Николо-Песковским переулком, в доме, уже не существующем, родились и отец мой, и дед, и прадед... Ильины — москвичи, ну а мне в Москве не жить, не жить, не жить. И в Литературном институте не учиться! Все кончено. Провалилась. И перед Симоновым-то как стыдно!
Симонов и был тот «писатель с именем», который рекомендовал меня в Литинститут. В то время Симонов был главным редактором «Нового мира», и я явилась туда с письмом Вертинского, моего старого друга по Шанхаю... Я ждала в редакции, пока меня примут, часа два или больше, в комнату, лишенную окон, где я сидела, выходило много дверей, из них выбегали, в них вбегали сотрудники (у некоторых гранки в руках), кипела жизнь, доселе мне неизвестная. Сотрудникам я страстно завидовала: счастливцы, работают в советской печати! Что там два часа! Я готова была тут сутки просидеть, наблюдая, изучая, впитывая. Да и куда мне торопиться? Меня приняли наконец. Взяли мою книжку фельетонов, велели вновь явиться через неделю. Явилась. Ждала. Приняли. Похвалили книжку, сообщили, что рекомендательное письмо в институт отправлено. Вот меня и допустили к экзаменам. А я, боже мой, провалилась. Стыд-то, стыд какой!
Но стыд стыдом, а позвонить Симонову я обязана, поблагодарить его хотя бы через секретаршу. Этот человек, такой занятой, тратил на меня свое дорогое время, книжку читал, письмо писал... Нельзя же молча исчезнуть.
Звонила на другой день, из автомата. Бодрым голосом сообщила секретарше, что я, увы, провалилась, и просила передать... Мне сказали: «Сейчас соединю!» Но зачем? Я просто хочу... Моих протестов либо не слышали, либо секретарши уже не было на проводе, трубка оживилась неразборчивым редакционным шумом, и чей-то смех (они там бегают с гранками, счастливцы!), и голос Симонова, уже поставленного в известность, ибо первыми его словами были: «Неужели провалились? Как же так?» А вот так. Сама виновата. Плохо подготовилась, и вот результат. Даже пошутила насчет рабы, которая сама себя бьет, ибо нечисто жнет. Довольная собой (красиво держусь!), я собиралась перейти к изъявлению благодарности, но меня перебили: «Постараюсь что-нибудь придумать». Все. Трубка омертвела.
Я вышла из телефонной будки удивленная, смущенная, растерянная. Он понял, надеюсь, что я ни на что не жаловалась, ни о чем не просила, единственно долг вежливости хотела выполнить? Что он хочет придумать? Что тут можно придумать? Забыть. Завтра еду в Казань.
Но в тот же день я была вызвана телефонным звонком к директору Литинститута В. Сидорину. Он предложил мне подать заявление на заочный, куда меня примут без экзаменов. Если же весной я пройду испытания за первый курс — переведут на очный. «Идем вам навстречу из уважения к вашему несомненному литературному дарованию».
И в тот вечер я, как герой пастернаковского «Марбурга», не чуя под собой от радости ног, шаталась по городу и декламировала, на все лады повторяя: «несомненное литературное дарование...», «из уважения к вашему несомненному...».
Разумеется, об этих словах узнал весь дом в Гагаринском без хлопот с моей стороны — я похвасталась лишь тете Инне. И уже кухня меня поздравляла, и коридоры выражали свое удовольствие, и вот почему так мажорно начинается мое письмо к матери от 30 августа: «Мамочка, все хорошо, меня приняли в институт! Правда, на заочный, но неважно, год не пропадет. Это правильно, что я провалилась, это хлестнуло меня по моей самоуверенности. Уж теперь-то я грамматику одолею!..»
В то раннее утро моего возвращения Казань, неторопливо просыпающаяся, своим провинциальным обликом похожая на город детства и юности Харбин, показалась мне уютной, привычной, эдаким пристанищем усталого путника. После головокружительных шести недель знакомства с Ленинградом, переходов от надежды к отчаянью и снова к надежде в Москве — тишина, покой, ясность, моя линия в жизни определилась, я знаю, что мне делать, как жить.
* * *
И наступила вторая казанская зима. Зима 1948/49 года.
С первыми же холодами на правой от входа стене моей комнаты проступила мохнатая изморозь. Когда печку топили, по стене текли ручейки. Хозяйка Анна Ивановна топила печку лишь вечером, возвращаясь с работы. Ни Вале, ни мне драгоценные ключи от дровяного сарая не доверялись. Время от времени по неизвестным причинам гасло электричество, что продолжалось час, два, а то и больше, мне же дорога каждая минута, даже секунда, то расшифровка стенограмм, то конспектирование учебников, то контрольные работы на темы, присланные институтом. «Живу в вечном цейтноте, — писала я матери, — кроме Института ортопедии и консерватории стенографирую то там, то сям, зарабатываю хорошо. Могла бы зарабатывать и больше, но тогда пришлось бы жертвовать учением. Я же, что бы то ни было, заставляю себя сидеть над учебниками ежедневно».
В казанских магазинах свечи были, я купила их много и приучила себя не впадать в отчаянье при внезапном исчезновении электрического света. Зажигала свечу. Утешала себя тем, что люди прошлого века и вообще не знали электричества, именно при свечах писали наши классики свои бессмертные произведения. Правда, им не приходилось разбирать стенографические закорючки (скудный свет свечи замедлял процесс расшифровки), но зато слепой метод печатания на машинке помогал мне в эти безрадостные часы.
Вспоминая ту зиму, я прежде всего вижу два замерзших окошка — они постоянно находились перед моими глазами. За окнами ничего не видно, они как замерзли с первыми морозами, так до весны и не отошли. «Что там, изморозь или гроза?» — мрачно думала я ахматовскими словами. А может, вьюга? Не слышно шагов прохожих, они там, верно, все уже вымерзли. На мне, поверх свитера, подпоясанный для тепла ватный халат, на руках старые вязаные перчатки с отрезанными наподобие митенок пальцами, я стучу на машинке, время от времени поправляя клонящуюся, на дно какой-то банки прилепленную свечу, иногда вскакиваю, чтобы потопать застывшими ногами, размяться, погреть руки, сунув их под мышки, на стене шевелится огромная тень, все предметы комнаты тонут во тьме, и боже мой, который час, и когда наконец вернется Анна Ивановна, да черт с ним, со светом, хоть бы печку затопили, уж что-нибудь одно, либо холод, либо тьма, это жить нельзя, когда то и другое вместе!
Чтобы радовать мать своими успехами, я посылала ей отзывы профессоров Литинститута на мои работы. Часть отзывов поэтому сохранилась. Перечитывая сегодня соображения преподавателя литературы относительно моего разбора повести Чехова «В овраге», я вижу, что меня упрекают в «чрезмерно рационалистическом подходе к творчеству». Это — результат влияния моих друзей, Виталия и Юры, постоянно учивших меня «преодолевать эстетизм» и рассматривать произведения литературы с точки зрения пользы, ими приносимой делу социализма... Между прочим, Юра, учившийся в католическом колледже, лишь недавно, в школе рабочей молодежи, начал знакомство с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и Тургеневым. Достоевского не читал, имена Блока и Пастернака были для него звуком пустым... И этот человек учил меня понимать литературу! Но мне это почему-то тогда не казалось странным. Тот же Юра вместе с Виталием постоянно учили музыкального Олега «правильному отношению к музыке». И Олегу это не казалось странным. Мы с ним считались шаткими художественными натурами, нас могло занести не туда, куда следует, мы нуждались в руководстве, и вот нами руководили...
Свидания с друзьями сократились той зимой до одного раза в неделю. Виталий и Олег проводили у меня свои свободные вечера. К нам присоединялся Юра. «Наши посиделки не потеря времени, — сообщала я матери, — мы стали даже, по предложению Виталия, планировать свои встречи. В следующий раз Юра расскажет нам о положении в Китае. Мне поручено сообщить о постепенном закрепощении крестьян в России, а Виталий собирается осветить нам аграрный вопрос конца XIX — начала XX века. Видишь, как мы потрясающе умны?»
Что и говорить: умны мы были потрясающе. И, принимая во внимание наш возраст, добавлю: умны не по летам! Виталий, к примеру, выдвинул однажды такую теорию: профессия писателя скоро отомрет. Классики минувшего века описывали, в сущности, жизнь бездельников. А в наше время нельзя описать человека вне его труда. Значит, прежде чем браться за перо, писатель обязан изучить профессию своего героя, превращаясь то во врача, то в инженера, то в токаря, то в шахтера. Это можно, но зачем? Кто лучше расскажет о труде токаря, чем сам токарь? Вывод: писатели-профессионалы нам скоро просто не понадобятся.
Лет семь спустя моя московская квартирная хозяйка нередко сетовала, что лишь отсутствие времени мешает ей засесть за роман. Она была весьма слабо образованной женщиной, и меня смешили ее слова. А той казанской зимой идиотская теория Виталия не рассмешила почему-то ни капли. А в самом деле: почему бы токарям самим не взяться за перо, оттеснив писателей-профессионалов?
В письме от 10 февраля я пишу матери: «...на второй семестр благополучно перешла по письменным работам. От нас, как ты знаешь, требуют еще и творчества. Написала недавно рассказ. С интересом жду оценки».
Я и сегодня с интересом познакомилась бы с этой оценкой... Видимо, она была благосклонной, ибо «зачет по творчеству» я получила. И рассказ бы этот перечитала не без волненья: он был написан на тогда модную тему — эвон куда меня заносило! Но рассказа не сохранилось. Я все обещала послать его матери, но так и не нашлось времени на перепечатывание. Смутно припоминаю лишь одну сценку: диалог молодого писателя из рабочих с эстетствующим критиком, происходящий на лоне природы, — беседуют у дачного забора, разделяющего их владения. Легко могу вообразить, что молодой писатель учит критика правильному подходу к литературе (слогом Виталия и Юры), а эстетствующий старикашка упорствует, не желая сдавать своих обветшалых позиций...
«Радуюсь моей работе в консерватории, — писала я матери, — идешь по залу, и из всех аудиторий музыка, музыка, музыка. Я тут заодно и учусь, ибо стенографирую лекции по истории музыки...»
Но не только лекции стенографировала я в консерватории. В кабинете директора устраивались совещания, некоторые преподаватели обвиняли друг друга, и не мне было судить — справедливо или нет, но бывало, что после такого совещания застревал в душе неприятный осадок. Объяснить я его не могла, все ведь хорошо, справедливо, правильно... И я старалась осадок не взбалтывать, не тревожить, застрял где-то на донышке души — и пусть, сам, быть может, рассосется, исчезнет...
Друзья мои и я были тогда такие твердые, несгибаемые, исполненные оптимизма, не знающие сомнений, глубоко положительные персонажи. Стремились к всегдашней ясности. Часто цитировали Маяковского, божились им, а вот почему-то ни разу не вспомнили тогда его прекрасных слов: «Тот, кто постоянно ясен, — тот, по-моему, просто глуп!»
И странно мне читать мои письма к матери, той зимой написанные: «У вас тревожно в Китае, милая мама, а мы живем тут просто и мирно!»
Я читаю сегодня эти письма, и мне слышится шепот мисс Бетси Тротвуд из любимейшего романа моего отрочества, все повторявшей, глядя на Дэвида Копперфилда: «Слепой, слепой, слепой!»
Комната моя оказалась и сырой, и холодной, и лишь мое тогдашнее железное здоровье помогло мне перенести зиму, ни разу не захворав. Посещала иногда тревога, в причинах которой я разобраться не могла и, видимо, не хотела. Было боязно хоть чем-то пошатнуть, сдвинуть душевное равновесие, ощущение покоя и прочности, доселе мне незнакомое. Я уважала себя: научилась хорошо делать свое дело, ни записи, ни расшифровка не доставляли мне прежних мучений. И я была тут нужна, меня постоянно звали стенографировать. Ушло чувство неполноценности, даже униженности, нередко посещавшее меня в Шанхае. Не шроф, ожидающий в передней. Не сборщица объявлений, от которой не чают, как отделаться. Стенографистка. Почетная профессия. «Сюда, пожалуйста. Вам удобно? Света достаточно?»
И главное: кончились метанья, суета, неуверенность. Отныне путь мой прям и ясен: меня ведут к заветной цели, через пять лет диплом советского вуза и профессия «литератор». Мне надлежит лишь добросовестно следовать указаниям, лишь выполнять, твердо зная, что именно требуется от меня. А учиться так весело! (Слова: «как весело учиться!» я нахожу в одном из писем к матери, той зимой написанном.) Голова моя сохранила свежесть и способность восприятия, память пусть и не та, что была в юности, а все же совсем недурна, учение дается легко, я любила себя за это.
Я не была тогда, разумеется, знакома со строками Ахматовой: «...но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен?» — однако страх перед бегом времени испытывала постоянно, сама, видимо, не отдавая себе в этом отчета. Но догадывалась: совладать с этим ужасом может помочь лишь одно — сознание, что минуты и часы уходят не напрасно, что день не потерян.
Теперь я знала, чем заполнять вереницу дней, на пять лет вперед знала, была цель, было к чему стремиться, неумолимость бегущего времени не страшила — этим, думаю, объясняется душевное равновесие, обретенное той зимой.
«Вот мне за тридцать, милая мама, — писала я в Шанхай, — а чувство такое, будто жизнь лишь началась и все впереди... Сейчас весна, и по крутым казанским улицам бегут ручьи...»
* * *
В июне заочникам предстояло сдать восемь экзаменов и два зачета. Между испытаниями — два-три дня перерыва, профессора давали нам консультации, разъясняли то, чего мы во время наших одиноких зимних занятий не были в состоянии одолеть своими силами. На первом курсе кроме меня было еще две заочницы, но обе москвички, все же остальные — заочники (сколько их было? восемь? десять? — не помню!); представительниц «слабого пола» в этом институте было значительно меньше, чем «сильного»... Меня поселили на втором этаже в общежитии «девочек» («мальчики» обитали во флигеле), я была в комнате шестой, напротив, дверь в дверь, жили еще четыре студентки, одна из них была старше меня, все остальные моложе, но курсами старше. Они учились на очном отделении, свои экзамены либо сдали, либо досдавали, постепенно разъезжались, к концу месяца я осталась в комнате одна...
Но всю первую половину июня институт гудел народом, жил полной жизнью, звенели звонки, распахивались двери аудиторий, студенты курили в коридорах и на скамейках в саду, мелькали лица, многие из которых (чего я тогда знать не могла!) из жизни моей не уйдут, так все и будут мелькать передо мной, постепенно старея, то в писательских Домах творчества, то в клубе, то во дворе дома, где я живу, — больше тридцати лет прошло с того июня, и как же изменились эти лица, начиная с моего собственного!
Государственные экзамены были главным событием июня; они шли в зале, их принимала комиссия, что-то важное и торжественное совершалось за плотно затворенными дверями, — проходя мимо, все невольно замолкали от уважения... Однажды я почти наткнулась на выходящего из зала Федина, следом идут другие члены комиссии, а рядом с Фединым молодая женщина, блондинка, лицо огорченное, едва ли не заплаканное, а он говорит ей красивым барственным голосом: «Но, дорогая моя, а чего ж другого вы могли ждать, если в «Онегине» вы перепутали...» Тут их от меня заслонили, я так и не узнала, что именно перепутала эта несчастная и неужели провалилась?
Нет. Просто получила тройку. Это мне сообщают студентки, делившие со мной комнату. Их осведомленность потрясает меня. Я случайно, идучи из сада, наткнулась на выход комиссии, эти же трое так наверху и пребывали, и вот им уже все известно — и кто перепутал, и что перепутал, и даже какая отметка!
Студенток, деливших со мной комнату, было пятеро, но две из них из памяти моей почти выпали, обе скоро уехали, обе в Литинституте не доучились, с тех пор я с ними не встречалась. Трое же других учились на старших курсах, им скоро предстояли госэкзамены, и они близко принимали к сердцу судьбу тех, кто сдавал теперь... И были они переполнены своими делами, заботами, романами... Моя ближайшая соседка по койке, вернувшись однажды вечером из сада, улеглась, взяла книгу, но я видела — не читает. С таким вдохновенно-мечтательным выражением лица никто не читает, да и страницы не переворачивались... А не произошло ли именно в тот вечер решительного и счастливого объяснения? И она, и муж ее (как он был в те годы молод, худ и обтрепан!) до сего дня встречаются на моем пути, это дружная пара, у них взрослая дочь, внучка — целая жизнь прошла с тех пор... К нам в комнату захаживали студенты. Один, высокого роста малый (вот его я никогда больше не видела!), навещал маленькую и пухленькую блондинку, говорившую со своим поклонником капризным тоном и вечно нагружавшую его поручениями, — проверяла, видимо, свою над ним власть... Насчет романов третьей — шатенка с красивыми серо-голубыми глазами — сказать ничего не могу. Была она сурова, неулыбчива, уверена в себе... И когда однажды к ней зашел студент (темно-курчавый, в очках, серьезный до мрачности), было ясно: визит чисто деловой. О студенте этом мне было позже сказано: «Талантливый прозаик. Любимец Федина».
И эти трое были прозаиками, одну хвалил Паустовский, другую отметил Федин, повесть какой-то из них была уже опубликована или принята к опубликованию, — короче говоря, я остро ощущала дистанцию, меня от них отделявшую. Они эту дистанцию тоже ощущали. На фоне всех волновавших госэкзаменов, а также событий их собственных биографий, испытания заочников-первокурсников (для меня едва ли не вопрос жизни и смерти!) этих институтских старожилок волновать, естественно, не могли. Моя особа тоже не сильно занимала их внимание... Поначалу, правда, удивились, узнав, что я живу в СССР всего полтора года, а прежде жила в Китае, но подробностями особо не заинтересовались... Из вежливости, однако, спросили — что я пишу? Фельетоны уронили меня в их глазах, фельетоны это несерьезно, это вам не романы, не повести, не рассказы... «Что? Сразу на машинке?» Тут мои акции упали окончательно. Пером надо писать, пером! И не вечным, а тем, которое макаешь в чернильницу, это сам Федин говорит! Пока макаешь, идет истинный процесс творчества, а из механического стукания пальцев по клавишам ничего путного не родится! Я, хотя неравенство свое с ними ощущала, держалась, однако, независимо, позиций не сдавала, спорила... В таком случае, быть может, есть смысл вернуться к гусиным перьям? И между прочим, Хемингуэй, кое-что путное родивший, пишет исключительно на машинке...
Звенели звонки, распахивались двери аудиторий, к нам беспрестанно забегали соседки из комнаты напротив, все четверо сдавали госэкзамены, их рассказы слушались с волнением... Однажды одна из них исчезла, ей идти сдавать, а ее нет нигде, бегали, искали, окликали, под кровати заглядывали... Она не сумасшедшая прятаться под кроватью! Нет, она именно сумасшедшая, с нее станет! Утром была сама не своя, глядела на фотографию своего ребенка и причитала: «Знал бы ты, что ждет твою мамочку!» Но в чем дело? Ведь уже три экзамена благополучно сданы! Но именно этого она боялась больше всего... Нервы не выдержали, вы же знаете, сколько ей пришлось пережить, когда...
Я вместе со всеми бегала, искала, включалась в разговоры о нервах и экзаменационных страхах, как весело ощущать себя не чужеродным телом среди институтских старожилок, а быть активной участницей этой волнующей жизни... Беглянку наконец обнаружили за каким-то коридорным шкафом, извлекли оттуда — маленькую, дрожащую, — говорили с ней добрыми, увещевательными голосами, пытались отнять фотографию (не дала, сунула за шиворот, а перед моими глазами мелькнуло изображение голого младенца на подушке), повели под руки вниз на экзаменационное судилище.
Все кончилось благополучно, и, помнится мне, через несколько дней, когда госэкзамены уже позади, и зал с распахнутыми дверями утратил свой таинственно пугающий вид, оттуда однажды вечером раздались звуки рояля и женское хоровое пение — то прощались друг с другом обитательницы общежития для «девочек» — одни уезжали на каникулы, другие расставались с институтом навсегда... Я вошла, устроилась в уголке и слушала песни («мы кончаем нашу пятилетку на Тверском бульваре, двадцать пять!», и о бригантине, которая в далеком море поднимает паруса), сладостно мечтая о том, как я вольюсь в институтскую семью и стану в этом доме совсем своей...
Среди же моих сокурсников-заочников, приехавших из разных городов страны, я стала ощущать себя «своей» с первых минут знакомства. Нам предстояли одни и те же испытания, нас волновали одни и те же страхи, необычность моей биографии и тут никого особенно не занимала, до того ли, ведь решалась наша судьба (не сдадим экзамены — отчислят!), общий язык был найден мгновенно, ко мне сразу же стали обращаться на «ты»... Вместе сидели на консультациях, впервые знакомясь с профессорами, как школьники дрожали на экзаменах (как школьники, хотя за двадцать было всем, некоторые и на войне побывали, а у одного сияла на груди Звезда Героя), вместе ходили обедать в столовую театра, тогда еще называвшегося «Камерный», — дешево и от института два шага — и, когда мы веселой гурьбой дружно шагали по Тверскому бульвару, годы скатывались с моих плеч, я забывала, что почти полжизни прожито, казалось — все только начинается, все еще впереди.
Соседки по общежитию, смотревшие на меня несколько сверху вниз, как всегда старший по курсу, по классу смотрит на младшего, были доброжелательны, делились со мной опытом, давая краткие характеристики педагогам, с которыми мне предстояло иметь дело... Такой-то, например, требует понимания предмета и своих мыслей, а такому-то нужно, чтобы студент знал наизусть все даты, на датах и заваливает... А вот есть один... Лекции читает поразительно — художественный театр! — а пятерки на экзаменах ставит с необыкновенной легкостью, ставит едва дослушав! То ли у него свои понятия об экзаменах, то ли от студентов ничего путного не ждет. Впрочем, был случай, когда кто-то получил у этого профессора четверку!
(Речь шла о С. М. Бонди. Легенду о чрезвычайном происшествии, о полученной у Бонди четверке, я и позже слышала, но никто не знал, в каком из вузов, где преподавал Сергей Михайлович, это случилось, с кем случилось и — почему. Все соглашались: чтоб довести Бонди до такой крайности, надо было совершить нечто чудовищное: либо не знать ни единой пушкинской строки, либо приписать Пушкину чьи-нибудь слабые стихи.)
Николай Иванович Радциг — история древнего мира. Не придирается, лишних вопросов не задает, но билет свой знать следует... А вот с братом его, Сергеем Ивановичем (античная литература), — не просто! Этот чудак настолько влюблен в свой предмет, что слабое с ним знакомство воспринимает как личное оскорбление, даже заплакать может, да, да, были такие случаи! Вопросы помимо билета задает исключительно из любви к своим Софоклам и Еврипидам, чтобы подольше о них побеседовать! Он, видимо, думает, что студент, бросив другие дела, должен посвятить все свое время изучению греческой и римской литератур, а в часы отдыха, прикрыв от наслаждения глаза, декламировать произведения Горация и Цицерона...
Со Славой Владимировной Щириной (основы марксизма) дело иметь можно. Если видит, что человек поработал, знает пусть не все, но хоть что-то, пойдет навстречу, поможет, задаст наводящие вопросы. Но — строга. В надежде на чудо к ней лучше не соваться.
Александр Александрович Реформатский. Введение в языковедение.
Это имя оживило моих соседок по комнате, а также гостью из комнаты напротив... Они весело переглянулись, и тут же — одна запела, а другие подхватили:
Нам зачет не страшен, братцы,
Мы сдадим его, ей-ей!
А вот Радциг, Реформатский —
Эти будут пострашней!
Затем — посыпались рассказы. Реформатский — человек веселый. Шутник. Предмет его прескучный, а на лекциях — не соскучишься! Только у Бонди бывает так же интересно... Со студентами обращается дружелюбно, чуть не на равных, многие хвастались, что выпивали с ним в шашлычной на Тверском бульваре... И думали, наивные люди, что дружеские беседы с профессором за рюмкой водки или за стаканом пива — помогут, на экзамен шли, особо не волнуясь, надеясь на то, что им окажут снисхождение... И что же? Помните, как один провалившийся все пел: «Как я ошибся, как наказан!» Потому что, сколько с Реформатским ни пей, сколько с ним ни шути, как ни воображай, что ты лично ему очень симпатичен, — на экзамене этот непредсказуемый человек смотрит на тебя так, будто видит впервые... А ведь еще что делает Реформатский? Раздаст билеты и уйдет. Ну, естественно, все извлекают учебники и быстренько — кто повторяет ответы на свои вопросы, а кто и конспектирует... Реформатскому это неважно, ему важно выяснить — понимает студент то, о чем так бойко рассказывает, или не понимает. Гостья из комнаты напротив, вспомнила, как весной 1944 года она решила сдать «Введение...» досрочно, явилась к Реформатскому домой, взяла билет и вроде бы билет этот знала, но вдруг растерялась, испугалась, онемела... Молчание длилось. Вопрос профессора: «Скажите, сколько сахару вы едите в месяц?» — «Я и тут молчу, на этот раз от изумления, затем соображаю, о чем речь, отвечаю: «Совсем не ем. У меня сын маленький, все — ему». — «Так вот. Будем считать, что вы у меня не были, я вас не видел. Идите, постарайтесь хоть немного есть сахару, ну а в сессию снова придете».
Все эти рассказы рисовали Реформатского в чрезвычайно симпатичном свете, однако утешали меня мало. Ибо, по общим отзывам, провалиться у него было проще простого, а заработать пятерку можно лишь тяжким трудом. Я-то трудилась, и все же...
«Введение в языковедение» начиналось со второго семестра, и в январе 1949 года секретарь заочного отделения З. Н. Болотова среди других программ выслала и программу этого предмета. Проглядев ее, я обомлела. Аккомодации. Ассимиляции. Эвфемизмы. Супплетивизм. Да еще какая-то фузия! В жизни своей я не сталкивалась с этими словами, что они, господи, означают? И были еще в программе какие-то чертежи, упоминания каких-то губных «м» и зубных «н» и какие-то загадочные рисунки... Ничего себе! Лишь память и прилежание требовались для одоления таких дисциплин, как история, литература, основы марксизма, даже — теория литературы. Там все было понятно. А тут! Одолею ли я? Одолею. Раз надо — одолею. В читальне казанской библиотеки я достала указанный в программе учебник А. А. Реформатского и стала одолевать. А вскоре послала отчаянно-умоляющее письмо в институт с вложением шести рублей (стоимость учебника), и Зоя Николаевна Болотова, добрейший человек, учебник мне купила и выслала...
Как жаль, что у меня не сохранилось испещренного пометками и подчеркиваниями, моими слезами и пóтом облитого, потрепанного, именно того экземпляра светло-коричневой, в 1947 году Учпедгизом изданной, тоненькой книжки! Тоненькой. Но — томов премногих тяжелей! Я очень страдала над ней, доходя до всего своим умом, но кое-что мне так и не далось, я не могла понять «варианты и вариации фонем», не могла, как ни билась, и не было среди моих казанских знакомых никого, кто мог помочь мне... Отмерзли два маленьких окошка в моей комнате, за ними замелькали прохожие с усеченными головами, стали светлеть, светлеть вечера, близился май, за ним июнь, а я все еще мучилась с этими вариациями...
Мои соседки по общежитию утешали: «Ничего. Ведь у вас будут консультации. Он сам все объяснит!» Утешали. Но и пугали. Одна из них, как-то встреченная внизу в коридоре, сказала: «А хотите взглянуть, как Реформатский принимает экзамен?» Она осторожно приоткрыла дверь, ведущую в одну из аудиторий, и жестом пригласила меня заглянуть в щель. Я заглянула. В аудитории находились двое друг против друга сидевших, друг на друга молча глядевших... Один — плечистый, с высоким, увеличенным лысиной лбом, поставив локоть на стол и зажав в кулаке рыжевато-русую бороду, глядел выжидательно и загадочно. На лице другого (молод, бледен, вихраст) выражение мольбы и муки, и при ярком из окна свете были видны капли пота, блестевшие на этом страдальчески наморщенном челе... Было впечатление, что я увидела один из кругов меня ожидавшего ада... «Второй раз сдает, — деловито сообщил мой Виргилий, когда мы отошли. — И, по-моему, снова заваливается!» «По-моему,тоже!» — ответила я не своим голосом.
Меня поражало легкомыслие некоторых новых друзей моих, заочников-первокурсников. Особенно поразил меня один из них, весельчак не первой молодости, житель Калуги, приехавший оттуда на собственном мотоциклете. «А эту книжку, — сказал он, кивнув на учебник Реформатского, — я не открывал еще!» «Ты сошел с ума!» — вскричала я. «А что? — не сдавался весельчак. — Три дня дают на подготовку. Успею!» Он не успел, конечно. И легкомыслие его было жестоко наказано...
Я же изумляла новых друзей своим прилежанием. Вечерами меня звали гулять, Москву смотреть — а я сидела за книгами. В те июньские дни отмечалось стопятидесятилетие со дня рождения Пушкина, у памятника — венки, цветы, речи, толпы, весь наш институт туда побежал, а я в опустевшем, вымершем доме в полном одиночестве сидела за книгами. В двух шагах, на Тверском бульваре, выступали известные ученые, писатели, актеры, такого я никогда не видела и, вероятно, никогда не увижу, это беспокоило меня, но я стойко беспокойство преодолевала. Главная цель — хорошо сдать экзамены, этой цели следует все подчинить. И я подчиняла.
Ни в харбинской средней школе, ни в Ориентальном институте особым прилежанием я не отличалась, «первые ученики», «зубрилы», тихони, поедавшие глазами учителей, раздражали меня. А тут я сама превратилась в зубрилу, да еще в моралистку. Читала нотации своим сокурсникам. На нашу долю выпало счастье, нас допустили в Литературный институт, нас учат бесплатно (а «очникам» и стипендии дают!), так чем мы можем ответить государству на эту заботу? Только одним: старанием, прилежанием! Проповедники-моралисты не всегда бывают искренни (говорят одно, делают другое), я же подкрепляла свои слова примером (от книг не оторвешь!), и, видимо, эта убежденность плюс особенности моей биографии позволяли сокурсникам выносить мои проповеди без раздражения. Вполне, однако, возможно, что за глаза меня называли «чудачкой» (хорошо, если не «занудой»!), но относились ко мне добродушно и нередко прибегали к моей помощи. Одному я объясняла разницу между глухими и звонкими согласными, с другим беседовала о ямбах и хореях, третьему излагала содержание романа, в обязательном чтении указанного, но этим студентом не прочитанного... Быть может, я не так бы уж спешила на помощь ближнему, если б эти занятия уводили меня от главной цели, но они не уводили, напротив. Помогая другим, я повторяла пройденное... Казалось бы: после таких трудов можно не бояться экзаменов. Но я боялась. Неизвестно чего ждать от преподавателей. Одну из наших соседок на госэкзамене член комиссии попросил описать платье, в котором была Вера Павловна из романа «Что делать?» во время своего четвертого сна! Спрошенная на вопрос ответить не смогла и получила сниженный балл. Услыхав этот жуткий рассказ, я чуть было не кинулась в институтскую библиотеку, намереваясь вновь перелистать роман (в свое время я одолевала его со скукой, тщетно убеждая себя его любить), но порыв свой сдержала. Не надо суетиться. Видит бог, я сделала все, что было в моих силах, и — будь что будет!
Хорошо ли я сдала экзамены? Я их сдала отлично. Все восемь. Что именно меня спрашивали, как все это происходило — уже не помню. В памяти застряли лишь три — те, которых я опасалась больше всего...
Экзамен по основам марксизма принимали двое: завкафедрой Леонтьев и С. В. Щирина. Отвечая на вопросы билета, я блеснула знанием трудов, указанных в программе как чтение не обязательное, а лишь дополнительное, чем порадовала экзаменаторов (они одобрительно переглядывались), говорила вдохновенно, а когда умолкла, то Слава Владимировна воскликнула, обращаясь к коллеге: «Вы подумайте, ведь она всего полтора года живет в СССР!» Счастливая и гордая, я покинула аудиторию...
Сергей Иванович Радциг: хрупкость и белоснежность. Мал ростом, худощав, белейшая маленькая борода, белейшие волосы, белый костюм, и такой весь чистенький-чистенький. Я села напротив него, отдала свой билет, а Сергей Иванович взглянул на меня влажными глазами: он только что плакал. Студенту, отвечавшему до меня, был задан вопрос: «Какие переводы Пушкина из Анакреонта вам известны?» Студенту эти переводы известны не были. Молчание длилось. И вдруг Сергей Иванович воздел к небу свои маленькие руки и вскричал прерывистым голосом: «Заросла, заросла народная тропа!» Всхлипнул и высморкался... Печально, не ожидая ничего доброго, глядел он сейчас на меня невысохшими глазами. Я хорошо знала свой билет. Этого оказалось мало, чтобы совсем уж утешить Сергея Ивановича. Мне были заданы дополнительные вопросы, из которых последний помню до сегодня: «Что вы можете сказать о Петронии?» Я так много могла сказать о Петронии, что меня пришлось удерживать: «Довольно, довольно!» Счастливая и гордая...
И, наконец, «Введение в языковедение»...
Все преподаватели, которым предстояло принимать у нас экзамены, давали нам консультации. Эти предварительные знакомства с педагогами в памяти не сохранились, хотя все, кто в те годы учил нас, были специалистами своего дела и лекции их были несомненно интересны. Но в их поведении ничего необычного, а значит, запоминающегося не было. Входили, садились за кафедру, вставали, прохаживались, вновь садились, все обычно, академично, между студентами и профессором ощущалось расстояние, эдакая невидимая перегородка...
Реформатский вошел в аудиторию стремительно, под мышкой старый, туго набитый портфель (казалось, вот-вот лопнет!), потертый синий пиджак, рубашка без галстука, швырнул портфель на стол, поздоровался с нами (лицо располагающе добродушное, взгляд проницательный и не без хитрости), тут же обернулся к доске и — грозно: «А где тряпка? Да-с. Все бедность, да бедность, да беспорядки нашей жизни!» Обращаясь к студентам, сидевшим к нему ближе других: «А ну, отцы, кто из вас поживее, бегите за тряпкой!» «Отцы» рванулись бежать оба, одного удержали, другому было крикнуто вслед: «Да чтоб была влажная!» И никакой академичности, никаких перегородок, тем более что к месту, для профессора предназначенному, Реформатский и не подошел, сказал, кивнув в ту сторону: «К кафéдрам почтения нету!» Стал спрашивать, кому что непонятно в его учебнике, и тут же объяснял (на доске писал быстро, четко, сильно нажимая на мел, мел крошился), и уже мне казалось странным, что я так мучилась над «вариациями», все оказалось просто... В ответ на чей-то вопрос Реформатский заговорил об идиомах и нас включил в разговор, восклицая: «Ну кто еще даст пример?» Не лекция — оживленная беседа. Не все, однако, в эту беседу включились, двое или трое студентов сидели тихо, вопросов не задавали, и, покосившись в сторону одного из этих молчальников, Реформатский сказал: «Вам, я вижу, все ясно? Что ж. Очень рад!» Интонация добродушная, а во взгляде ехидство... На следующей консультации нас уже называли кого по имени, кого по имени-отчеству, а к концу занятий довольно точно определили, кто из каких мест родом... Профессор запнулся лишь на мне, сказав: «Что-то, пожалуй, питерское, но не убежден! Надо вас еще послушать!»
(В том июне 1949 года ни ему, ни мне не могло прийти в голову, что скоро я стану его женой и «слушать» меня он будет много, долго, вплоть до последнего часа своей жизни!)
Эта способность узнавать по произношению, кто откуда родом, была нам тогда непонятна, казалась волшебством, фокусом, в аудитории удивление, оживление, предстоящий экзамен пугал уже меньше, непохоже, чтобы этот чудаковатый, добродушный человек кого-то заваливал, нет, поможет, вытянет! Но я хорошо помнила предостережения моих соседок по комнате...
И все было именно так, как они рассказывали... Билеты розданы, Реформатский удаляется, мы вытаскиваем учебники, судорожно перелистываем, шелест, чей-то отчаянный шепот: «Жень! А где искать ассимиляции?» — «Да там же оглавление есть, ищи сам!» Одни повторяют ответы на билетные вопросы, другие — переписывают, ох, успеть бы, за дверью громкие шаги (нарочито громкие!) и голос Реформатского, он кого-то окликает, с кем-то вступает в разговор — сигнал предупреждения, пора прятать учебники. Спрятали. Профессор вошел, уселся и — нам: «Кто готов — пожалуйте!»
Экзамен длился долго. Никто так тщательно не проверял знаний студента, как Реформатский. Для тех, кто не поленился вникнуть в его нелегкую науку, экзамен превращался в приятную дружескую беседу, кончавшуюся не только отличным баллом в зачетке, но и добрым словом, похвалой.
Но так называемая «кривая» на экзаменах Реформатского не вывозила никогда, и для студентов легкомысленных, неподготовленных экзамен превращался в маленькую пытку... сдавшие покидали аудиторию, одни счастливые и веселые, другие... Помню, как один мой однокашник появился в коридоре с таким лицом, будто вышел из бани, сел на первый попавшийся стул или скамью, вцепился руками в голову (казалось, он пытается приподнять себя за волосы) и забормотал: «Дубина. Осел. Остолоп». Не мучителя проклинали, провалившись, проклинали себя. Как же достигал этого Реформатский?
Позже я услыхала от него такие слова: «Мой покойный учитель, Дмитрий Николаевич Ушаков, говаривал: «Студент — он бывает со всячинкой, но его, сукиного сына, любить нужно!»
Учеников в то время у Реформатского было множество — он одновременно преподавал в Горпеде (Педагогический институт имени Потемкина), но аудитория, даже самая многолюдная, безликой массой для него не бывала — студенты быстро ощущали его к ним небезразличие, его к ним живой интерес... Годы и годы спустя, старым человеком, Реформатский помнил не только всех своих учеников, но даже — кто из них как учился! «Такой-то? Как же, помню. Троешник». Или: «Такой-то? На твердую четверку знал, выше не шел». Верный завету своего учителя, Реформатский любил студента. Студент платил ему тем же...
В октябре 1950 года мне представился случай воочию убедиться в том, как популярен Реформатский среди своих учеников... Александр Александрович позвал меня пойти с ним в Горпед на обсужедние повести Юрия Трифонова «Студенты», опубликованной в «Новом мире». Мы явились в институт с опозданием, нас провели через боковую дверь, и, войдя, мы очутились за спинами президиума и того, кто в этот момент выступал... Внезапно зал взорвался аплодисментами. Недоумение президиума, растерянность выступавшего — с чего это они? Но глаза сидящих в зале устремлены поверх голов и членов президиума, и выступавшего, тот оборачивается, улыбается и сам начинает аплодировать... И я была изумлена, пока не догадалась: студенты увидели Реформатского и бурно выражают свою радость... К нему подскакивают, его ведут, усаживают, а зал все рукоплещет, я плетусь следом, ощущая неловкость, — эдакое триумфальное шествие под аплодисменты, не ко мне относящиеся. Усадили в первый ряд. Зал успокоился. Выступавший вспомнил, на чем остановился. Обсуждение продолжается.
Прямо передо мной, на том же уровне (эстрады не было), лица тех, кто сидит за столом президиума, я, недавний житель Москвы, не знаю никого. Лишь одно лицо мне знакомо: очки, курчавящиеся темные волосы, серьезен до мрачности, выпускник нашего института, любимец Федина, талантливый прозаик, Юрий Трифонов... Я читала его роман, роман мне нравится. И всем нравится. Трифонова очень хвалили в тот вечер и как писателя, и как человека.
За моей спиной дышит, волнуется бурно на все реагирующий зал, передо мной серьезное, замкнутое лицо Трифонова... Совсем молодой, куда моложе меня, и вот уже такой роман написал, и вот уже слава, не рад он ей, что ли? Мне казалось, что он похож не на писателя, а на преуспевающего чиновника (боится уронить себя улыбкой!), мне чудилось в нем высокомерие, как же мало тогда я знала его, как плохо видела!
Сблизились мы позже. Гораздо, гораздо позже!
С 1968 года по 1977-й включительно Александр Александрович и я проводили летние месяцы в маленьком доме на дачном участке друзей в том же поселке, что Трифонов. Виделись часто.
...Вечер. Август. За окном тьма, шуршит дождь по листьям берез, обступивших домик, печка топлена, тепло... Юра сидит на кровати, сгорбившись, уперевшись локтями в колени, Александр Александрович — к своему столу боком, к гостю — лицом. Разговор о шахматах, о литературе, об истории России, иногда — воспоминания о Литинституте. Я в соседней комнате накрываю стол (сейчас будем чай пить!) и подаю реплики. Очень уютно.
Но как же мы все трое постарели, как изменились с того вечера в Горпеде! Нелегкие пути привели каждого из нас к этой идиллической сценке на даче, к этой мирной беседе под шуршанье дождя за окном. Много чего происходило с нами и в жизни личной, и в жизни не личной за те двадцать с лишним лет, что прошли с обсуждения повести «Студенты»...
...В один из таких вечеров я — Юре: «Дай мне перечитать «Студенты». Я их совсем забыла!» Юра: «Не дам. Ну зачем тебе? Ведь я теперь пишу совсем иначе!» Я не настаивала. Я понимала его. И я не радуюсь, когда меня просят дать прочитать роман «Возвращение». Я давно догадалась, что не беллетрист я, не романист, выше среднего уровня мне тут не подняться, а поняв это, ушла в тот жанр, к которому ощутила влечение с юности: в сатиру, в фельетон. Юра же долго, мучительно искал себя, искал свою тему, в «Отблеске костра», в некоторых маленьких рассказах («Игры в сумерках», например) к ней приближался, но окончательно нашел в «Обмене».
Своя наконец найденная тема позволила Трифонову подняться на иную ступень. Трифонов семидесятых годов — это сложившийся крупный прозаик, совсем уже иного качества, чем автор «Студентов». Он нашел себя, нашел дело, ему судьбой назначенное, попал в свое русло. У каждого из нас есть такое русло, только не каждому удается его найти, в него попасть...
...Тьма за окошками, дождь шумит, пьем чай. За столом с нами сидит уже не прежний кудрявый, худой, спортивный Юра с его немного напускной молодой мрачностью. Поредели его темные волосы, он полноват, немного вял, немного увалень, бросил курить, перестал играть в теннис. Умно-внимательный взгляд из-под очков, идущее от него ощущение честности, надежности, доброты придают его облику нечто «пьербезуховское». Много знал, много думал, умел рассказать, но и собеседника умел слушать и слышать. Мгновенно на все откликался, понимал с намека, ценил шутку — эта его незабываемая усмешка: дрогнут губы, веселеют глаза, светлеет лицо. А громко смеялся редко. Грустный человек.
Александр Александрович любил его и называл так: «Юра Три».
Их обоих больше нет. Да, даже Юры, который был моложе меня.
Рушатся куски жизни.
А тогда, летом сорок девятого года, мне казалось, что настоящая моя жизнь только началась, все прежнее было лишь к ней подготовкой, лишь черновиком...
Сдав экзамены за первый курс, я отправилась в Ленинград предаваться заслуженному отдыху. Матери оттуда пишу:
«Гощу у тетушек, ничего не делаю, шляюсь по городу, езжу по окрестностям. Дима перешел на четвертый курс, Катя кончает аспирантуру. Как же я опоздала по сравнению с ними! Но ничего. За мною мой жизненный опыт, он поможет мне, когда я начну писать... Все вспоминаются московский июнь, экзамены, страхи, волненья и то, как было прекрасно ощущать себя членом студенческой семьи. Мне очень хорошо в моем отечестве, мама! Я отслужу, я отработаю, я всей остальной жизнью отплачу за то, как меня тут встретили, как отнеслись ко мне, сколько всего мне тут дали!»
Любительская фотография в альбоме матери: сад Литературного института, весна, на фоне стены Дома Герцена группа студентов-второкурсников. Среди них мое счастливое лицо.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





