ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


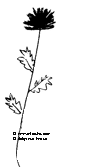
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Графова Лидия 1984

Три беседы о смысле труда с Героями Социалистического Труда: строителем Ф. В. Ходаковским, рабочим Е. Н. Моржовым и солдатом войны В. Т. Христенко.
Сначала расскажу притчу: «Путник встретил человека с тачкой, груженной каменьями, и спросил его: «Что ты делаешь?» Тот ответил: «Не видишь разве? Камни тащу, будь они неладны!» Путник повстречал второго человека с такой же ношей и услышал ответ: «Зарабатываю себе на жизнь». Спросил путник о том же у третьего человека, везущего камни, и услышал гордый ответ: «Строю Шартрский собор!»
Человек, который «строит Шартрский собор», строит одновременно и самого себя... Труд связывает человека с другими людьми. Труд — основа человеческого достоинства.
Живу я в мире только раз... И не для того ли живу, чтобы, как говорил один мудрец, «погрузиться в мир и открыть в нем тайну труда»?
СТРОИТЕЛЬ Ф. В. ХОДАКОВСКИЙ:
«...когда человеку трудно, когда жизнь требует
напряжения сил, тогда и можно сполна проявиться».
Феликс Ходаковский — один из самых популярных людей на БАМе. Один из тех, кого называют первопроходцами, вечными строителями. Ему сорок пять лет, а он уже ветеран. БАМ — третья его стальная магистраль в Сибири. До этого он успел забить серебряный костыль на строительстве дороги Абакан—Тайшет, успел уложить золотые звенья на строительстве Хребтовой—Усть-Илимской. Бригадир, мастер, прораб... В 27 лет стал Героем Социалистического Труда.
Историю БАМа можно изучать, в частности, по биографии Ходаковского. Это он привез в поселок Звездный отряд добровольцев XVII съезда комсомола, делегатом которого сам являлся. Это он высадился с первым десантом в поселок Магистральный, впрочем, названия у поселка тогда еще не было, и это Ходаковский по праву первопроходца дал ему суровое, четкое имя: Магистральный. Дальше был в его биографии центральный участок БАМа — Тында. Здесь создавался новый, важный для всей стройки трест «Бамстроймеханизация», и возглавить его выпало Ходаковскому.
И наконец — самый трудный, называемый то барьерным, то ключевым, Бурятский участок БАМа, где Ходаковский руководит трестом «Нижнеангарсктрансстрой». Уже не первый год его трест по многим показателям держит первенство на БАМе. Работают здесь 16 тысяч человек, но, как говорят о Ходаковском рабочие, «каждого из тысяч он умеет видеть отдельно — в лицо».
* * *
Дорога, которая построена не твоими руками, представляется делом хорошим, но вполне будничным. В наше ли время удивляться поездам и рельсам? Без особого волнения садилась я в ярко разукрашенный всеми средствами наглядной агитации вагон (но это снаружи, а внутри он был обыкновенный, даже не купейный — общий) и думала лишь о том, как мне повезло — за сутки прямым путем доберусь до Ходаковского. В ту пору только что закончили Западный участок БАМа, и поезд должен был пойти по новеньким рельсам от самого Усть-Кута на Даван. Что такое Даван и что такое первый поезд, я, садясь в этот поезд, толком не понимала.
Дорога, которая только что построена, обладает странной способностью быстро вживаться в ландшафт. Вот прилипшие к окнам почетные пассажиры ахают: «Ух ты, какой мост отгрохали!» (и — дальше в том же духе), а тебе, пассажиру обыкновенному, кажется, что дорога была здесь всегда, что она — такая же данность природы, как эти плывущие мимо сопки, березы, реки. Как же без дороги?
Наконец по вагону понеслось: «Даван! Даван!» Упругое слово повторялось, как заклинание, пока поезд не остановился. Дальше рельсов не было. И тут я увидела Ходаковского, мне показали его на трибуне. Сколоченная из досок (как водится — в последнюю ночь) трибуна терпко пахла смолой и весьма эффектно смотрелась на фоне заснеженных сопок. Ходаковский стоял с непокрытой головой, торжественно и сдержанно пожимал руки (к нему без конца подходили люди), давал короткие и четкие распоряжения. Он был одним из главных действующих лиц праздника — от имени своего Бурятского участка принимал эстафету у участка Западного. После митинга мы познакомились и договорились встретиться завтра вечером.
Поздно вечером, как и обещал, Ходаковский вернулся в трест. Все кабинеты были пустыми. Он быстро вошел, резким движением пригладил (попытался пригладить) свои упрямые русые волосы, деловито подсел к столу и вдруг смущенно улыбнулся. Обычно невозмутимый, выглядел сейчас почти растерянно. Эх, не его это стихия — вести разговоры. «Значит...» — начал он, будто спасения искал в своем любимом, ничего толком не значащем словечке.
— Значит... Такая деталь: я, как понимаете, строитель, от кочевой жизни, наверно, огрубел, к философии никогда склонности не имел. И не знаю, смогу ли вам чем помочь. Вот вчера вы говорили, что заинтересовал вас плакат на Даване...
(Кажется, этот плакат висел на палатке, где продавали горячие сибирские пельмени: «Мы строим БАМ, БАМ строит нас». Наверно, кому-то издали эти слова покажутся банальными, но я их прочла на Даване в ту минуту, когда туда пришел первый поезд. И обрадовалась: вот ключ к разговору с Ходаковским.)
— Так как же, спрашиваете, это выглядит в жизни: «БАМ строит нас»? Я вам что могу ответить? То, что давно известно: когда человеку трудно, когда жизнь требует напряжения сил, тогда и можно сполна проявиться. А в тепличных условиях человек живет и сам себя не знает.
...О том, что напряжение, нагрузки необходимы человеку, мне уже говорил доктор Илизаров. Он доказывал это с точки зрения физиологии. И вдруг Ходаковский почти в точности повторяет его слова. Но он-то совсем другое имеет в виду. Спрашиваю:
— Разве обязательно испытывать трудности, чтобы узнать себя?
— Трудности, знаете, бывают разные. Одни требуют напряжения сил, другие — нервов. Если говорить сейчас о бамовских трудностях, ну о тех хотя бы, про которые каждый день идет речь в этом кабинете, то, знаете, мы с вами в густой тайге заблудимся. Эта романтика трудностей у меня — вот, поперек горла стоит. Но вы, кажется, о другом спрашиваете? Да, труд и трудности — совсем разные вещи. Я — за труд! Каким бы он ни был тяжелым, но если видеть смысл и нужность своих усилий, всегда получаешь удовольствие. По-моему, человек затем и живет, чтобы трудиться.
Опять знакомая интонация. Илизаров тоже говорил: «А что ж человеку делать, если не работать?» Я спорила с Илизаровым, а теперь возражаю и Ходаковскому:
— Но можно ли так сужать жизнь! Сводить ее смысл к работе...
— Я не сужаю, а просто говорю о главном. Вот вы сами убедились, что на БАМе какой-то особый, бодрый, что ли, жизненный тонус. Это не только потому, что у нас много молодежи. Нет, дело в том, что у нас тут у всех работа — на переднем плане. Как ни крути, но работа даже заботы семейные перекрывает.
— А хорошо ли это? В комсомольском штабе я видела телеграмму: «Последний раз жду ответа я или БАМ согласие развод можешь выслать письменно». Говорят, такие телеграммы не редкость?
— Подождите. Как раз разводов, по статистике, на БАМе гораздо меньше, чем в среднем по стране. Зато свадеб... Я уж и счет потерял, сколько раз получал приглашение на свадьбы. Оно и понятно: средний возраст бамовца был 22 года, сейчас, кажется, стал — 25 лет. Знаете, говорят: «Ну, он уже старый, ему аж 30».
А телеграмма... Что ж, всякое бывает. Жены бывают всякие. Вот вам противоположный пример. Приехал к нам на Кичеру отряд XVIII съезда ВЛКСМ, все вроде бы холостые. Мы им четыре общежития построили, расселили. Вдруг через месяц к этим «холостым» понаехали с запада жены, да еще с детьми. Начальник поезда за голову схватился: куда размещать? Чем кормить? Тайга кругом, на каждого человека все рассчитано. Хотели жен назад отправлять, а они ни в какую: все терпеть готовы, лишь бы с мужьями рядом быть. Тогда я начальнику поезда говорю: «Расселяй как угодно, раз люди добровольно идут на такую жизнь. Семейные крепче осядут, а тебе тоже полезно: будет на шее такой груз висеть — скорей жилье построишь».
— И все-таки, Феликс Викентьевич, если смысл жизни сводить только к труду, как же быть с гармоническим развитием личности?
— Значит... Гармония, как я понимаю, это прежде всего согласие человека со своею жизнью, чтобы на душе не скребло. Но в каждом человеке — посмотрим дальше — есть желание испытать яростность жизни, ее горький пот и горячую радость. И вот на БАМе для всего этого — идеальные условия. Сама поездка на БАМ — уже поступок. Человек сознательно идет на трудности и живет, значит, так, как сам захотел. В согласии с собою. Я вам о себе скажу: когда у меня по работе что-то не ладится, мне и жизнь не мила, самого Байкала не замечаю. И еще посмотрим: приезжает человек на БАМ, он же получает здесь пять, а то и больше разных профессий. Разве это не рост? И если он знает, что и лес умеет валить, и рельсы укладывать, и дом может своими руками срубить — представляете, как много он жизни захватил! Соответственно и чувство достоинства растет — человек узнает себе цену. Для развития личности труд полезнее, чем отдых.
— Наверное, все же не любой труд, а только осмысленный. Человеку всегда важно видеть результаты своего труда. В этом отношении бамовцам можно позавидовать.
— Оно так. Возьмите хотя бы Даван. Вы приехали к нам первым поездом? Ну и как дорога? Даже не заметили крутых подъемов и спусков? Вот! А ведь до последнего дня многие не верили, что поезд сможет прийти на Даван. Зато сегодня загляните в общежитие, в любую семью — о чем разговоры? Всюду говорят про Даван. Даже в магазине, даже дети по пути в школу.
...Тут мне вспомнился семилетний Женька, которого я встретила в поезде, идущем на Даван. Он стоял в проходе, приклеившись носом к оконному стеклу. За окном плыла и плыла тайга, не дремучая, а, скорей, светлая — от берез, от первого неуверенного снега. Женька смотрел за окно и тоже весь светился. Он для того и отправился в это первое в своей жизни самостоятельное путешествие, чтобы каждый метр дороги своими глазами увидеть. Каждый метр! Для того из дома сбежал, уроки пропустил, зайцем, конечно, едет.
— А все-таки скажи, Женька, для чего тебе это нужно — ехать?
— БАМ нужен всем! — отчеканил Женька и еще внимательней уставился в окно.
Поезд изогнулся, огибая очередную сопку, и Кунерминский мост оказался чуть сбоку, и стало отчетливо видно, как высоко висит мост над узким ущельем и какая ажурная у него конструкция. «Красавец! Сто метров!» — подскочил Женька, потеряв на минуту свою сосредоточенную важность.
— А знаешь, Женька, в Москве есть один мост, Крымский, он построен без опор, как бы сам себя в воздухе держит.
— Ну и что? — не удивился Женька.
— В Москве театров много...
— Ну... В театр пойди попади, а к нам артисты сами едут.
— В Москве, знаешь, какой зоопарк?
— У нас вся тайга — зоопарк!
— В Москве планетарий...
— А у нас планетарий — во! — Женька широко размахнулся, как бы вычерчивая круг неба над головой. При этом не забыл придержать щепотью рукав телогрейки, большой, наверно, отцовской, одетой ради солидности.
Тут проходивший мимо русобородый строитель вдруг узнал Женьку: «Ха! Младший Зимиров! Ты как здесь возник?» И увел Женьку в свой вагон.
Скоро поезд вскарабкался на Байкальский хребет. На Даване я искала, но так и не нашла Женьку.
Соглашаюсь с Ходаковским:
— Да, Феликс Викентьевич, меня поразило, насколько все люди, от мала до велика, загипнотизированы этой дорогой на Даван.
— Ну, еще бы! Ведь эта дорога для нас — связь с Большой землей, со всем миром. Хочешь — прямые рельсы прямо до Москвы доведут. Ну, это я, конечно, шучу. Нам дорога не для путешествий нужна — для перевозки грузов. Выручал отчасти Байкал, но навигация короткая, штормит часто. Так что объезд через Даван (с его помощью мы как бы перепрыгнули Байкальский хребет) был для стройки вопросом жизни. Ну, и достался ж нам этот Даван!
Значит, так... Оставался месяц до пуска и вдруг выяснилась деталь: механический путеукладчик работать на даванской высоте не сможет — слишком большой уклон. И вот приняли единственно возможное в наших условиях решение — укладывать путь вручную.
Рельсы на перевал завозили КРАЗами, растаскивали их вдоль насыпи тракторами, ну а остальная работа — просто руками. Представляете, что это такое? Ведь нужно, чтобы звенья легли точно впритык, ровно, красиво, а каждое звено 25 метров длиной, высчитайте, сколько оно весит, если даже шпала, короткая, из лиственницы — около 100 килограммов (шпалы нужно было укладывать под рельсы через каждые полметра). Вручную были построены шесть из семнадцати километров объездного пути через Даван. Нерекламный, конечно, факт. Труд, конечно, адский. Но, знаете, встряска Давана оказалась для стройки очень нужной.
...Эффект этой встряски я видела своими глазами. Когда тот первый поезд остановился на Даване, взрослые, совсем как дети, карабкались на всевозможные выступы локомотива, что-то кричали, а некоторые, улыбаясь, плакали. Даже из Северо-Муйска (это много часов по ужасной дороге) приехали тоннельщики «потрогать рельсы». Говорили: «А как же, это — наша дорога!» Я видела, как один пассажир — пожилой мужчина в черной бамовской дубленке — соскочил с поезда и низко наклонился к земле: гладил рельсы, будто холодный металл стал живым и теплым. Видела, как девушка размахивает над головой тонкой веточкой рододендрона. Цветов на ветке не было, одни бурые листья, но все равно — букет празднику. Было все как на самом большом торжестве. Редко когда увидишь, чтобы столько людей с такой одинаковой искренностью переживали общую радость.
— Мне показалось, Феликс Викентьевич, что на Даване я почувствовала главное — люди здесь становятся ближе друг другу, откровенней, отзывчивее. Здесь нельзя жить особняком, спрятавшись за стены своей квартиры.
— Со стороны виднее. А мы уж привыкли, каждый день живем. Но думаю, если так вот и напишете, многие не поверят. О БАМе уже столько написано. Который уже год идет стройка, и все прекрасные слова, какие есть, истрачены... Сначала все казалось праздником, теперь наступили будни. Вот я и говорю, что нужна стройке такая встряска, как Даван. Имею в виду не только тех, кто укладывал рельсы, а всех абсолютно. Лесорубы, механики, водители, маляры, даже продавцы из нашего универмага, кто был и кто ни разу на Даване не был — все жили в те дни по-особому. На стройке, действительно, все переплетено, друг с другом увязано. Не думаю, что это случайность: три человека, собравшиеся было со стройки уезжать, именно в даванские дни забрали свои заявления обратно. Горячо стало на стройке. Все почувствовали: БАМ есть БАМ.
Интересно: когда мы повесили объявление, что требуются монтеры путей на Даван, знаете, как много нашлось добровольцев! Вы, кстати, были в бригаде, которая укладывала вручную эти рельсы?
— Да, была, Феликс Викентьевич, была в бригаде Розумяка. Но не могу сказать, что от этого мне стало что-то понятнее. Какая-то сверхвыносливость. Или они что-то скрывают?
— Вас смутило, что ребята ни на что не жалуются? Ручаюсь, не только корреспонденту, но и близкому родственнику не станут они расписывать, как им было трудно. Да у них по-другому, что ли, мозги работали — только об одном думали, о своем деле. Иногда я на них даже злился. Приедешь, спрашиваешь: «Ну, что? Ну, как?» Налетят, ругаются: самосвал с рельсами на час опоздал. А про то, что к ним сегодня обед не привозили (такое безобразие!), забывают сказать, только потом случайно узнаешь. Бывают, значит, такие моменты, когда человек напрочь забывает о себе!
В те дни на Даване кто-то написал на скале: «Сильный останется, слабый уйдет». Но я не думаю, чтобы кто-то из них обратил на этот лозунг особое внимание. Сила приходила от общего настроя. Врачи, знаете, удивляются: какой низкий у нас процент простудных заболеваний, хотя вроде бы все условия заболеть! Вот, а вы спрашиваете, как это строит человека БАМ... Человеку необходимо себя испытывать! Да они, молодые, к этому и без наших советов стремятся. Отчего, думаете, до сих пор так упрямо едут на БАМ?
— Этот вопрос меня больше всего интересует. Я его задавала здесь десятки раз и, действительно, часто слышала: «Хочется испытать себя». Звучит, конечно, красиво, но неубедительно. Ведь сколько людей, клявшихся преодолевать трудности, убегают со стройки после первой же получки, не оправдавшей ожиданий.
— В разговоры можно и не верить, но в жизни, слава богу, все это существует — и энтузиазм, и молодой задор. Кстати, не только у молодых людей. Но не нужно, конечно, думать: раз приехал на стройку века — значит, уже и герой.
— Те, кто никогда не бывал на БАМе, любят скептически порассуждать: а, знаем мы этих энтузиастов, за деньгами едут — все просто.
Что ж, и за деньгами. А разве это стыдно? Заработок, понимаете ли, от слова «работа». И если мы уважаем работу, то и к трудовому заработку должны относиться с уважением. Зачем лицемерить? Зачем думать, что тут, на БАМе, должны жить какие-то идеальные герои с крылышками, которым кроме песен и запаха тайги ничего не надо?
И, между прочим, такой взгляд просто несовременный. Во всех партийных документах последних лет прямо подчеркивается, что качество труда должно неотвратимым образом сказываться и на материальном вознаграждении.
Значит... У нас и северный коэффициент, и колесные. Зарплата за счет этого почти удваивается. Есть у строителя возможность сразу, как приехал, подать заявление на автомашину, у него будут высчитывать процент из зарплаты, и через три года он имеет на руках талон, дающий право получить машину, без очереди в любой точке страны. Как у нас шутят — хоть в табачном киоске.
Но все это сопутствующий, так сказать, фактор. Не он, конечно, главное. Как вы, собственно, себе представляете: приехал человек на БАМ, чтобы сколотить деньгу, значит, он не живет, а только собирается жить? Откладывает все на будущее? Но это же несвойственно молодежи. Не могут они отложить на потом любовь, свадьбы, рождение детей...
— Знаете, я заметила, что сами строители неохотно идут на разговор о деньгах, даже обижаются...
— А тут вот какое дело: люди тяжело трудятся, и это вполне естественно, что хорошо зарабатывают. Привыкают, перестают заострять внимание на деньгах. Если хотите, деньги дают свободу... от денег. Есть они, и хорошо. Так и должно быть. Чего, мол, по этому поводу особо разговаривать?
Ученые из Улан-Удэ проводили социологическое обследование: по каким мотивам едут люди на БАМ? Я и сам удивился: интерес к деньгам оказался аж на четвертом месте, а на первое место, как и следовало ожидать, отвечавшие поставили интерес к работе.
Это просто беда, если кто приезжает на стройку и думает, что деньги здесь, как дождь, с неба льются. Сам же потом и страдает. Все наше трудное ему в три раза труднее. У него нет радости от работы, а значит, не живет он эти годы, а мается. Уедет, деньги растратит, знаете ж, как разлетаются деньги, и что ж у него останется?
— А у вас что останется?
— Как что? Дорога.
...Простите, Феликс Викентъевич, что задавала вопрос, ответ на который был заранее известен. Ведь его дал мне еще тот, случайно встретившийся шофер. Я не голосовала, он сам остановил свой огромный оранжевый «Магирус», а потом, пока ехали, будто сам с собой вслух разговаривал: «Зачем, думаете, его сюда из Сочи черт занес? За длинным рублем, думаете? Ошиблись. У меня этих денег и у Черного моря хватало — поваром в ресторане работал. А сюда... Можете смеяться, можете нет, но я здесь вот зачем. Как закончим эту великую магистраль, все ее 3145 километров, я одной сочинской девчонке билет в мягкий вагон куплю, и поедем мы с ней через всю страну вплоть до Тихого океана. И скажу я ей: «Ты думаешь, где я столько лет пропадал? Я сам эту дорогу строил».
Это еще одна из прекрасных «банальностей» БАМа: все мечтают по этой дороге с комфортом проехать. Проедут ли? Соберутся? Но во всяком случае, где б кто ни был, будут знать, что она где-то есть, его дорога. Вот уж нетленная собственность. Дубленки износятся, машины изобьются, а уж дороги точно на всю жизнь хватит.
— Пришла пора, Феликс Викентьевич, спросить вас о личном. Вы никогда не жалели, что стали строителем и всю жизнь, можно сказать, скитаетесь?
— Я не скитаюсь. Я работаю.
— Работаете. Но сколько раз вы перевозили семью с места на место?
— Сколько? Не считал. Правда, Виталька, мой старший, за десять лет учебы шесть школ сменил. Ничего. Нормально. Как это — жалеть? Я бы в городе от скуки задохнулся.
— Что вы, Феликс Викентьевич, город открывает человеку столько возможностей, радостей...
— Кому как. А я вот больше года в этом поселке, а в кино ни разу не ходил. Как-то привезли хороший фильм, дочке билета не досталось, она — к кассирше. Дайте, говорит, два билета для Ходаковского. А кассирша ее — стыдить: «Нехорошо, девочка, врать! Ходаковский в кино никогда не ходит».
— Но это же плохо! — возмущенно говорю я, но тут же вспоминаю, что рабочий день Ходаковского кончается не раньше десяти вечера, что выходных у него фактически не бывает, и понимаю, что «перевоспитывать» его бесполезно. — Посмотришь, как вы тут трудно живете, и чувствуешь себя перед вами будто виноватой...
— А мне, извините, жалко вас. Вы уедете, а Байкал-то с нами останется, и тайга, и дорога. Нет, в городе я бы просто пропал. Был у меня один эпизод. Как раз закончили тогда Абакан — Тайшет. Шесть лет жили в палатках, вагончиках: я же на Абакан сразу после техникума попал, успел за время строительства вечерний институт закончить, устал, конечно. И вот предлагают мне работу инженера в управлении, дают квартиру в Братске. Жена как раз второго ребенка родила, мать с отцом старенькие, болеют. В общем, решился я, так сказать, переменить стиль жизни. Надел чистые ботинки, галстук, пришел к девяти утра в управление, сел за стол и не знаю, что же мне делать. Про какие-то бумажки мне что-то объясняют, я их с места на место перекладываю, а сам на часы смотрю. Здесь вот дня не замечаешь, а тогда каждый час днем казался. Ужас это был. Три месяца будто не жил. Потом — так получилось — Звезда Героя спасла. Пришел приказ о награждении за Абакан — Тайшет, и я уже имел право на попятную: стыдно, говорю, называться героем и перебирать в конторе бумажки. Отпустили меня на Игирму, мы тогда начинали строить Хребтовую — Усть-Илимск.
В этом месте разговора вдруг погас свет. Ходаковский извинился: подстанция не выдерживает перегрузок, ну, ничего — ЛЭП-220 уже на Даване. Рассказывая про новую жизнь, которая начнется с приходом ЛЭП, он искал и никак не мог найти свечку. Что за интервью в темноте? Я уже собиралась уходить, но, к счастью, на выручку подоспел Петр Лосев, мой гид и старый знакомый. Однажды, лет пятнадцать назад, мы встречались с Петром в Железногорске под Братском, он был тогда простой плотник. А сейчас он — автор книжки «Утро БАМа», несколько лет, оказывается, проработал в областной газете, имел, что называется, все и теперь все бросил, чтобы жить в общежитии этого поселка, где чуть что — гаснет свет. У него здесь какая-то интересная должность летописца, но в душе он остался строитель, причем строитель с той неукротимой жаждой первопроходства, которая, очевидно, и сблизила его с Ходаковским. Еще с Хребтовой — Устъ-Илимской. Так случалось, что стоило Лосеву вырваться в какую-то трудную командировку, где нужно и лететь вертолетом, и плыть на лодке, и идти пешком (такие командировки Петр любит), в конце пути среди тех, к кому он добирался, каждый раз оказывался Ходаковский.
Благодаря Лосеву разговор мог продолжаться и в темноте. Собственно, говорили они двое, на каком-то особом, не всегда доступном мне языке. Квартирьеры... Десант на Тушаму... Блокада на Игирме была долгой... Передислокация... Все какие-то военные термины, но они почему-то звучали уместно. Лосев, желая мне помочь, не раз пытался вывести разговор на героические подробности: «Помните, как мы пробивались от Рудногорска, по пояс в снегу, и вы, Феликс Викентъевич, шли впереди всех людей и машин, отыскивая визирки... Помните, когда высадились в Магистральном и чуть не увязли в болоте...» Ходаковский отрывисто похохатывал в темноте и отвечал однозначно: «Ну, было, было...»
Я слушала их и думала о дороге. Это для нас, пассажиров, дорога — средство передвижения, не более. И только тот, кто начинал эту дорогу с нуля, спускаясь десантом (буквально — с неба) в не хоженный раньше квадрат тайги, кто расчищал здесь плацдарм для поселка, кто прорубал первую просеку, тот знает, что дорога — это не просто рельсы, а сама жизнь. И получается, что строить дорогу — значит, начинать жизнь там, где ее раньше не было.
Впоследствии, вернувшись с БАМа, я отчетливо поняла, что человечество делится не только на мужчин и женщин, не только на взрослых и детей, но для меня оно теперь делится еще на тех, кто на «стройке века» был, и на тех, кто там никогда не был. Первые, как правило, ревностно защищают БАМ: да, есть недостатки, конечно, зато люди, какие люди! Вторые спокойно интересуются, но и сомневаются — спокойно.
Я тоже не люблю громких слов, и если мне кто-то долго о чем-то твердит, у меня тоже возникает закономерное чувство протеста. Когда ехала на БАМ, само это слово, признаться, звучало каким-то набатным звоном. Теперь слышу отдельные, знакомые голоса, вижу лица... И снова думаю: как же объяснить то загадочное свойство души человеческой, которое не дает успокаиваться, заставляет идти туда, где трудно, туда, где опасно, снова и снова начинать с нуля? Испытания, трудности... Да разве они встречаются только на БАМе? И разве только в тайге можно преодолевать трудности — строить себя? Начинать жизнь, спешить начинать! Дорога — это движение... Ходаковский, конечно, прав: если хочешь найти себя — ищи труд, пот и дорогу. Человеку нужна дорога. Каждому — своя.
Но что такое дорога? Это — как утверждает следующий мой собеседник — связь с людьми, которых встречаешь на жизненном пути.
РАБОЧИЙ Е. Н. МОРЯКОВ:
«...самое дорогое, что есть у человека —
это его единение, его дружба с другими людьми».
О Морякове, токаре ленинградского завода «Строймаш», Герое Социалистического Труда, я немало читала и слышала. Читала и его собственные книжки. Особое впечатление произвел показанный по телевидению фильм «Токарь». Авторы получили за него «Золотого голубя» в Лейпциге, но успех фильма определился, пожалуй, не тем, как он был сделан, а просто человеческим обаянием самого Морякова, который совершенно непринужденно держался перед камерой, искренне огорчался, естественно радовался, всерьез размышлял о жизни. Таким он и запомнился.
Давно хотелось встретиться с Моряковым. И вот случай: мне в руки попало письмо, в котором профессия токаря («наряду с другими, требующими от человека только автоматизма и слепого исполнения») была названа «несовместимой с творчеством».
* * *
— Вот, Евгений Николаевич, вы так гордитесь своей профессией токаря, а многим молодым кажется, что удовлетворения в жизни эта профессия принести не может. И любые, мол, восхваления рабочих профессий — всего лишь агитация, разговор для бедных.
Я опасалась, что Моряков обидится. Но он, наоборот, улыбнулся и спокойно начал:
— Говорите, есть мнение, что профессия токаря — никудышняя? Что ж, я не раз такое слышал: если остался на всю жизнь токарем — значит, неудачник. Однажды мне довелось наблюдать, как мать «воспитывала» сына. Она кричала ему, убегавшему к ребятам: «Не хочешь учиться, бездельник?! Ну вот вырастешь — токарем будешь, как твой отец». Смешно, честное слово. Ну, как здесь спорить? Если сказать, что неудачником себя не чувствую и если б родился заново, попросил бы судьбу: сделай меня токарем, — многие могут не поверить. И пусть не верят. А факт остается фактом: токарь — нужная, хорошая профессия, она не только для рук, но и для ума, и для сердца. Ну, может быть, не престижная она сейчас, но это — временно.
Мой дед был сапожником, но какой уважаемый это был человек! Невероятно трудолюбивый, отзывчивый, бескорыстный и, знаете, талантливый человек. Всю жизнь он проработал в артели и скольким людям радость принес! К нему приходила вся округа: «Федорыч, не обессудь. Посмотри обувку!» И дед брал эту изношенную вдребезги обувку так бережно, перекладывал на своем фартуке так тщательно, будто решалась судьба какого-то живого существа. Ответ у него был всегда один: «Попробую! Но это в последний раз». А ему потом еще и еще раз ту же обувку тащили, и он умудрялся ее оживлять. Разве это не творчество?
Вечерами дед читал нам книги (существовала тогда традиция семейных чтений). Особой образованностью дед похвалиться не мог: читать умел, а вот писать — нет, вместо росписи кресты ставил. Но именно он сумел привить нам любовь и к Пушкину, и к Толстому. Помню, оторвется от книжки, поднимет очки на лоб и скажет вдруг: «Люди всегда должны оставаться людьми. Можно жить с заплатами на обуви, а с заплатами на совести жить нельзя». Да, если нет совести, никакой талант не поможет.
— Вы говорите: совесть... Но разговоры о совести кажутся порой пустым словоговорением. Вы не замечали, например, что упрек: «Как вам не стыдно!» — слышится сегодня все реже? Беспомощно как-то звучит... Не очень сегодня таким упреком кого-то проймешь.
— Кажется, Короленко говорил: нравственность — это когда наедине с собой ты не сделаешь того, за что перед другими совестно. И стыд, и совесть — это то, что внутри, а не на выставке. Часто приходится ломать голову: почему мы работаем плохо? Свойственно ли это человеку по самой его природе? Послушайте, как выступают люди на собраниях. Только и говорят, что работать надо лучше. И вполне в этом искренни. Но почему же тогда мы порой работаем так плохо?
— Наверное, Евгений Николаевич, в этом и есть расхождение между коллективной и индивидуальной совестью.
— Но что такое коллективная совесть? Не понимаю. Способен ли кто-то отвечать за всех, за общее дело, если не научился отвечать за себя лично? Есть сейчас такая модная тенденция: ни на что особо не тратиться, беречь силы от труда... для отдыха. В финской бане посидеть, на природу выехать. Интересно? Может быть. Но мне жалко таких людей. Живут они как бы урывками, а вот на работе не живут, а просто существуют.
Не понимаю, почему авторитет человека должен зависеть от того, какая у него профессия. По-моему, главное твое достоинство в том, насколько ты хорош сам по себе и честно ли относишься к своей работе. Творчество всюду возможно. Вот та же профессия токаря. Есть в ней и автоматизм, и четкие инструкции. Но ведь техническая инструкция — не правила орфографии, где слово «огород» пишется только через «о». Ты стоишь за станком, ты — человек, должен же ты думать!
Каждый день находить в своей работе что-то новое — это, наверное, и есть творчество, доступное всем. Вот расскажу вам... Когда киевский театр привозил в Ленинград «Варшавскую мелодию», я три раза подряд на спектакль ходил. Один знакомый журналист встретил меня и удивился: зачем тебе это нужно? Я ответил: «О, там Ада Роговцева играет. Я у нее работать учусь». Ведь у актеров тоже — массовое производство! Каждый день одна и та же роль, до слова, до жеста, но каждый день актриса открывалась по-новому. Так и нам на своем рабочем месте нужно: хоть на шаг продвигаться к лучшему, искать. Каждый день!
Где бы мы с Моряковым ни говорили — в фойе театра, в гостинице, на заводе «Строймаш», в конторе ЖЭКа (там Евгений Николаевич вел прием избирателей — шесть раз он избирался в депутаты горсовета, три раза — в райсовет), мой собеседник был одинаково спокоен, приветлив, обстоятелен — оставался самим собой. Тихая улыбка и умение прислушаться к любым возражениям придавали словам Морякова особую убедительность. Он относится к числу тех редких собеседников, которые все известное стараются обдумывать заново, не боятся ошибаться — ищут истину у тебя на глазах.
— Есть люди, которые, как только заходит речь, чтобы взять ответственность на себя, сразу заявляют: «Я — человек маленький». Что ж, легче всего убедить себя, что ты — лишь пылинка в этом огромном, скоростном мире. Пылинка, которой даже ветер может распорядиться. Да, так легче. Привыкая слепо выполнять указания свыше, человек фактически прячется за чужую спину. Конечно, за нетворческий подход к делу прогрессивки не лишают, можно и в тени прожить, но будет ли такой человек счастливым? Сможет ли внутри себя смириться, что он — середняк? Нет, знаете, плохо работать — это тоже уметь надо.
А люди у нас в большинстве нормальные, хорошие. Обидно, что им-то в воспитательной работе мы уделяем мало внимания. Массу усилий гробим, чтобы перевоспитать двух-трех отпетых, а о тех, кто тоже работает рядом не за страх, а за совесть, забываем. Ну, вот пишем мы в служебных характеристиках: «Работает хорошо, дисциплинирован». И никогда: «добр и честен», «дорожит своим словом». А я бы писал даже так: «Умеет (или не умеет) чувствовать чужую боль».
Когда я спросила: «А как же быть с отпетыми?» — Моряков уточнил: «Ну, конечно, мы обязаны достучаться до сердца каждого человека». — «А возможно ли достучаться до каждого?» — «Если ключик особый найти, любой откликнется», — уверенно ответил Моряков. Тут я вспомнила разговор о Евгении Морякове с Владимиром Рецептером. (Артист и токарь давно знакомы и питают друг к другу симпатию.) Так вот, повел меня Моряков в экспериментальный театр, где Владимир Рецептер, как режиссер, поставил «Моцарт и Сальери». После спектакля и состоялся тот наш разговор с Рецептером. Он сказал о Морякове: «Это гармоничный, чистый человек, но в каком-то смысле — идеалист».
Может быть, и в самом деле Евгений Николаевич идеалист, раз считает, что любого отпетого можно наставить на путь истинный? И нет ли чего-то идеалистического в его отношении к профессии токаря? Пожалуй, и так: Моряков — идеалист, но в самом исконном, забытом смысле слова: человек, живущий по дорогим его сердцу идеалам. Идеалист-практик. Именно это качество натуры определяет, очевидно, его незаурядный дар воспитателя, о котором мне многие рассказывали. Тринадцать лет подряд возглавлял Евгений Николаевич партийную организацию завода. Неосвобожденный секретарь, он трудился фактически в две смены: первая — на станке, вторая — на общественной работе. Моряков многое сделал для создания творческой атмосферы в своем коллективе, а вот оформлять собственные рационализаторские предложения (он их немало вносил) было недосуг. Есть у него, кажется, бронзовая медаль ВДНХ. Маловато, конечно. Но сам он об этом никогда и не задумывался. Привык радоваться успехам других.
— Я горжусь тем, что главный конструктор нашего завода Макс Шапунов имеет более тридцати авторских свидетельств, многие иностранные фирмы прислали ему патенты. Но горжусь я и тетей Катей Белиховой. Она — ветеран нашего завода, всю жизнь режет металл. Вроде бы однообразная работа, да? Но, помните, писатель Бажов говорил про живинку в деле? Вот у тети Кати — живинка! Залюбуешься, как по-умному кроит она металл, лишнего сантиметра не выкинет. Ей иногда говорят: «Тетя Катя, что это — крепдешин, что ли? Возьми другой лист железа, дело-то быстрей пойдет!» А она — свое. Совесть ей не позволяет иначе работать.
Я недавно перечитывал Шукшина. Герой одного из последних его рассказов «Штрихи к портрету» мечтает: «А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух».
Представьте себе, как преобразилась бы наша жизнь, если бы каждый, буквально каждый человек на своем конкретном месте честно, от души трудился. Дело в том, что качество личного труда — это прежде всего качество воспитания личности, уровень совести. А мы порой начинаем дело воспитания с конца. Твердим человеку: работай хорошо, работай...
— Но сегодня, Евгений Николаевич, жизнь стала лучше, легче, чем в годы вашего детства. И сколько бы мы ни попрекали родителей, что, мол, портят своих детей, оберегая их от трудностей, а процесс этот вполне закономерен, объективен.
— Я где-то читал, что если стрижа, который учится летать, посадить на совершенно ровную площадку, он не сможет оторваться от земли. Но если его подкинуть или посадить на крышу, у него сразу появляются и силы, и стимул для полета. Так, наверное, и с подростком. Создавая для него идеально ровную поверхность жизни, мы нарушаем естественное развитие его внутренней природы. А она-то, порой бурная, непокорная, все равно вырывается наружу, но вырывается боком. Нет, я вовсе не за то, чтобы создавать нашим детям искусственные трудности. Слава богу, что наши ребята могут сегодня спокойно учиться, а не идти, как я, например, в пятнадцать лет работать.
...Моряков пришел на завод совсем мальчишкой, паспорта еще не имел, штамп о приеме на работу прямо в метрику поставили. Смешно вспомнить: ростом в ту пору он совсем не вышел, и сделали ему двойную подставку, водрузили ее перед станком, а мастер пошутил: «Вот тебе, Евгений Моряков, капитанский мостик. Отправляйся в большое плавание!» Завод был от дома через стенку. Обедать ходил домой. Шел через большой двор в замасленном комбинезоне, нарочно не умывшись. Знал, что знакомые мальчишки высовываются из окон, с завистью провожают глазами.
На минуту Моряков останавливается, вспоминает, может быть, свое детство и насмешливо улыбается чему-то. Спохватившись, продолжает:
— Сейчас, конечно, совсем другая жизнь. Условия нас не поджимают, не заставляют с детства приносить в дом копейку. Но вот же какая закавыка: сегодняшний подросток, хоть ничего пока самостоятельно не совершил, а уважения к себе требует такого же, каким заслуженно пользовались в свое время мы, пятнадцатилетний рабочий класс. Да ведь это уважение было как дрожжи, на которых вырастало с юности чувство достоинства, а из него уж и другие качества характера — честь, ответственность, умение думать про другого... Эти качества, по-моему, заложены в каждом человеке и ждут не дождутся, чтобы проявиться. Как же дать им сегодня волю?
Думаю, что, во-первых, мы не имеем права шуметь на наших детей по пустякам. И обязаны быть щедрыми на уважение. Да, уважать подростка, так сказать, авансом. Пусть он ничем особо не отличился, но мы-то знаем, что он на многое способен. И должны доверять ему, предоставлять больше свободы, не дрожать, что он ошибется. Уважение всегда подтягивает, обязывает человека быть лучше.
— Значит, по-вашему, проблемы воспитания становятся сегодня гораздо сложнее?
— Конечно, от воспитателей, от всех нас, взрослых, требуется сегодня особая мудрость и гибкость, но главное — щедрость. Я на этом настаиваю. Конечно, чтобы узнать и почувствовать каждого воспитанника, нужны время и силы, а у наставника не так уж много свободных минут во время работы. Но вспомним: после войны свободного времени было еще меньше.
Теперь и объяснить трудно, откуда, например, выкраивала часы и минуты для воспитания новоиспеченных рабочих «Строймаша» комендант общежития простая русская женщина Александра Капитоновна Белякова. Сто пятьдесят мальчишек и девчонок разом свалились на ее голову. Самому младшему — пятнадцать, старшей — семнадцать лет. Все голодные, растерянные. Выпускники ремесленного училища, приехали они в Ленинград из Рыбинска, обещали им благоустроенное общежитие с окнами на Неву, но в жизни все повернулось не так красиво... И обрушились на Капитоновну сотни вопросов и бед. Уму непостижимо, как успевала она разглядеть и понять каждого (но — успевала!), как ухитрялась помочь, причем норовила не просто оградить от дурного, а сделать ребят невосприимчивыми к дурному.
Самой Капитоновне выпала трудная вдовья доля. Муж погиб на фронте, на руках — двое детей, жили они в маленькой комнатушке общежития, рядом с большой и вечно шумной кухней, зарплата, конечно — гроши. Но Капитоновну никто из нас никогда не видел приунывшей. Девчонок и мальчишек как магнитом тянуло в ее комнатку, которую она сумела превратить в настоящий домашний очаг для всех своих питомцев. У Капитоновны можно было и чайку выпить, и просто по-девчоночьи выплакаться, и залечить на руках порезы от стружки, и перехватить до получки пятерку. На всех хватало у нее тепла и любви. Помогало тогда, конечно, и наше умение «жить единым человечьим общежитием». Думаю, самое дорогое, что есть у человека, — это его единение, его дружба с другими людьми.
— Ну а что еще нужно человеку для счастья? Вам не раз, наверное, приходилось отвечать на вопрос о счастье.
— Очень трудно на него отвечать. У каждого — свое личное, сформулированное жизнью мнение. Но я сказал бы просто: счастье — это когда ты чувствуешь свою нужность людям, когда у тебя здоровья до чертиков и тебе работать и работать хочется.
...Чувствую некоторую горечь в этих словах: сам Моряков, увы, здоровьем похвастать не может. В последние годы Евгений Николаевич болеет — тяжелая астма. Был, можно сказать, на волосок от смерти — лежал в реанимации, но каждый раз, выходя из больницы, вновь возвращался на родной завод, без которого себя не мыслит. «Радость жизни добывается только через труд», — сказал Моряков в начале нашей беседы и этим выразил свое жизненное кредо.
— Значит, по-вашему, счастье начинается и кончается работой? — спрашиваю я, тут же вспоминая свой спор на эту тему и с Илизаровым, и с Ходаковским. Да что они все сговорились, что ли?
Моряков убежденно продолжает:
— А как же? Всю мою жизнь я видел по-настоящему счастливыми только тех людей, которые любят и умеют работать. Вы слышали, например, о Чуеве? Да кто сегодня не знает о Чуеве? Вот уж божьей милостью токарь и в самом высоком смысле счастливый человек. Токарь Чуев внес огромный вклад в создание советского флота. Почти все судостроительные заводы страны применяют сейчас чуевский метод. Раньше слесарную доводку многотонных валов гребного винта делали только вручную. Здесь нужна максимальная точность, и считалось, что доверить эту работу машине нельзя. А Чуев (он имел глубокие инженерные знания) долго, очень долго искал и нашел! Предложил и сам опробовал вариант обработки валов на токарном станке. Это было так непривычно! На завод приезжали несколько авторитетных комиссий, проверяли точность результатов, но все равно говорили: не может быть! Наконец вызвали одного известного профессора, и тот поддержал Чуева.
Жена Чуева — Вера Евлампиевна рассказывала мне, как он вскакивал среди ночи, что-то рисовал, ходил по комнате... Что им двигало? Не думаю, чтобы желание славы или мысль о вознаграждении. От него лично знаю, что очень уж ему хотелось избавить своих товарищей от мучительного ручного труда. Мне повезло в жизни — часто встречался с Алексеем Васильевичем. И нигде — ни на заседаниях, ни на выставках достижений ленинградских новаторов (Чуев был председателем совета новаторов города), ни в его цехе — ни разу не слышал, чтобы Чуев сказал: «Это сделал я, разработал я». Он всегда подчеркивал, что представляет опыт родного Балтийского завода. Трудное, конечно, было у Алексея Васильевича счастье, но надежное. Да что там говорить, без труда человек сразу становится себе самому ненужным, одиноким.
...И снова Евгений Николаевич задумался. Может быть, опять посетили его грустные мысли о постоянно висящей над ним угрозе — врачи уговаривают Морякова оставить работу, уйти на отдых. Материально-то он будет обеспечен, но как станет себя при этом чувствовать?
«Я — токарь, и этим я интересен», — сказал как-то Моряков, выступая от имени советской делегации в одной из своих зарубежных поездок. Спрашиваю его о впечатлениях от заграницы. Он первым делом вспоминает о добрых встречах с людьми труда, со своими коллегами — рабочими. С ними сразу удавалось найти общий язык, где бы это ни было — в Англии, в Норвегии, в ФРГ или в Японии. Но поразило Морякова, что условия жизни в капиталистическом мире заставляют даже хороших людей думать только о себе. «А зачем мне ученики? — удивился опытный столяр из Манчестера. — Есть училища, пусть там и учат. А у меня свои секреты». С недоумением вспоминает Моряков эпизод, о котором узнал из одной книжки об Америке:
— Представьте себе: огромный завод, и в цехе, оборудованном по последнему слову техники, вдруг стоит палатка. Что такое? Зачем? Оказывается, здесь работают экстра-мастера, отец и сын. А палатка — чтобы скрыть от чужих глаз свои секреты.
И снова наш разговор возвращается к излюбленной теме Морякова — об уважении к труду. Он говорит:
— В нашей стране созданы все условия, чтобы человек мог свободно выбрать для себя дело по душе. Но как жаль, что этот выбор превращается порой в метания без толку: то не нравится, это не подходит. А ведь, знаете, прежде чем сказать: «Я не люблю свою работу» — и искать новую, нужно литры пота пролить, пуды соли с товарищами по труду съесть. Хочешь открыть свой талант, изволь всерьез потрудиться. Природой каждому отмерен какой-то талант. Губить в себе талант, будь он большой или маленький, всегда преступление. Кстати, человек, который изобрел хороший резец, заслуживает не меньшего уважения, чем, предположим, поэт, написавший хорошую поэму. И то, и другое необходимо обществу. Знаете, слово «рядовой» в применении к человеку или к его профессии никогда не казалось мне оскорбительным.
Когда я выбирал профессию (тоже ведь мечтал найти свое единственное), мне было ясно: «рабочий» звучит гордо, почти как слово «человек». В нашем поселке судостроителей все вокруг работы вертелось. Отец был рабочий, дядя был рабочий, жили большой семьей, друзья семьи — тоже рабочие. Дома разговоры — все про работу. Нам, детям, никогда не говорили, что стоять у станка легко, но никогда и не говорили, что это плохо.
Моряков как пришел токарем на завод, так токарем и остался. Завод «Строймаш» — маленький по ленинградским масштабам и нельзя сказать, чтоб очень современный завод, зато выпускает он уникальные строительные машины, которых никто в стране больше не делает. «Все, что построено за последние годы в Ленинграде, — жилые дома, заводы, станции метро, школы — все с помощью наших машин. Да и в других городах, в других странах наши машины работают», — говорит Моряков. И действительно, чего ему было со «Строймаша» куда-то переходить, когда именно здесь он всегда чувствовал себя на своем месте? Да и не из тех Моряков людей, которые ищут, где легче и лучше.
Напоследок Евгений Николаевич говорит:
— Вот и на июньском Пленуме нашей партии говорилось, как это важно для всех нас, для страны — помогать молодым правильно выбрать свой трудовой путь. Опыт ленинградских ПТУ был на Пленуме одобрен. Но можем ли мы успокаиваться? Имеем ли право не признать, что бываем порой неискренни — будто самих себя уговариваем, что все профессии хороши, а внутри в это не верим? Не ослабевает ли изначальное уважение к труду как таковому? Вот что меня сильно тревожит!
Эта мысль еще отчетливее прозвучит в беседе с другим человеком, которого я встречу на Алтае.
СОЛДАТ ВОЙНЫ В. Т. ХРИСТЕНКО:
«...Для хорошего самочувствия человеку
необходимо прежде всего самоуважение».
Есть люди (с годами их становится все меньше), для которых жизнь разделяется на время «до» и «после» войны — никакие мирные впечатления не могут перекрыть в их памяти остроту пережитого. К числу таких «вечных фронтовиков» относится и Василий Тимофеевич Христенко, первый заместитель председателя Алтайского крайисполкома.
В начале его биографии любопытно повторилась цифра семнадцать: он был младшим (семнадцатым!) ребенком в семье сельского фельдшера и в неполные семнадцать лет ушел добровольцем на фронт. До войны мечтал стать художником, занимался в студии, у него находили способности.
Когда в первом бою увидел поле во всполохах взрывов, очарованно застыл, стоя на коленях: «Какие краски!» Очнулся от крика старшины: «Ты что, сдурел? Окапывайся!»
С войны Христенко возвратился полным кавалером ордена Славы. Художником он не стал. Закончил юридический институт. Более четверти века отдал партийной работе на Алтае. Шестнадцать лет был первым секретарем Шипуновского райкома. Это — в засушливой Алейской степи, в зоне рискованного земледелия. Герой войны, в мирные дни он стал Героем Социалистического Труда.
Был делегатом XXIV и XXV съездов партии, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
На Алтае Христенко известен не только своей незаурядной биографией, но прежде всего — самой своей личностью. «Надежный, прямой, смелый в решениях...» Это не из военных характеристик — из отзывов земляков о Василии Тимофеевиче.
Из окон гостиницы виден сквер с заиндевевшими деревьями, а чуть левее — здание крайисполкома. Кабинет Христенко — на втором этаже этого здания. Мое окно как бы смотрит в его окна. Каждое утро, просыпаясь, не могу удержаться и не взглянуть: как там, напротив? Зимнее утро медлительное, сумеречное, и вот каждый раз вижу, что в христенковском кабинете уже горит свет. Большинство окон здания темные, а у него — свет. Василий Тимофеевич приходит на работу одним из первых и уходит (судя по окнам) одним из последних.
Несовременная это привычка — пропадать на работе с утра до ночи. Когда-то мы таким поведением человека восхищались, теперь порой относимся с легким осуждением: не работой единой жив человек. Нужно-де так организовать свой рабочий день, чтобы в законные часы укладываться, а свободное время должно использоваться по назначению, поскольку эффективный отдых для той же работы важен. Но эти здравые наущения не проймут Христенко. У него свои твердые принципы, в суждениях о жизни он бывает резок, категоричен, наивен порой, но всегда — искренен. Предъявляя жесткие требования к другим, он к себе их в первую очередь применяет.
Итак, наш разговор начался с того, что я вспомнила выступление Христенко по радио (тогда я не знала, кто он, передачу слушала с середины, но непривычная страстность, наступательность говорившего заинтересовали меня).
* * *
— Вы говорили, Василий Тимофеевич, что вам не по нутру люди спокойные — спокойствие часто оборачивается равнодушием. Вы доказывали, что счастливым может быть только человек, который горит за свое дело, и возмущались теми, кто делает ровно то, что положено, — «от» и «до»... Меня, помню, взволновал пафос ваших слов, но с позицией, если вдуматься, трудно согласиться. Ведь если бы все мы нормально исполняли каждому из нас положенное, наверное, и горения ни от кого не потребовалось бы. Да и плохо ли, когда человек спокойный? Вы вот сами — спокойный... Многие даже считают это главной чертой вашего характера.
— Спокойный? Ну уж нет — просто в узде себя держу... Но не о том же спокойствии речь, не о форме поведения, а о человеческой сути. Насколько помню, я тогда по радио об уважении к труду говорил. Не верю, что человек может быть счастливым, если не любит труд, если с детства ему потребность трудиться не привили. Мы вот обычно, когда беседуем с молодежью, упираем на то, что трудиться — долг человека перед обществом: кто, мол, не работает, тот и не ест... А они, эти ушлые молодые, тут же припоминают своего знакомого или соседа, который никаким общественно полезным трудом не занимается, но очень даже вкусно ест...
Что скрывать, мы живем в такое время, когда человек, не желающий работать, с голоду, конечно, не умрет. Ловкачи придумали множество способов, как безбедно прожить за счет общества, причем для этого не обязательно воровать в открытую. И что же может подумать, оглянувшись, молодой человек? Труд, скажет он, вовсе не так уж необходим для хорошей жизни, как это пытаются мне внушить. Труд — просто повинность. Вступая с таким заблуждением в жизнь, невозможно радоваться или — повторяю — гореть даже на самой интересной работе.
Очень обидно, что в трудовом воспитании мы мало обращаем внимания на главную суть: труд, образно говоря, дает человеку не только хлеб насущный, но и хлеб духовный. Труд — прежде всего потребность, которая заложена в самой человеческой природе.
Очень серьезный это вопрос. Но как подступиться к его решению? Можно ли человека, по выражению Христенко, «спокойного» убедить... гореть? Это же все равно, говорю я Василию Тимофеевичу, что кого-то заставить быть счастливым.
Он сразу же соглашается: да, голыми призывами ничего не достигнешь. На некоторое время замолкает, рассеянно перебирая деловые бумаги, в изобилии скопившиеся с утра на столе. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, задаю вопрос, который занимал меня с тех пор, как услышала о Христенко: как случилось, что его наградили «лишним» орденом Славы? Дело в том, что у Василия Тимофеевича четыре Славы — уникальный случай. Ведь этот солдатский орден, как известно, имеет только три степени (вручался за проявление личной храбрости).
Василий Тимофеевич чуть устало улыбается — много раз, конечно, спрашивали его об этом. «Ну, когда первый раз наградили, лежал в госпитале и ничего не знал, награда затерялась на дорогах войны. А потом попал в другой полк, и фронтовая жизнь пошла по новой. Был разведчиком, было много возможностей проявиться, заработал три Славы. Ну, а о том, самом первом ордене (потом он оказался уже четвертым) стало мне известно только после Победы. Это, понимаете ли, счастливая незаконная случайность войны. Впрочем, как и то, что остался я жив». — «Вас сразу направили в разведку?» — «В разведку никого не направляли, только — по собственному желанию». — «И всю войну в разведке?» — «Да, нравилась эта работа. Там очень многое зависит от тебя лично».
В статьях о Христенко (о нем немало писали) я не раз встречала сравнение его мирной жизни с фронтовыми буднями: «он, секретарь райкома, по-прежнему чувствует себя на самой горячей передовой», «он любит бывать в поле, когда оно золотится от созревающих хлебов, и комбайны в час заката порой кажутся ему танками на поле сражения».
Сам Василий Тимофеевич ничего подобного сказать журналистам не мог, он вообще весьма сдержанно и скупо рассказывает о своих чувствах. Но метафоры эти, пожалуй, уместны: ведь Христенко, как я уже говорила, «вечный фронтовик». О чем бы он ни рассуждал, явной или незримой точкой отсчета присутствует в его рассказах война. Вот и сейчас, когда беседа наша подошла к трудному вопросу о том, как воспитать в людях сознательное уважение к труду, Христенко вспомнил о войне. И сказал о ней так:
— Война — это тоже труд, тоже тяжелая, повседневная работа. Можно ли было ее делать без души, то есть формально? Сама обстановка требовала от человека высочайшего напряжения сил. Были условия необходимости, и в человеке поднималось лучшее. Войну принято вспоминать как горькое, страшное время, и это так, конечно. Мне до сих пор снятся лица погибших друзей. Их нет, а я живу, и порой мучает сознание, что в чем-то ты оказался без вины виноват перед ними... И никуда от этих мыслей не деться. Но с годами понимаешь и другое. Вы будете поражены, но я скажу правду: сейчас, издали, война, несмотря на все ужасы, видится не только как страшное, но и как счастливое время. Ведь мы видели столько красоты человеческой! Испытали истинное братство — не было тогда деления на «мое» и «твое», все было «наше». В этом смысле жить тогда было легче и радостнее. Все люди были охвачены единым порывом.
Разумеется, такое признание вызвало у меня протест, желание спорить, но Василий Тимофеевич опередил:
— Понимаю: нельзя сравнивать. Но трудно же смириться: почему, ну почему в тех нечеловеческих военных условиях, да и после войны, в тяжелые годы разрухи, когда мы были голодные, нищие, почему мы были добрее друг к другу, отзывчивее? Смотришь сейчас фильмы о тех временах и себе не веришь: неужели мы могли так нормально жить и работать в столь ненормальных условиях?
Нелепо было бы подозревать Христенко в том, что он может тосковать по невзгодам и трудностям. Ведь всеми своими делами Василий Тимофеевич как раз с этими невзгодами, «ненормальными условиями» неустанно воюет. В свое время, будучи секретарем райкома, он затратил немало сил, чтобы его Шипуновский район стал передовым на Алтае в деле улучшения социально-бытовых условий на селе. Именно здесь начали усиленно строить детские сады и школы, здесь появились добротные сельские больницы и клубы, здесь возник знаменитый самодеятельный хор «Сибирячка», ставший впоследствии лауреатом Всесоюзного и Всероссийского смотров самодеятельных коллективов, здесь открылся первый в крае народный краеведческий музей, был построен мемориал «Солдатам, с кровавых не вернувшимся полей», здесь улицы поселков украсились цветниками и клумбами (Христенко сам любит выращивать цветы), даже бассейн в райцентре мечтали сделать, проект утвердили, и когда кто-то удивлялся: «На селе — бассейн?» — Христенко спокойно отвечал: нужно, мол, менять стародавнее отношение к деревне.
Сейчас, став горожанином, он с явной грустью вспоминает о бессонных ночах во время жатвы, о росных утрах и тихих деревенских вечерах — будто разлучили его со смыслом жизни. И это при всем при том, что на повышение человек пошел. Теперь не один Шипуновский район, а весь Алтайский край — поле его деятельности. С чего бы, казалось, грустить? Но я уже говорила, что Василий Тимофеевич — человек устоявшихся привычек, в какой-то степени даже консервативный, и нет ничего удивительного, что к переменам в своей судьбе, какими бы лестными они ни казались со стороны, он привыкает с трудом. Это — его личные переживания, на дело они никак не влияют. О социально-бытовых преобразованиях в масштабах всего края, за которые ратует теперь Христенко, речь впереди, а сейчас вернусь к тому острому моменту, на котором прервался наш разговор.
Христенко, нахмурив лохматые брови, упрямо продолжал:
— Как говорится, не дай нам бог тысячной доли тех испытаний, что были в войну. Но если согласиться, что война — тоже работа, то она ярко выявила, как сильна в человеке способность самоотдачи. Она и сейчас никуда не делась, я уверен. Но одно дело — жить в полную силу, когда этого требуют обстоятельства, и совсем другое — когда обстоятельства позволяют расслабиться, а требовать ты должен сам от себя.
Я не раз думал: сейчас, на гражданке, мужества требуется не меньше, чем на войне. Вот идет собрание, ты чувствуешь, что идет оно «не туда», ты хотел бы встать и сказать правду в глаза руководству и знаешь наперед, что оно тебе этого не простит. Конечно, задача. На войне было понятно, кто враг, а кто друг, и на войне не было выбора: если не победишь, то погибнешь — любой ценой нужно победить. Сейчас выбор широк: можно отсидеться, отмолчаться, покипеть потом в коридоре, можно найти себе тысячу оправданий... И так тихо, мирно прожить жизнь, как говорят — ни богу свечка ни черту кочерга.
Чтобы доказать, как это, по сути, трудно — отвечать за себя, Христенко рассказывает о фронтовом товарище, судьба которого давно не дает ему покоя. Какой это был смельчак на фронте! Человек-молния. Казалось: с его головой и характером в мирной жизни можно горами ворочать. Но случилось так, что именно он и сломался. Или, может быть, его сломали на одном из крутых поворотов. Попытки друзей помочь ему ни к чему не привели. В его трагедии виновата, наверное, все та же война. «Во многом виновата, — подчеркивает Христенко, — но не полностью. Человек, что и говорить, сам отвечает за себя и нуждается в насилии над собой со стороны самого себя».
В насилии? Я не сразу поняла эту его мысль. Василий Тимофеевич пояснил простым примером.
— Взять хотя бы зарядку. Ее ведь тоже делать нелегко. Откроешь глаза в пять утра, думаешь: эх, полежать бы. Даже в такой мелочи и то преодолевать себя — дело не из приятных. Зато потом, когда поработаешь с гантелями, примешь холодный душ, странно даже представить: как же я мог бы без этого? Когда не сделаю день-два зарядку, кажется, лет на десять постарел.
(Фигура у Василия Тимофеевича, замечу кстати, до сих пор юношеская. Он невысок ростом, но так подтянут, упруг, что идет по улице — залюбуешься. Твердая у него походка, уже в походке чувствуется характер. Из дома на работу и домой с работы — обязательно пешком. Не все это понимают: зачем пешком, если закреплена за человеком служебная машина? Но зато вот какая любопытная деталь в биографии Христенко: ни разу в жизни он не брал бюллетеня.)
Ну, про зарядку это он так, к слову сказал. И тут же возвратился к вопросу об уважении к труду:
— В заботах о плане, о высоких показателях мы забываем порой главный наш принцип: не человек для производства, а производство для человека! Меня глубоко радует, что в Продовольственной программе со всей остротой поставлены социальные вопросы развития села. В этом ее отличие от других экономических программ, то есть на производство и экономику мы стараемся смотреть через человека и его нужды. Человек должен постоянно чувствовать, что своим трудом он не просто создает материальные блага, не просто зарабатывает деньги, но и преодолевает самого себя, то есть развивает все мышцы тела и души, если можно так выразиться.
...Здесь я возразила, что стремимся-то мы к тому, чтобы любой труд был по возможности приятным, творческим, и что в наше время ориентация на трудности звучит как-то неубедительно. Рассказала ему, что на том же БАМе, например, «романтика трудностей» никого не вдохновляет. Люди хотят, чтобы труд был четко организован, чтобы не тратились понапрасну нервы. И, если угодно, сегодня и на рабочем месте должен быть максимальный комфорт.
Христенко не согласился:
— Но кто сказал, что труд может стать наслаждением? Другое дело — результаты труда, они приносят человеку радость, удовольствие, но сам труд... Настраиваться на легкую жизнь пока рано. Мы возлагаем большие надежды на НТР, но в отношении к самому человеку НТР — штука коварная.
Встречали вы, наверное, в колхозах лозунг: «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Хорошие слова, но все меньше соответствуют действительности. Раньше хлебороб, и правда, нянчил это зерно в руках, начиная с закромов, сам был весь в хлебной пыли. Сейчас — механический загрузчик, сеялка, трактор, комбайн (иной механизатор полезет в бункер потрогать зерно, иной — нет). Руки хлебороба сегодня пахнут или соляркой, или бензином. А настанет время, он вообще будет только кнопки нажимать и живого хлеба в глаза не увидит. Хорошо это? Плохо! Ведь человеку, куда ни денься, и усталость нужна, здоровая физическая усталость, и зримость результатов своего труда. Чтобы острее почувствовал он себя человеком.
И вот получается замкнутый круг. С одной стороны, мы боремся за то, чтобы облегчить труд машинами, а с другой — вынуждены оглядываться: не подавит ли машина человека? Уровень сознания, что и говорить, часто отстает от научно-технического прогресса. И сегодня, как никогда, важно напоминать человеку, что труд есть труд.
Здесь я возразила: уровень сознательности от напоминаний не повысится. Чтобы каждый стремился хорошо работать, нужны материальные стимулы.
Он встал из-за стола и зашагал по кабинету. Молча. Но и без слов было понятно, что мое замечание пришлось ему не по душе и что пытается он сейчас смирить поднявшийся в нем гнев. Впрочем, голос, когда он начал говорить, был по-прежнему спокойный:
— Вопрос этот давно меня жжет... Не слишком ли мы переусердствовали, поднимая на щит принцип материальной заинтересованности? Вместо того, чтобы разумно организовать производственный процесс, создать человеческие условия труда, только и знаем, что платим премии. Человек и не знает толком, какая у него реальная зарплата. Платим, как говорится, за каждый чох. Как нерадивые родители, которые лепятся (или не умеют) вложить душу в воспитание ребенка и вместо этого заваливают его дорогими подарками, будто откупаются от него. Нет, я не за то, чтобы что-то недодать труженику. Но нельзя же весь смысл труда сводить к деньгам! Раньше мы как-то стеснялись говорить о зарплате, теперь стесняемся говорить об энтузиазме. Ну, если не стесняемся, то во всяком случае оговариваемся сто раз, чтобы нас не заподозрили в неделовом подходе.
Вот пример: установился на селе обычай — за каждые сто намолоченных тонн звездочку на комбайне рисовать. Но тут же немедленно за эту самую звездочку по пятерке приплачивают. Зачем? Если вдуматься, это не столько стимул и уважение, сколько унижение труда. Нужна или не нужна эта немедленная пятерка комбайнеру — судить не будем. А вот то, что не сумели мы по-человечески труженику спасибо сказать, будто бесплатная благодарность уже ничего и не стоит, это, по-моему, ясно. Раньше грамоту — в рамочку и вместо божницы выставляли, а теперь часто ли ее из комода достают?
— Но ведь знаем же мы, Василий Тимофеевич, что энтузиазм, сознательность часто разбиваются об элементарную неразбериху и бесхозяйственность. И здесь, увы, моральные стимулы не помогут.
— А материальные? Никакие премии, колесные или там северные надбавки не заставят человека честно, с умом трудиться, если он видит, как труд его вылетает, что называется, в трубу. Сколько потов хлебороб проливает, выращивая и собирая урожай, а потом зерно по нерадивости руководства колхоза на току гниет. Что испытывает труженик, глядя на такую пагубь? Деньги-то у него лежат в кармане, и немалые, но морально он обворован. Отсюда что рождается? Безразличие, рвачество. А потом мы сетуем: люди не хотят работать, стремятся только побольше зарабатывать.
Сколько раз я мучительно спрашивал себя: почему так получается — вот два соседних колхоза, все у них одинаковое — земли, климат, оснащенность техникой, а результаты разительно непохожи? Почему в одном хозяйстве люди болеют за дело, а в другом — работают «от» и «до», лишь бы отвязаться? Что же, в одном месте все подобрались трудолюбивые, а в другом одни лентяи? Не бывает такого! Но в чем же дело?
Вникая в суть сложившихся отношений, каждый раз убеждаешься: очень многое зависит от того, удалось ли руководителям колхоза и партийной организации создать атмосферу всеобщей заинтересованности в результатах труда, привить каждому колхознику реальное чувство, что он на своей земле — хозяин.
— Но и атмосфера заинтересованности, и чувство хозяина прививаются, очевидно, не только воспитанием, они естественно возникают в соответствующих экономических условиях.
— Правильно. Сейчас уже прошло время, когда мы умилялись на отдельные хозяйства: вот, мол, какой хороший колхоз, люди из него не бегут, план выполняют. Не можем мы утешаться, что существуют такие благополучные островки в безбрежности наших земель. На этом не выедешь. Для решения задач, поставленных Продовольственной программой, необходимо выработать правильные экономические взаимосвязи между человеком и обществом, чтобы сами условия заставляли хорошо работать, чтобы просто не было у человека другого выхода... Перекрыть лазейки для тех, кто не работает, а ест. За счет других ест.
На XXVI съезде нашей партии, помните, говорилось: «Наша система материальных и моральных стимулов должна всегда и повсеместно обеспечивать справедливую и объективную оценку трудового вклада каждого. Надо всемерно поощрять добросовестных работников, не оставлять лодырям и бракоделам никаких лазеек для хорошей жизни при никудышной работе».
Раньше нам казалось: построим шикарный клуб, и он притянет молодежь к селу, как магнит. И вот настроили в колхозах такие дворцы, что город позавидовать может, а больных проблем села это не решило. Строим мы, конечно, и жилье в сельской местности, много строим. Но канализация, центральное отопление в селе — пока большая редкость. И что получается? Приезжает молодой специалист работать в колхоз, от многих соблазнов города отказывается, а тех элементарных удобств, которые он имел, будучи студентом, у него теперь нет...
На том же XXVI съезде партии отмечалось, что «люди трудятся лучше, охотнее там, где они ощущают постоянную заботу об улучшении условий их труда и быта».
Продовольственная программа предусматривает широкий комплекс мер по улучшению жилищно-бытовых и культурных нужд села. В частности, расширится сфера коммунальных услуг — не должны сельские труженики испытывать дополнительные трудности!
Разговор наш, как заметил читатель, имел критическую направленность. Христенко высказывал то, что давно у него наболело, с присущей ему прямолинейностью, не заботился о том, чтобы уравновесить негативные суждения позитивными примерами. Но справедливости ради и чтобы доказать право Христенко говорить так, как он говорил, я должна сообщить читателю, что в Алтайском крае предпринимается ряд конкретных усилий для социально-бытового преобразования села (в крайисполкоме за эту работу отвечает он, Христенко). И уже есть некоторые успехи.
Например, опыт работы Славгородского района по строительству жилых домов на селе был одобрен Советом Министров РСФСР. Несколько сел в этом районе отстроены заново, с учетом современных требований, причем и колхозные, и индивидуальные дома (индивидуальному строительству оказывается всемерная помощь) не только с городскими удобствами: водопровод, канализация, отопление, но еще и с сельскими благами: приусадебный участок, цветник, постройки для скота и хранения кормов. Есть такое село на Алтае — Подсосново. Так вот, оно полностью телефонизировано, все улицы и дороги асфальтированы, освещены. В Славгородском районе действует передвижная выставка проектов домов, работают свои кирпичные заводы, созданы мощные строительные бригады. Пример Славгородского района по застройке и благоустройству сел, может быть, лучший, но не единственный на Алтае. В этом крае не привилась дурная мода сселять на центральные усадьбы малые деревни, наоборот, здесь стремятся отстраивать эти деревни, приближая рабочие руки к земле.
...А потом наш разговор вдруг совершил крутой вираж. Василий Тимофеевич, только что с такой страстью доказывавший необходимость улучшения бытовых условий жителей села, задумчиво произнес:
— А вообще-то я считаю, что незачем нам стремиться к удовлетворению всех возрастающих материальных потребностей трудящихся. Все потребности никогда не удовлетворишь. Ну, можно третий, пятый костюм приобрести, машину купить, дачу выстроить, потом новую, более дорогую марку машины достать, потом... Но станешь ли от всего этого счастливее? Да ведь человек в своем потреблении никогда не достигнет предела, не скажет: «Довольно, я уже имею все, что хотел». Чем больше имеет, тем больше хочется, будто червь какой изнутри сосет.
— Но нельзя же, Василий Тимофеевич, бороться с вещизмом путем ограничения человеческих потребностей.
— Почему же нельзя? Ведь идеал нашего общества в чем? Не просто же в материальном комфорте и благосостоянии, а в том, чтобы рос духовный уровень людей, их удовлетворенность своей жизнью. А может ли быть счастливым человек, если его червь накопительства точит? Думаю, здесь выход один: развивать потребности, но в то же время и ограничивать их.
— От чего она, по-вашему, зависит — культура потребления?
— От того, во-первых, как люди относятся друг к другу и к своему труду. Если я уважаю свой труд и труд других, мне и в голову не придет урвать для себя побольше вознаграждения за чужой счет. Если я привык свое достоинство отстаивать трудом, то что же прибавят к моему авторитету престижные вещи? Для хорошего самочувствия человеку необходимо прежде всего самоуважение, а его находишь только в деле, которое делаешь вместе с другими людьми и, значит, не одному себе становишься нужен. Война еще чем запомнилась? Она была горячим общим делом. Там каждый думал не только о себе.
«Опять он сравнивает...» — с нарастающим неприятием подумала я, но тут же себя одернула: все правильно человек говорит, только вот несколько упрощает. Будто бы вещизм можно отменить диктатом. Не учитывает он, что ли, изменений, происходящих в духовном мире современного человека? Я начала было говорить о развитии индивидуальности... Но Христенко перебил: чем?
— Нет, меня никто не убедит, что развитие индивидуальности и индивидуализма — это одно и то же. В человеке только тогда крепнет личность, когда он берет на себя смелость решать: как нам жить завтра. Наш идеал личности — это человек общественный, коллективный.
Я, например, не очень восторгаюсь, когда узнаю про головокружительные личные рекорды. Знаем же мы, что порой они совершаются в искусственных идеальных условиях за счет других людей. По-моему, сегодня нужно особое внимание обратить именно на коллективные формы труда и соревнования, но вот в коллективе (обязательно!) замечать каждую отдельную личность. Почему мы говорим: «Первое место заняла бригада Петрова... звено Кузнецова»? И — точка. А где же остальные члены звена и бригады? Они-то разве ни при чем?
Кстати, когда человек плохо работает, ему об этом тоже нужно прямо в лицо — и главное — вовремя сказать, и с должности, если надо, попросить, раз он сам не понимает. Умение говорить правду в глаза, какой бы она ни была, — это тоже уважение к человеку.
...Потом Христенко рассказал об одном примечательном разговоре со знатным комбайнером совхоза «Шипуновский», Героем Социалистического Труда Владимиром Дмитриевичем Савиновым. Этот хлебороб работает уже четверть века, намолачивал за сезон, бывало, по двадцать тысяч центнеров зерна и больше. Как-то Христенко спросил у Владимира Дмитриевича, может ли тот сейчас пойти на рекорд? «Да, — ответил Савинов без колебаний. — Но к чему? Конечно, в этом случае лично сам намолочу больше, но поле-то у звена одно, значит, у новичков выработка упадет. Невыгодно! Потеряется вера в коллектив!»
— Понимаете, не может человек думать о себе в отрыве от других, не хочет ставить себя в положение одиночки. Ему — невыгодно!
Дальше Василий Тимофеевич стал развивать свою любимую идею о том, что воспитывать человека общественного нужно с самого раннего возраста — «потом мы уже только переделываем, перемучиваем недостатки, а КПД мал».
— В народе говорят, что приучать человека к труду в 16 лет — это все равно что засевать поле среди лета. А ребенок, как только сознает себя, сам к труду тянется. У какого-то знаменитого педагога я недавно читал, что малыш никогда не играет, он буквально на каждом шагу делает для себя открытия, исследует, трудится. И, по-моему, надо не проглядеть момент, когда ребенок способен от простодушных игр перейти к какому-то малому, но полезному занятию.
Все больше увлекаясь своими педагогическими размышлениями, Христенко подошел, наконец, к той крамольной мысли, о которой местные журналисты рассказывали мне с осуждением: «Дай волю Василию Тимофеевичу, он бы всех детей у родителей отобрал и в интернаты отправил».
Нет, он, Христенко, не противник семейного воспитания, но что ж поделать, если такие неуправляемые бывают семьи? Сколько мы знаем семей, где родители пьют («...водка — она, как пожар, каждый день у нас на глазах людей сжигает»). Многие родители элементарных воспитательных навыков не знают, да и не хотят знать. Есть такие, что заражают ребенка своим пристрастием к дорогим вещам. «И вот получается, что только в условиях государственного воспитания мы можем вложить в душу ребенка идею равенства!» Нужны детсады, много детсадов с талантливыми воспитателями. В интересах же идеи равенства Василий Тимофеевич считает, что сейчас, пока нет возможности обеспечить все семьи личными автомобилями, надо вообще отказаться от частного транспорта, а все усилия направить на создание идеально действующего общественного транспорта. И сухой закон объявить, чтобы не было сирот при живых отцах...
Вот, я ведь сразу предупреждала: некоторые суждения Василия Тимофеевича слишком категоричны, неприемлемы. Не стану их комментировать, оставлю эту возможность самому читателю. Но напоследок хочу, чтобы вы представили себе лицо говорившего. Для меня, например, когда я слушала Христенко, лицо его было самым главным аргументом, доказывающим право этого человека и на максимализм, и на заблуждения.
У него широкие скулы, твердый, чуть исподлобья взгляд, морщин немного, но — глубокие, резкие. Если допустить, что каждому времени соответствует характерный тип внешности, то можно сказать, что у Христенко по сию пору осталось... лицо солдата Великой Отечественной — сколько таких вот лиц запомнили мы по кинохроникам военных лет. Пока не дождешься улыбки (а улыбается Василий Тимофеевич редко), лицо его кажется суровым.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





