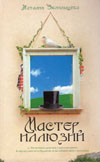ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


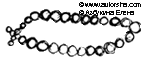
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Аргунова Нора 1988
Подрагивая плечами, изображая что-то вроде лезгинки, Чары́ пританцовывал вдоль тропки, среди колючего бурьяна. Длинной рукоятью вниз он поставил на ладонь колун, пытаясь удержать его в равновесии, пробежал, распугивая бабушкиных одичалых котят, и передразнил барана, высунувшего из кошары голову: «Ме-е».
Скинув у порога нешнурованные кеды, ступил под низкую кровлю.
— Кёшек! — воскликнула бабушка. — Верблюжонок! Работать пришел! Отдохни сначала, — говорила она, доставая завязанные в платок мятные конфеты. — На!
— Не хочу.
— Чай хочешь?
— Нет.
— Ничего не хочет. Ну, отдохни.
Чары упал на кошму, бабушка кинула ему подушку. В извечной своей бархатной безрукавке, согнув острые под ветхим платьем колени, она сидела на корточках и, кряхтя, бормоча, посмеиваясь, резала в казан лук и помидоры.
Через летнюю дверь, забранную от мух мелкой сеткой, Чары смотрел на густо-синее небо, на солнечный горный склон, над которым кружили орлы.
— Чары, ай Чары! Послушай старого человека...
Он тотчас ответил:
— Не.
Оба рассмеялись. То был их давний спор.
— Послушай меня, не женись на городской, женись на девушке из аула, — принялась она за излюбленную тему, — мы найдем тебе достойную невесту, — внушала бабушка, словно Чары был парнем, а не мальчишкой четырнадцати лет.
— Сам найду! Возьмут в армию, вернусь с женой!
— Ба! Зачем так говоришь!
Бабушка потянулась за баклажаном, закряхтела: «Вай-вай» — и рассмеялась.
Чары перевел на нее взгляд. Следы оспы, перенесенной чуть не век назад, терялись среди морщин на щеках, сухих и темных, как ореховая скорлупа. Не старость — сама древность полушутливо, но твердо навязывала Чары свою волю, и он сказал с неосознанным вызовом:
— Какую приведу, знаешь? Не косы, смотри, волосы вот так! Распущенные. — Показал, шевеля над плечами пальцами, хотя считал, что нет ничего красивее черных с отливом девичьих кос. — Глаза подрисованы синим, да-а? Зеленым еще лучше! Или синим, — дразнил, упрямился, сверкал зубами Чары.
— Озорник! Признавайся, куда в четверг с уроков сбежали? К ночи вернулся! Люди видели, три ученика в автобус влезали, — ты, Ганным...
Чары поерзал и выгнулся над полом, опираясь на ступни и затылок.
— Смотри! Боксеры так делают. Шея крепкая будет.
— Твоя не крепкая?
— Джума старше, а мои руки сильнее. Мы пробовали — так, смотри. В гору даже Ганным не обгонит меня. Один раз...
— Молодец. Чары, ай Чары!
— М?
— Городская не умеет... — начала бабушка, и Чары захохотал, тут же смолк, уставился:
— Чего не умеет, говоришь?
— С тамдыром управляться не умеет, чурек не испечет, голодный будешь. Кошму катать не может...
Чары услышал, как притормаживает на повороте машина.
— Научится! — ответил рассеянно.
— Что сказал?
Он вскочил, откинул сетчатую дверь — во двор их дома, что стоял напротив через дорогу, въезжала легковая машина.
— А дрова? — крикнула вслед бабушка.
— После, — донеслось издали.
Она вышла, прикрыла от солнца ладонью зоркие старческие глаза.
Из города приехал дальний родственник Курбан. Он продал старый «Москвич» и приехал на новых «Жигулях».
Распахнулись дверцы, вылезли Курбан и его жена Нáзи. Их встречали всей семьей, здоровались, поздравляли с покупкой. Следом за отцом, старшими братьями, Батыром и Аманом, Чары заглядывал под капот, в багажник, стучал по крылу. На щитке кроме спидометра какой-то тахометр — выяснилось, показывает не скорость, а число оборотов двигателя. Сиденье красное, кузов почти белый, окраска называется «белая ночь» — чего такое, белая ночь? Лунная, наверное.
Пошли в дом: Курбан к отцу, Нази в комнату матери.
Курбан сидел на кошме, скрестив ноги в цветистых носках, не снимая фетровой городской шляпы, маленький, сухощавый, с усиками и длинными, близко поставленными ласковыми глазами. Он рассказывал.
— На проспекте Свободы универмаг есть? Подальше светофор.
Отец кивнул, смеясь.
— Левый ряд занял, где сигнал поворота, ищу, ищу, вспомнил, ищу скорость — в старой машине на руле, в этой на полу. За рычаг хватаюсь, да? А где первая скорость? В той три, в этой четыре. На второй двинулся! Начинаю левый поворот, светофор уже красный, справа такси проспект пересекает. Я газую. Такси ревет, будто ишак, ГАИ свистит, люди остановились...
Все хохотали. Чары перекатился на спину, лег на живот — локти в кошму, голова на ладонях — и смолк, уставился оживленно.
— «Волга» тáк проехала, — показал Курбан тонкими пальцами, — спросите мою Нази. Чуть не умерла со страху. Нази, скажи!
— Да! — смеясь, крикнула Нази через просторное крыльцо в распахнутые одна против другой двери.
Вошла мать, раскатала на полу клеенку, внесла фарфоровые чайники с пиалами, конфеты, варенье из дикого инжира.
— Какие еще новости привез? — чуть насмешливо спросил отец.
Самый изобретательный в колхозе механик, он не мог серьезно относиться к тому, кто умеет только крутить баранку; да и Курбан действительно всегда полон новостей.
— Киноэкспедиция в Ущелье, слыхали?
— Собираемся съездить, — сказал отец.
— Дрессировщик играет с медведем, большо-ой медведь. Не боится медведя! Мы с Нази тáк удивлялись!
— Еще звери у него есть?
— Много. Лиса есть, медведь... Нази!
— Эта, с копытцами, — подсказала из другой комнаты жена.
— Чего там с копытами? Как называется?
— Забыл.
Именно копытные больше всего интересовали отца, немало пострелявшего крупной дичины. Не вставая, он приподнялся на подушке, достал с захламленного подоконника страничку, вырванную из журнала, указал на дикого барана с мощными загнутыми рогами. Курбан отрицательно цыкнул углом рта.
— Вот самка, — указал отец.
Курбан цыкнул.
— Какая окраска?
— Вроде такой окраска.
— Рога какие?
Курбан пожал плечами, его сходящиеся ласковые глаза смотрели виновато.
— Ничего не помнишь, — с досадой сказал отец, отбросив страницу.
Он взял папиросу, откинулся на подушке. Пустил дым в потолок. Уже недоволен, сейчас начнет обижать Курбана. Чары схватил страницу, показал на другое животное. Курбан пожал плечами. Чары убеждающе закивал.
— Чего там? — спросил отец, не глядя.
— Косуля у дрессировщика, — неуверенно сказал Курбан.
— Ты откуда знаешь? — Отец с подозрением покосился на Чары.
Чары порозовел. В четверг, сбежав с уроков, ездили смотреть киноэкспедицию. Можно бы, кажется, рассказать дома, но в том и заключалась странность, что он не мог. Хранил свои впечатления, будто сокровенную тайну. Ребята, с которыми ездил, наверняка разболтали, куда и зачем, а он молчал. Это его дело. Касается только его. Пожалуйста, смотреть могут все — они и поедут, и Чары с ними, как только отец починит машину, но рассуждать Чары ни с кем не собирается.
Когда-то, впервые подранив каменную куропатку — кеклика, Чары с неприятным чувством наблюдал, как она, пытаясь догнать стаю, тяжело хлопает крыльями и слепо тянет в другую сторону. Он поделился дома, отец с братьями посмеялись: «Не человек, чего жалеешь». И потом поддразнивали. Мать не смеялась, но и она считала, что мужчина должен быть твердым. Он понял, жалость в охотнике не уважают, и про себя решил убивать с первого выстрела: подранка не мог видеть. Тренировался дома, а на охоте выцеливал тщательно и, если сомневался, опускал ружье. Даже отец, стрелок высшего класса, удивлялся его меткости и при гостях хвалился, что на войне его сын был бы снайпером. Чары не показывал вида, однако гордился похвалой. Да, он был бы снайпером.
У бабушки в сундуке есть узелок, в нем хранится фотография ее мужа, деда Чары, погибшего на войне. Дед снят юношей, еще до женитьбы. Белая, отличного каракуля, пышная папаха на нем, удалой поворот головы; в выражении почти мальчишеского лица Чары угадывал беспечность, молодеческую самоуверенность, сознание своей красоты. Чары вглядывался с одобрительной полуулыбкой, мечтательно щуря ресницы. Он так же хорошо понимал молодого джигита, как если б то был живущий по соседству старший друг.
Продолговатое нежное лицо Чары меняло выражение. На войне, вот бы где он поохотился! Как мстил бы за деда! Снимал бы гитлеровцев бессчетно — фашиста ему не жаль!
...В городе часто останавливается цирк, кто не знает ученых животных? Они боятся и ненавидят человека, слушаться их заставляют голод и страх, ничем другим их не подчинишь — так считали все, и Чары. После цирка обычно отец и брат Аман жалели, что тут не водятся медведи, убили бы медведя, постелили на полу шкуру. И сегодня, открой Чары свою тайну, они повторят: отстрелять бы!
А Чары поразился нежности, доверию, тем необычным отношениям, какие связывали зверя и человека. Молодой дрессировщик, рослый под стать медведю, садился в клетке, и они возились, как двое ребят. Ведь и силачу взрослый зверь мог поломать кости! Умный медведь играл осторожно. И он смешно усаживался к парню на колени — возвышалось эдакое мохнатое диво, сидя, как дитя у матери.
Девушка застенчиво подала дрессировщику две морковки — он что сделал? Помыл морковь, прежде чем дать зверю! Может, химические удобрения применяли. Мальчишка принес молока в кувшине, сказал, мать послала тебе, тебе, не медведю. Дрессировщик вылил в поилку медведю, объяснил: мне вкуснее, когда пьет он.
В клетку к лисе вошел, та заверещала — и суетится, и лезет, не боится, так и льнет. Он ей: «Лиза, Лизанька, умница». А что такое лиса? Аман убил лису, шкуру распял на фанере, вон, в сарае сушит. Медведь, лиса — чего такое? Шкуры для ковра и шапки...
Чары думал и думал, вспоминал дрессировщика — выражение лица, слова, жесты. Такой не может любить охоту. Показать бы дрессировщику в горах диких баранов! Понаблюдали бы вместе, чего хитрые бараны делают. Встретился бы им леопард! Вот стоит близко, на другой стороне тесного ущелья, стоит боком, весь виден. Глядит сюда, наверное, людей учуял. И Чары воображал, как они с дрессировщиком вжались в землю, любуются красавцем зверем. Как рад был бы дрессировщик!
Чары холодел от мысли, что такой уедет, исчезнет из его жизни навсегда.
...— Знаете? — услышал Чары Курбана. — Несчастье случилось.
— Мотоцикл, что ли?
— Мотоцикл внизу стоял. Двое полезли кекликов бить, нечаянно один другого ранил. Сутки прожил только.
— Приезжие, — пренебрежительно произнес отец, — не понимают оружия.
— Не приезжие, — сказал Курбан.
— Туркмены не могли быть.
— Туркмены, горцы, — уже робея, возразил Курбан.
Отец поставил пиалу.
— Откуда они?
— Не спросил. Ораз Дурдыев, милиционер, говорил.
— В городе живешь, чего понимаешь. Горец с детства оружие любит. Мои сыновья... Бешим! — позвал отец, и в комнату влетел и застыл, ожидая приказания, худенький узкоглазый мальчик. — Свое ружье подай!
Когда-то отцу досталась курковка с разорванными стволами. Он обрезал стволы, сам сделал маленькие приклад и цевье, поставил новую мушку — золоченый винтик. С ружьецом начинали охотиться Батыр и Аман, начинал и Чары. Теперь оно принадлежало Бешимке.
Мальчик вбежал с ружьем.
— Детское, видишь? Бешиму девять лет, уже стреляет. Чего ты там понимаешь! Чары дикую курочку отлично стреляет! Не всякий, кто стреляет, охотник, Батыр машинами интересуется. Аман в меня. Чары в меня, такой меткий, сказать нельзя! Охотники будут! Уже охотники! С тобой говорить! — Отец нервно махнул рукой; но тут же продолжал, повысив голос: — Опытный знает, как держать заряженное ружье! На мотоцикле разбился тот! Охота ни при чем, ясно? — крикнул он, и глаза его сверкнули. — Врут! Ораз болтает, знаю его! И ты за ним! Смотри, мои сыновья! Мои сыновья!..
— Успокойся, прошу тебя, может, мотоцикл, успокойся, — растерянно твердил Курбан, а отец уже не мог остановиться, и Чары вгляделся в яростное его лицо.
Кричит от боли, почувствовал Чары. О чем это он?
Опустив голову, слушал Чары отца. Когда погиб самый старший брат Ата, которого Чары помнит скорее по фотографиям, нашептывали, будто, спускаясь с кручи, оперся Ата на ружье. После говорили, брата ударила сорвавшаяся глыба — землетрясения в четыре-пять баллов тут не в счет, трясет частенько. Так Чары и знал: погиб при землетрясении.
Но вот полузабытые мелочи. Отец без охоты жить не мог — после Ата убрали ружья. В горах стукнул выстрел, отдался в ауле — мать не донесла до рта ложку, взялась за горло. Все посмотрели на нее, и Чары посмотрел, запомнил с рукой у горла. И еще, и еще...
Чары поднялся, тихонько вышел.
В те траурные дни дом наполнился знакомыми и незнакомыми. Молились длиннобородые старики, ели кем-то приготовленный плов, кем-то испеченный чурек — мать не вставала. Возле нее находились женщины. Детей разобрали соседи.
Ночью Чары проснулся в чужом доме. Он помнит детский страх, с каким мчался в ту лунную ночь единственной улицей аула.
Мать лежала, закинув локоть на глаза. Прошмыгнул, прилег к ней. Она угадала его, не поглядев, обняла, припала. Он ладошками сжимал растрепанную горячую голову. Его повели, он стал вырываться, хотя уже впитал закон послушания старшим. Стиснул губы и отбивался — в жуткой, со вздохами и бормотаньем, ночной тиши.
Сейчас Чары хотел посмотреть на мать. Решился, вошел — и отвернулся в окошко. Он больше не умеет прилечь, успокоить... Торчать, как дурак, у окна он умеет! И сестры разлеглись, расселись — конечно, они растеряны, но хоть бы одна чего-нибудь придумала!
Он выбежал, больно ударился о машину, занявшую дворик под виноградным сводом, сдержался, чтобы не дать кулаком по крылу, и деревце со сладкими мелкими яблоками, сбереженными для варенья, начал трясти, чуть не надломил ствол. Собрал яблоки в подол рубахи, стукнув коленями о пол, высыпал перед матерью. Встретились взглядом. Она заторопилась, поднялась, мелко ступая босыми ногами по кошме, ушла в пустую комнату, прикрыла дверь. Впервые в жизни Чары сурово приказал старшей сестре глазами: «Иди за ней!»
Отца, когда он снова взялся за охоту, подстерег инспектор, отнял ружье, пригрозил судом: леопардов, диких баранов и коз стрелять запрещалось. Отец решил уходить и возвращаться в темноте. Отправился однажды поздней осенью, в стужу. Убил двух баранов, пока ждал вечера, простыл. Одного барана разделал, тяжелый получился рюкзак; второго волочил за ногу. Слезь-ка в ущелье да вылазь, слезь в другое да вылазь. С последней горы спуститься не смог. Дома ждали. Он стрелял, выстрелы слышали, а с какой стороны, откуда они, понять в горах трудно. Разложил костер, почему-то не обратили внимания. Запрятал мясо в камнях, приковылял.
У него и раньше болели ноги, горы портят ноги, если столько лазить, так тяжело таскать, — теперь взбираться на гору стало мученьем. А когда-то наверх бегом бежал!
С тех пор он возвращался из гаража и молча лежал на тюфяке в своей комнате в углу — изжелта-бледный, поседелый, с большими тоскующими глазами.
Мать оказалась сильнее. Ночами ладонью прижимала разболевшееся сердце, тихонько плакала, и Чары просыпался и засыпал, обхватив рукою ее палец. Днем держалась и своей волей держала семью.
Пока был младшим, Чары ложился вечером возле нее. Тюфяки и одеяла уложены от стены до стены, горит свет, не все собрались, мать задремывала, усталая. По другую сторону лежала сестра, она постарше, а мать привыкла спать на боку, повернувшись к самому маленькому.
Чары перебирал ее набрякшие, потресканные от работы пальцы. Говорили: девушкой она была очень хороша. Но и в это время грузная, с короткой шеей и отяжелевшим лицом, с тонкими косицами — остатками некогда густых кос, — она казалась Чары красавицей. Он видел в ней то, чего больше не замечали другие. Он не сумел бы объяснить, но ему нравился кроткий склад ее маленького рта. Недлинные стрельчатые ресницы, четко обозначенные, когда она спит. Ухо с блестящей сережкой. Щеки, багровые от жара глиняного раскаленного тамдыра, в котором печет чурек, от железной печки с кипящим казаном, — ее скуластые толстые щеки нравились ему выражением доброты.
Родился Бешим. Чары с недоумением наблюдал, как она нежничает с новым ребенком. Он не ревновал — он чувствовал себя осиротевшим. И если мать бывала свободной, спешил устроиться у нее на коленях. Длинноногий, как верблюжонок, он все-таки усаживался, подкидывал бусину, которую она где-то нашла и повесила на шнурок у ворота, трогал старинное украшение с сердоликами, серебряный дагдан. Упрашивал поиграть в шахматы. Мать знала лишь ходы — это не имело значения. Она сидела, вытянув по полу ноги в вышитых — длиннее платья — узких по щиколоткам штанах, и терпеливо смотрела на фигуры. Чары, довольный, возбужденный, поминутно меняя позу, то на одном колене, то на другом, то на обоих коленях, быстро взглядывая на мать, на шахматы, весь был в этом общении, уюте, блаженстве неодиночества...
Годы шли, Чары невольно отрывался от матери. После Бешима появился Алтышка, да и сестренка жалась к маме — пришлось отодвинуться. Чары ложился все ближе к двустворчатым голубым дверям, ведущим в комнату старших братьев. Наконец с великой неохотой перешел туда, в комнату, где пахнет не хлебом, а ружейным маслом и валяются не игрушки, а шомпола и охотничьи ножи. Но и теперь мать нередко заставала на рассвете Чары приткнувшимся у нее в комнате где-нибудь у самой стенки.
...Вышли гостей провожать. Скрывали неловкость, опять улыбки, о новой машине опять. Мама приветлива, посторонние ничего не заметят. Послала ребятишек набрать помидоров. И отец утих. Шаркают на худых ногах остроносые калоши, суконный, на тонком меху халат висит на одном плече и волочится.
В пахнущий резиной и краской багажник уложили тугие увесистые помидоры. Курбан задним ходом осторожно выдвинул со двора машину. За ней шли толпой. Улыбаясь, кивая, приподняв красное с золотым блеском платье, усаживалась рядом с мужем Нази, когда вдруг ниже гор, прямо над домом, поплыл орел.
Он летел так близко, что невольно все запрокинули лица: и Нази, высовываясь из машины, и Курбан, одну ногу выставив на дорогу, придерживая шляпу.
— Ружье! — вскрикнул отец, движением плеча скинув халат.
Мать еще наклонялась поднять халат, а Чары уже мчался к дому. Кеда скосилась на ноге, он сошвырнул ее и другую, оглянулся. Орел, поворачивая, блеснул в синем небе серебром.
Чары побежал по комнатам, на ходу соображая, что взять надо ружье «зауэр», отец с братьями предпочитают тульское, он один любит «зауэр», и, может, тогда стрелять будет он.
Схватил ружье, надломил, затолкал патроны, понесся обратно. Вылетели прочь страшная разгадка, мать с ее муками, вылетели мысли о дрессировщике. Только бы дали стрелять, только бы ему, ничего больше не существует!
— Зачем принес, тулка где! Стреляй сам! Неси другое! — зароптали вполголоса, исступленно. — Стреляй, ну!
Орел продолжал снижаться кругами. Уже видно, как поворачивает голову, разглядывая местность и людей. Он сделал величавый взмах, крылья гибко извернулись и выпрямились, широкие, прямые, темные, с различимыми на концах маховыми крупными перьями.
Чары прижался щекой к прикладу, с хладнокровием, всегда приходившим сквозь пыл и беспамятство охотничьего азарта, повел ружье за орлом.
— Ну! — выдохнули над ухом, и Чары, чуть упреждая медленно скользившую птицу, перестал дышать.
Грохнуло, покатилось. Орел остановился. Поплыл было дальше. И, будто его дернули снизу, оборвался и влетел в каменистую землю.
Крикнули «ура», Чары запрыгал, ликуя, кинулся к своему трофею. По заросшей меже огорода перед ним бежала сестренка, цепляясь длинным платьем за сухие плети помидоров; ее черные гладкие волосы серебрились на солнце.
Орел лежал, примяв туловищем левое крыло. Правое широко, бессильно раскинулось, и на спине, между шоколадно-коричневыми тугими перьями высунулся и трепетал, постепенно намокая кровью, клочок нежнейшего белого пуха.
— Беркут! — крикнул Чары.
Сюда спешили все, и гости. С необычной легкостью, прямо-таки озаренный, шагал отец.
— Не беркут, — сразу определил он, — покрупнее беркут.
Орел был ярко-желторот и что-то наивное, несмотря на загнутый клюв, было в его взъерошенной округлой голове.
— Молодой беркут? — спросил Чары.
— Беркут не вылетает из гнезда, пока совсем не вырастет, — увлеченно, серьезно отвечал отец и потянул, выпрастывая, ногу птицы. — Пальцы, когти видишь? Средний коготь слабее, коротковатый, у беркута этот сильный коготь. Совсем лапа другая.
— Твой отец все знает, — восторженно вставил Курбан.
— Этот, видишь, какой. У нас на пролете очень редко встретишь, может, восточнее гнездится, не знаю. У нас тут не живет. Пролетает иногда. Черт его, по-туркменски, кажется, нет названия... русское забыл.
— Орел все-таки? — спросил Курбан.
— Орел, настоящий орел. Ай, ладно. Пугало на огород сделаем. Молодец, Чары.
Отец поднялся, постоял, глядя на птицу:
— Подохну без охоты...
Снова двинулись провожать. Чары как простую курицу, за ноги понес орла — на вытянутой руке, повыше над землей. Он прикидывал, сколько орел весит. Заметил, что от машины смотрят, крикнул:
— Чемпион мира по поднятию тяжестей!
И засмеялся.
В съемочной киноэкспедиции, обосновавшейся у подножия Копет-Дага, общее внимание привлекал дрессировщик — плечистый парень с копной белокурых кудрей, с тяжелой, вразвалку походкой и хмуроватым взглядом. У него были собственные лиса, косуля, медведь, собственный орел, и, когда съемок не было и смотреть, кажется, становилось не на что, окрестные жители все-таки приходили. Наблюдали, как дрессировщик чистил клетку, беседуя с медведицей, как садился напротив и оба начинали баловаться.
Зрелище интереснее любого фильма, но больше медведя удивлял степной орел. Такого орла не видывали. Чужих он едва замечал и холодно смотрел из клетки поверх, куда-то вдаль своими грозными, в самом деле орлиными очами. Стоило показаться дрессировщику, как орел начинал волноваться. Клекотал, вскрикивал, помогая крыльями, прыгал с одного насеста на другой. Орла выпускали из клетки. Зрители замирали, когда загнутым хищным клювом он легонько перебирал шевелюру хозяина. Для птицы имелась игрушка — тряпичный валик на веревке. Когтистыми лапами хищник вцеплялся в валик, парень тянул веревку, и орел охотно ездил, сутулясь и балансируя крыльями.
Он часто летал. Он парил в небе, хозяин следил, стоя на скале. И когда орел оказывался ниже скалы, человеку явственно до головокружения казалось, будто и он вместе с птицей стремительно скользит над землей...
Иногда орел садился довольно далеко и пешком шествовал к клетке, где для него приготовлен корм. Хозяин ждал и мало тревожился. Он хорошо понимал птицу, прожившую у него долгих пять лет, не сомневался, что та не заблудится, придет.
Но однажды дрессировщик прождал день и ночь, а утром прибежал один из местных парней, искавших орла. Парень слыхал, что в знакомом ауле владелец большого огорода убил какую-то крупную птицу на пугало, воробьев отгонять.
Отправились вдвоем — на попутных, после пешком. В затененном виноградными лозами дворике, на кошме возле аккуратного побеленного дома чаевничала семья. Дрессировщик спросил сурово. Удивились, но ответили искренне, что да, верно. И пугало готово, расправлены крылья — вон за домом, на огороде. А что такое, в чем дело?
Дрессировщик пошел на огород. Тут же вскочил и последовал за ним стройный подросток в расстегнутой до пояса рубахе на смуглой груди. Остановился, наблюдая исподлобья.
Дрессировщик знал каждое перышко у своего орла, знал, наконец, его в лицо, как знают друга. И коротко скользнул взглядом — рассматривать было невыносимо.
Он сознавал, что слова бесполезны. Много раз из-за людей терял он своих животных. Последним был баловник и непоседа Савка, песец. Сбежал зимой в лесу, где для кино содержали зверей, и хотя белого песца нельзя спутать с лисицей, охотники пристрелили его у клетки, возле которой он бродил. Перед Савкой поймали и увезли собаку...
Дрессировщик прошел было мимо хозяев, но его приятель презрительно оглянул их, минуя отца и Батыра, старших мужчин, и сказал, обращаясь к Аману:
— Мертвого орла воробьи не боятся, это ясно?
Дрессировщик задержался. С болью, еще не испытанной, смотрел Чары ему в спину — на богатырские опущенные плечи, повисшие руки с засученными рукавами ковбойки, на склоненную голову.
— Хищных птиц стрелять запрещено! — с горячностью восклицал его помощник. — Ответите! Оштрафуют, погодите!
— Зачем пугаешь, — прервал его Батыр, — нам страшно! Дети дрожат, не видишь?
Кто-то прыснул.
— Хватит, Гельды, — нехотя произнес дрессировщик и обернулся обрамленным золотистыми кудрями и бородкой молодым, румяным лицом, так не вязавшимся с выражением душевной усталости. — Хватит. Им лишь бы стрелять в кого попало. Ручного орла... Герои!
И двинулся прочь.
— В кинофильмах снимался орел! Весь Советский Союз его знает! — добавлял напоследок Гельды.
Мать глазами показала отцу на Чары.
— Эй! — крикнул отец. — Вернитесь! Поговорим!
Но двое уходили.
— Чары, догони, — сказала мать, — передай, отец приглашает. Передай... — говорила мать, но Чары уже сорвался с места.
Настиг их и остановился, не зная, как поступить. Двинулся за ними. Зашел сбоку, тронул дрессировщика за рукав:
— Слушай... Извини меня...
Тот покосился невесело. Чары собирался сказать «отец тебя приглашает», и вдруг, с подступившими слезами, чуть не сказал: «Извини меня, это я...»
Однако такое он произнести не мог. Уткнув подбородок в грудь, смотрел, как удаляется этот человек, — не пожелав выслушать, не заметив, что на свете существует Чары.
От домов окликнули, жестами спросили, кто эти люди. Чары не ответил. Он плелся, с наигранной небрежностью расшвыривая носками кедов камни, не замечая, как цепляется за рубаху ежевика на обочине шоссе.
Аул кончился. Чары прибавил шагу... Куда он торопится? Зачем он им? Разве поймут, а он сумеет объяснить? И тут он увидел мать. Она почти бежала, а бежать ей, с ее больным сердцем, не под силу. Он остановился. Запыхавшись, подошла, и он вздернул подбородок, безмолвно спрашивая: «Тебе чего?»
— Не станут они с тобой водиться, сынок.
Он заметил на шнурке платья ту самую красную бусину, которой играл в детстве, и глубоко вздохнул, освобождаясь от тяжести в груди.
Мать шла рядом. Внезапно она произнесла:
— Ты же не знал, что его орел.
Точно укололи, Чары отдернул руку, за которую мать взялась, зашагал, не оглядываясь.
Теперь он был совсем одинок. Ему нужен единственный человек, вон тот... Он помогал бы ему. Нанялся бы работать! Уехал бы куда скажет!
Чары потерянно отставал. Вот метнулся через шоссе, круто, не разбирая троп, полез в гору и за гребнем, где не могли увидеть прохожие, упал, в отчаянии обхватив руками голову.
* * *
Медленно поднимается мать горной дорогой. Локти заложены за батожок, прижатый к широкой спине, свисают бахромчатые концы черного с линялыми розами платка. Толкаясь, виляя грузными курдюками, перед нею торопятся бараны.
Остановилась, что-то разглядывает. Маленький Чары бежит к ней. «Как думаешь, кто так сделал?» Посошком она перевертывает шкуру ежа, иссохшую, с белесыми иглами пустую скорлупу. «Кто, мама?» — «Часто филин так делает. Лиса еще». — «Зачем?» — «Ай, сынок. Убивают, чтобы кушать».
Опять стоит. Муравьи. Мать крошит хлеб: «Они, бедные, столько работают». Чары каждый день видит муравьев, как бегут они дорожкой, он не пропускает случая пройтись по живой дорожке подошвами... Мать их кормит. Чары оглядывается. Мама!
Она бредет за баранами. Все выше горы. Появляются каменные осыпи. Зеленоватые и серые, они, ширясь, стекают к подножию. Мать поджидает Чары. «Не выдашь меня, сынок? Над твоей матерью люди посмеются, скажут, с ума сошла старая». — «Ты не старая!» — «Не выдашь?»
Она поднимает ржавый железный лист с загнутым краем, чуть не ползком начинает взбираться сбоку осыпи. Она кажется маленькой там, наверху. Чары в недоумении ждет.
Солидная женщина, мать семерых детей, подбирает широкий подол, садится на железо и шумно, увлекая за собой мелкий щебень, катится будто на санках. Оба хохочут, Чары визжит от восторга, а бараны подняли головы и смотрят. «Ну еще, мам. Мам, давай я!» — «Ты не сумеешь. Будет, пора за работу. Айлен!» — кричит она, заворачивая отару, а Чары соображает: запрятала лист под скалу, значит, не первый раз катается.
Чары смешно, ему счастливо, и он запомнил: тихо, светло, такое светлое было над ним небо!..
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать: