ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
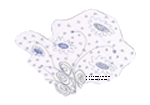

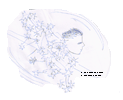
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Аргунова Нора 1988
1
Зимой в доме отдыха я схватила воспаление легких, но считала, что мне повезло. Не валяюсь на этот раз дома одна и навещают не друзья с далеких концов Москвы, озабоченные работой и семьей, а те, кто прибежал на лыжах, надышавшись морозом; глядя на них, хотелось думать, что и я — стоит только отвязаться от температуры — надену лыжи и через рощу, вдоль железной дороги, в лес, по целине...
Лежала я на втором этаже, а на первом от сквозняка поскрипывала дверь черного хода, ведущего во двор. Скрип внизу переносил на пустынный берег моря. Там я нанималась наблюдателем в экспедицию по изучению диких дельфинов.
Редкий день они не приплывали в бухту. Сидишь в утлом НП возле подзорной трубы и ждешь их. Домик поставлен на высоком берегу, обе передние стеклянные стены сходятся, как нос корабля. Впереди море. Задняя стена, обращенная на запад, сложена из толстых узорчатых стеклянных плиток. Они багрово светились и накалялись, когда солнце шло к закату. Становилось душно. Я открывала железную входную дверцу, приваливала к ней камень. Дверь стукалась о камень, скрипела и билась на знойном ветру, не стихавшем в тех местах. Глубоко внизу лежало море, от зыби плывущее вбок, голова кружилась от необычного течения. Из-под обрыва выносило быструю широкую тень; стелясь по воде, она летела к горизонту, растворялась там, следом за нею скользила другая, и думалось, что это зримо, по секундам, убегает время.
Тогда в доме отдыха болели, как обычно, руки, и начинало сильно ломить колено, но я надеялась, дело мое не так уж плохо. Определилось позже, на последнем врачебном осмотре. Новый профессор-консультант — он как раз листал пухлую тетрадь, историю моей болезни, — увидел меня в дверях и, не задумываясь над тем, что произносит приговор, воскликнул:
— Как! Вы еще не на костылях?
Вот что ждет меня, когда решусь на операцию. Только я не могу ходить на костылях. Это стало понятно еще раньше, при пустячном переломе косточки стопы. У меня захвачены все суставы — и плечи. День на костылях — и резкая боль в одном плече, в другом. Начинается, ко всему, воспаление плечевых суставов. Как буду передвигаться? И без того я достаточно беспомощна из-за рук, болей в запястьях, но ведь на ногах! Хожу! А теперь, когда с коленом, теперь что же, неподвижность? Беспомощность — полная? В одиночестве?
Когда я справлялась с ужасом и думалось поспокойнее, я говорила себе: жаль. Многого жаль. Что не закончу, не встречусь, не съезжу. Не увижу новорожденного в знакомой туркменской семье, не узнаю, добьется ли наша библиотека нового здания, не прочитаю новых стихов Чухонцева. Жаль внутренних смутных движений, что вдруг прихлынут, потянут, и тоскуется небольно, и мечтается — бог знает, и не припомнишь о чем... Жаль не жить!
Многое надо успеть, и хорошо бы, как перед дальней дорогой, составить список необходимых дел, но для жуткого списка не поднимается рука. Пора решить, кто будет разбирать горы писем и фотографий, сжечь которые сама я не могу, кто возьмет книги, вещи и то, что так радует мой взгляд, — все эти раковины, окаменелости, морские звезды. Кто еще так любит эти подлинные дары природы, кому оставить их?
Впервые понимаю, что одинокому не только существовать трудно, но и уходить. В фильме об альпинистах, где играет Высоцкий, я позавидовала старику-абхазцу, который показывает у себя во дворе родные могилы. Тут все свои, и он сюда ляжет. Он знает, кто его погребет, кто оплачет, под каким деревом он будет покоиться, оберегаемый той же стеной, возле которой когда-то родился. И нет боязни, что окажешься один в свои последние минуты.
Близкие друзья основное про меня знали, а соображения свои я держала при себе. Все труднее было встречаться, говорить о постороннем, делать вид. Если же вечерами пыталась читать, писать письма, слушать телевизор, то все-таки думалось. Притом вставали знакомые лица (кажется, несколько жизней вместилось в одну, столько лиц, столько событий, полным-полна память); вспоминались разные истории, иногда неприятные, и я пыталась оценить, судила чаще всего себя и удивлялась, как я могла, как не догадалась, не хватило доброго чувства. Да еще вечером однажды, возвращаясь домой, я заметила, как что-то бьется в углу дома, и разглядела голубя, который не мог взлететь. Я поймала его и дома увидела, что у него аккуратно обрезаны перья хвоста и крыльев. Так ровно и сильно нажимать на ножницы могли только крепкий подросток или взрослый. То есть кто-то посмел словить, искалечить и выбросить на мороз.
Утром, насыпав голубю корма, я отправилась в магазин. Мне ясно представлялось, как, скорее всего вдвоем, кромсали птицу: один держал, другой орудовал ножницами; как вынесли, кинули и еще полюбовались немного — долго не простоишь, холод. Вот еще что: невозможно, чтобы делали такое при матери или, допустим, на глазах у соседей. Скверное дело чаще всего прячется. А группка могла быть, эдакая гадкая, с наклонностями садистов. Они люди, и я человек — и противны мне были в то утро и я сама, и встречные.
Улица, по которой я шла, называется Строительная. Там есть лестница, ведущая наверх, на другую улицу. Я бы не решилась воспользоваться ею, так после дневных капелей и ночных крепких еще морозов обледенели ступени, однако какая-то бабенка с пухловатым лицом, в платке и с кошелкой спускалась по лестнице. Конечно, она покатилась. Больно было смотреть, как она стукалась. Я помогла встать, отряхнула. А она ничего, смущенно улыбнулась и пошла.
Я двинулась дальше. Негодуй, суди — никуда не денешься. Особенно не денешься, если вступает боль. Я согласна с теми, кто считает, что если человек мучается, то все равно, кто лежит перед тобой, — личность, так сказать, нужная человечеству, нужная лишь какой-то семье или не нужная как будто никому, — конечно, не надо эту мысль доводить до абсурда. Попробуй уйди от людей. Уверяй себя, что, если нет родных, нет кровной любви, то можно жить спокойно. Ничего подобного. Есть близкие. Понятие «друзья» почему-то сравнялось с «приятелями». Не друзьями-приятелями считаю я немногих близких, а каждого, глубоко — другом, своим, родным, и дела их меня очень и очень волнуют. Да боже мой, от чужих не отгорожусь, прохожие не безразличны!
Однако по-прежнему своих я избегала, чем дальше, тем было тяжелее, и к началу лета, когда произошел памятный случай, я далеко забрела...
Довелось мне когда-то несколько раз побывать в Туркмении. Останавливалась в горном ауле, в семье, где много детей. Теперь дети подросли, они, словно из родной деревни, сообщают новости, приглашают на свадьбы, советуются, как назвать новорожденного. Четверо уже побывали у меня. И вот летом, когда я «далеко забрела», неожиданно позвонила старшая из дочерей: «Надя, это я. Утром прилетела, целый день хожу по делам, тáк устала. Примешь меня?»
Ее смуглое лицо, платки, длинное яркое платье опалили, дохнуло знойными теми днями, шумом арыка под окном, смехом детей и — сейчас казалось — беспечальным существованием. После того как Айна приняла душ, напилась чаю, немного отдышалась, она сказала, что в картонной коробке привезла розы. Было поздно заниматься букетами, и охапку, завернутую во влажное полотенце, положили в ванну, чтобы не натекло на пол. Приоткрыли цветы, и ванная комната заблагоухала, словно сад.
Айна ушла спать. Я еще мылась над раковиной, когда на полотенце выползла помятая пчела. Она выглядела неказистой, но я узнала в ней настоящую медоносную пчелу. Что было делать с ней? Медленно переползла пчела на подставленный лист розы, я вынесла ее в кухню и в открытое окно пустила лист в темноту. Легла, погасила свет, но вскоре встала, чтобы посмотреть, кто еще приехал из Туркмении. И когда направлялась в ванную, то жгло пробудившейся жизнью, ее новизной (опять новизной!), светом, каким-то образом нашедшим щель, чтобы сюда проникнуть.
Из-за края полотенца выдвинулся и тут же спрятался небольшой паук. Он выскочил весь, такой матово-черный, будто нарисован углем. Осторожно обвела я вокруг него пальцем, что-то невидимое зацепила, потянула, и паучок повис. Он стал торопливо спускаться, а я, перехватывая руками, шла в кухню. Он продолжал спускаться уже над улицей. Пауки ведь одиночки, да этот такой бодрый, возможно, сумеет прижиться в наших стенах и кустарниках. Но пчела, потерявшая свой улей, пропала. Куда понесет она взяток, кому он теперь нужен?
Несколько раз я отправляла кого-то за окно. А снаружи была благодать, пахли только что политые улицы, и черная ночная листва возле фонарей свежо зеленела. Только раз, когда промчался поздний трамвай, все-таки мелькнуло, что раньше спереди на трамвае была решетка, при угрозе наезда она опускалась, теперь же решеток нет...
Сама природа вошла в мой дом. А природа для меня много значит. В школе никто не сомневался, и я сама определенно знала, что пойду на биофак. Это было призвание. Но, два года проработав лаборантом на кафедре физиологии животных, поняла, что биологом не стану. Опыты над животными я делать не смогу.
А дома, с дошкольных времен и до недавних, держала животных, больше диких. Как они попадали ко мне? Кто-нибудь выловит в степи сурка, а ухаживать за ним нелегко. Или убьют медведицу в берлоге, а возле нее сосунок (да, и медвежонок у меня был, потом переехал в Уголок Дурова). Или зимой в деревне в избу заболевший хорь явился, к теплу, и его передали мне. Обезьянку на две недели попросили взять. Мангусту — хоть до весны, пока соберутся на дачу (я ее в поликлинику за пазухой носила, там ее кварцем грели: она из Индии, ей у нас солнца не хватает). И никто из них никогда не был в тягость, а радости они давали много.
Уехала моя гостья, снова потянулось мрачное время, но с тех пор, с ее появления, я поняла, что невозможно подавить в себе душевную полноту, если она не иссякла сама. То я скучала по библиотеке, известной крупной библиотеке, в которой проработала столько лет. То вообще к людям тянуло, и не к своим, а к тем, которые ничего про меня не знают, — очутиться бы в незнакомом месте среди незнакомых людей! То я решала пока взять животное, не так тягостно будет по утрам просыпаться и некогда по утрам все о том же и о том же, потому что скорее выпускай из клетки, приголубь, накорми...
2
Одна история, из тех, что мне милы, все это тяжелое время не выходила из головы. История вот какая.
В семье моей подруги Нины было пять человек, старшая — бабушка. В июньскую жару сидели они как-то всей семьей в самой прохладной комнате. Бабушка вышла на кухню, и сразу там раздался грохот. Испугались, что она упала, и Нинина дочь, Саша, бросилась туда. Тут же она вернулась, показывая разбитую тарелку, сказала шепотом: «Идите скорее, только тихонечко».
На подоконнике сидела ворона. Нине — а Нина очень маленького роста — ворона показалась огромной и с раскрытым красным ртом даже опасной. Тарелкой было накрыто жаркое, в другой сковороде остывали семечки, ворона клевала то мясо, то семечки.
Смотрели, затаив дыхание, боясь вспугнуть. Ветер колыхнул занавеску, ворона схватила за край, помотала, тогда сообразили, что она балуется и что не боится. Однако любоваться было некогда, у того стирка, у другого взятая на дом работа — и аккуратно прикрыли окно, вытеснив птицу на карниз.
В пятом часу утра Нина проснулась от стука. На окно опущена циновка, за нею ходит ворона и играет большим гвоздем: поднимет и бросит, поднимет — бросит и при этом поглядывает в щелку. Нина кинула спичечную коробку, гостья перелетела на окно, за которым спали молодые. Там она зашуршала пачкой сигарет, Кирилл швырнул в нее свернутой майкой. Она поймала майку, стала трепать.
Вскоре ворона явилась со своим добром — с куском бутылочного стекла, спрятала его под раму открытого кухонного окна и прикрыла обрывком газеты. Кирилл положил карамельку, ворона ее развернула, затолкала туда же, под раму. Павел налил в чашку воды — птица наблюдала, поставил воду — та начала жадно пить. Достала конфету, поклевала, запила. Дали сыру — пополоскала в чашке, поела, опустила обратно в воду.
В квартире четыре комнаты, одна, проходная, служит столовой. Саша шла через столовую к себе, навстречу ей вылетела ворона с катушкой в клюве. А нитки с иголками находятся у бабушки. Значит, в бабушкиной комнате она взяла катушку, побывала зачем-то у ребят, оттуда несла драгоценность, вероятно, в свою кладовую на кухне. Наткнувшись на Сашу, птица выронила катушку и махнула на улицу, ловко извернувшись в зарослях домашней оранжереи у окна.
Если в первый раз птица напугала, то теперь ее ждали, посещениями дорожили, рассказывали о ней, а возвращаясь с работы, спрашивали:
— Ворона прилетала?
И каждый раз, когда она прилетала, звонили мне, вели, так сказать, репортаж с места событий, звали приехать.
Видывали ее и на других балконах и карнизах. Потом начались отпуска. А осенью ворона не объявилась.
Была некоторая надежда, что нашлись люди, которые оставили ее у себя на зиму. Если так, прикидывала я, вероятнее всего, от вороны устали и хорошо бы найти ее, взять к себе. Но ехать, искать, потом за нею ухаживать я была не в состоянии.
И все же воскресным декабрьским днем заставила себя собраться. Позвонила Нине, она обрадовалась; давно не виделись. Семья сегодня дома, меня будут ждать. Я предупредила, что припозднюсь, сначала обойду ближние дома, и объяснила для чего.
Захватила на всякий случай записную книжку. Скорее я не найду ворону, но хоть разузнаю о ней, расскажу потом. В метро вдруг представилось, как везу ее к себе, обернув какой-нибудь тряпицей, как устраиваю, как утром встаю с нетерпением, спешу к ней, — и сердце мое дрогнуло.
Не заходя к Нине, заглянула к ее соседке, этажом ниже. В лицо мы помнили друг друга. Она охотно показала в окно, на каких балконах и карнизах замечала ворону и как там пройти в квартиры.
Я спустилась в обширный двор. Та сторона, где за дома заходит солнце, уже погасла. Сквозь легкую путаницу прутьев и веток темнеют здания. Кое-где в окнах зажжены люстры. Из-за ровной черной линии крыш сверкает и слепит белое неживое солнце.
На этой стороне еще день. Блестят, отразив закат, окна, стены тепло желтеют, над ними синее дышащее небо. Медлю на солнышке. Рядом мерзлая, с комками бурых гроздьев рябина, на ней нахохлилась пара скворцов. Вот один пригладил перья, вытянулся в струнку, тонким клювом доставая ягоду, — прямо древняя китайская миниатюра. Смотрю, задрав голову: солнце, небо, птица... Стою. Покой. Не хочется уходить. Но огибаю заснеженное поле газона, вхожу в сумерки.
В этом подъезде надо сначала на третий этаж, потом на восьмой. Еду на лифте. Звоню. Та, что открывает дверь, страшно худа, она в халате, с головой укутана в шарфы и шали, лоб, словно бинтом, стянут сложенной белой косынкой. Запавшие глаза, сухой бескровный рот. Жалею, что потревожила, но делать нечего, начинаю объяснять. Слушает непонимающе и с напряжением. Внезапно за нею возникает здоровяк в майке-безрукавке, грубо отталкивает ее плечом:
— Видали мы таких! Птиц она изучает! Квартиру небось изучаешь!
Чуть не ударив меня по лицу, он хлопает дверью. Постояв, вхожу в лифт. Лифт поднимается медленно. Первый опыт так ошеломителен, что, не успев опомниться, звоню на восьмом, на всякий случай отступив от двери.
Дверь распахивается сразу и с треском. Женщина скуласта, бледна, большие глаза сияют, чему-то радуются.
— Заходите! Заходите к нам! Нет, нет, нет! Если вы и по ошибке, вы — подарок! Ни в коем случае! Мы семейно, и мы загадали, если кто явится, даже поспорили! Тот мне в подарок! Ничего не поделаешь, придется вам войти!
За ее спиной толпятся, кивают, улыбаются, полноватый невысокий блондин, вероятно муж, настаивает:
— Милости просим! Иного выхода у вас нет! Полукруглая дата! День рождения. Прошу!
— Полудата! Полудата! — смеются молодые люди, их двое, один очень хорош собою, приветливы, оживлены оба, и я вхожу. С меня снимают пальто, смотрю на свои сапоги — машут руками, расстегиваю брошку на платке, уже вступая в комнату, садясь за стол; бегут за тарелками, рюмками.
Напротив сидит третий юноша, сначала подумала, тот, красивый, что улыбался в дверях, но тот ставит передо мною тарелки, фужер, кладет салфетку. Разница между ними огромная. Первый — его называют Сержик — светлолиц, над белым челом каштановые волны, губы и подбородок мягких линий; общее впечатление чистоты и прямодушной отваги. У сидящего напротив те же черты, но лицо одутловато, рот открыт в неподвижной улыбке, смотрит водянистыми глазами снизу вверх. Неужели близнецы? Этот второй, странный, что-то спрашивает невнятно, я не могу разобрать, мать кричит весело: «Колюня, замолчи!» — но я уже поняла, он спросил: «Вы знаете латынь?!»
— Нет, не знаю, — отвечаю я.
Придвигают блюда, наливают шампанского, а тот снова задает вопрос, и я с напряжением разбираю: «Как же вы читаете книги?» Мать, смеясь, зажимает ему рот ладонью, он тоже смеется. Мать отодвигает свой бокальчик:
— Нет, нет, нет! Мне только водки!
Все слегка пьяны. Тянутся через стол, чокаемся.
— До конца, до конца! — кричат мне.
Оживленный говор, Сержик объявляет со смехом:
— А маму завтра с работы уволят!
И дети влюбленно смотрят на мать.
— Явное преувеличение, — пытается вставить отец, но его не слушают, объясняют наперебой:
— Приказали выписать трех больных... Мама врач... У нее жуткий завотделением... Он велел... А она... она...
— А я оставила их до понедельника, на целых три дня! — восклицает женщина. — Пускай отдохнут. Иногородние, им далеко ехать. Я в больного вкладываюсь вся! Не переношу только их родственников — ходят, выспрашивают, сидят часами — терпеть не могу! Занимались бы делом! Должна же у людей быть какая-то интуиция, понимают же они, какой врач перед ними!
Я молча слушаю. Она продолжает:
— Наш зав — сухарь! Сухарь, значит, не врач. А я...
Она замолчала, что-то припоминая:
— Дурочка я! Смешная! — И ласково покачивает головой.
Муж поднимает одну бровь:
— И другие так поступают, Ольга. Ничего особенного. Кроме того, относительно родственников...
Сержик заступается:
— Ну, папа! Вечно ты...
— Ну, па! — передразнивает третий сын, Костя; он совсем не похож на братьев — смуглый, остролицый, скулы подпирают узкие глаза.
Сержик показывает ему кулак. Костя удовлетворенно хохочет.
— Папа у нас строгий, — говорит жена, — но вы не думайте, он добрый.
Муж морщится.
— Предлагаю за доклад! — кричит она; опять оживление. Колюне наливают сливовый сок, и, сутулясь, держа руки под столом, он сразу припадает к фужеру. Остальные поднимают рюмки.
— Какой доклад? — спрашиваю я.
— Пейте, пейте, не ошибетесь. За мой доклад, — она опрокидывает бокальчик, теперь уже сухого, — Олечка храбрая, я храбрый заяц! Такие ясные сопоставления! Завотделением... Главное же — вразрез с положениями профессора...
— Это не есть вразрез, — возражает муж.
— Как! Я предлагаю новую методику...
— Папа, ты не вник, — весело и чуть раздраженно говорит остролицый Костя, — там все, так сказать, в подтексте, ты не разобрался, а уж они разберутся. Мама действительно смелая, и вполне могут быть последствия. Конечно, подведут другую базу...
— Не беспокойся, — говорит отец, — мама не глупа.
— Открытие! Я не глупа! Двенадцать печатных работ, вдумчивый врач с индивидуальным подходом, работаю жутко много...
— Работаешь ты действительно много.
— Наконец-то! Я же говорю, он у нас добрый! Моя семья! — с неожиданными слезами восклицает она. — Дорогие мои сыны, моя поддержка и надежда! — Она целует в макушку Колюню.
Костя дирижирует, надувая губы, изображает марш. Сержик ласково грозит матери пальцем, Колюня взмахивает пустым фужером, который тут же у него отнимают. Отец говорит:
— Приношу извинения, при гостье мы разрешаем себе...
— У вас праздник, — говорю я.
— С ума посходили! Мы жутко напились! И я хороша! Вы ведь ошиблись дверью, вас кто-то ждет...
— Да, мне пора. — И я объявляю неожиданно для себя: — Я обхожу жильцов.
Тут же спохватываюсь: «Не надо бы...»
— У вас общественное поручение? — спрашивает жена.
— Что-нибудь случилось? — участливо спрашивает муж.
— Нет, ничего.
— Тогда расскажите! Я любопытна, как Ева! Если, конечно, не тайна. Не тайна? Тогда нет, нет, нет, мы вас так не выпустим! Ваш рассказ будет мне подарком. Только, пожалуйста, если не грустный.
— Стыдись! — бросает отец.
— Ну, папа! День рождения... — конфузливо напоминает Сержик и оглядывается на Костю; тот внимательно смотрит на мать.
Ждут. Не надо бы, но уже проговорилась. Излагаю в двух словах.
— Занятно, — отзывается отец, — так ворона раньше жила у вас?
— Нет же, па. Ты не вник.
— Это ваше хобби? — спрашивает мать.
— Никакое не хобби, — опять вмешивается Костя.
— Тогда что же? Я не понимаю, — говорит мать.
— Правда, я тоже, — подхватывает Сержик.
— Это шутка, тут что-то не так, — недоверчиво всматривается отец.
— Все равно как назвать, — говорю я, — вы ее не видели? Не знаете, где она?
Женщина говорит:
— Я ее отгоняла, щеткой сталкивала с перил. Птицы опасны, они распространяют орнитоз, недаром уничтожают этих противных жирных голубей. В городе птицы пачкают и разносят микробы, в дачной местности портят вишни и сливы. Дятлы долбят и портят деревья...
— Мама! — изумленно перебивает Костя. — Ты ничего не знаешь!
— Я знаю больше тебя, Костик. Я в курсе, я читаю, смотрю «В мире животных». Но ведь это пропаганда альтруизма, а птицы и всякие собаки ни при чем. Они только повод. Вы не согласны? — спрашивает она меня.
Закалываю платок, улыбаюсь, помня о дне рождения.
— Потому что вы не врач. А я врач и брезглива. Чтобы не подхватить какую-нибудь гадость, надо быть брезгливым.
Колюня что-то произносит, и я разбираю: «А у нас мышь утонула».
— Он правду сказал, — подтверждает Сержик, — мы с мамой застали мыщь в ванной, как она залезла туда, непонятно.
— Сержик!
Он смотрит на мать с недоумением и договаривает:
— Мама пустила воду, мышь плавала, плавала...
Женщина смеется лукаво и чуть смущенно:
— Дурачок, разве можно! Любительнице животных!
— Впервые слышу, — вдруг покраснев, говорит Костя.
— Потом мама взяла ее бумажкой...
— Что же вы? Любовались, как она захлебывается?
— Костя. Держи себя в рамках, — предостерегает отец.
— Да лучше б вы ее сразу убили! — говорит Костя.
— Увы, мой дорогой. Я умею всего лишь лечить.
Тут я встаю. Колюня остается сидеть, глядит снизу вверх со своей неподвижной улыбкой. Провожают толпой.
— Все-таки мне непонятно, — женщина пожимает плечами, — я уважаю чужие интересы, но как может взрослый человек всерьез заниматься братьями нашими меньшими, когда столько болезней и конфликтов у людей... Вы производите впечатление интеллигентного человека...
При этом она сердечно улыбается, улыбается Сержик, церемонно прощается отец. Коротко кивает и тут же уходит в дальнюю комнату Костя.
Спускаюсь на один марш. Темновато. Записываю несколько слов о вороне, чтобы не забыть. Вхожу в лифт. Мелькают тусклые лампы на этажах, лампы, лампы... «Вы знаете латынь?..» И крик: «Мои сыны! Моя надежда!»
Под фонарем на тротуаре я достаю записную книжку, с неприятным чувством прочитываю о птице и о щетке, вырвав лист, комкаю его и отбрасываю.
3
Молодой человек выносит на руках большую собаку. Человек постарше, может быть отец, придерживает дверь. Тот, что несет, перехватывает мой взгляд и говорит с улыбкой:
— Ручная собака.
Это звучит, как «ручная кладь». Он аккуратно опускает собаку возле газона. Собака, черная лайка, так и стоит, как ее поставили — лапы раздвинуты, худая спина горбится. Собаке много лет, но порода еще видна в ней: высокие ноги, низко опущенная грудь, сильная шея. И седая голова с широким лбом, по-волчьи поставленными глазами хороша, хотя уши расслаблены и расходятся на стороны.
Старший из мужчин приглаживает ее редкую на хребте шерсть.
— Сколько же ей лет? — спрашиваю.
Старший отвечает:
— Все вышли, какие ей положены.
Молодой говорит:
— Отец считает, пускай дальше мучается.
— Опять двадцать пять. Сказано тебе! — старший нагибается к собаке. — Ну-ка, ну-ка, —произносит он, положив ладони ей на бока и легонько подвигая вперед.
Собака делает неуверенные шаги, опускает голову и, достав носом снег, вздрагивает.
— Не видит и не слышит, — продолжает сын, — неужели тебе не жалко?
— Не гляди, ступай домой, — отзывается отец и собаке: — Ну-ка! Маленько-то пройдись.
Сын машет рукой, отходит, останавливается возле меня на тротуаре.
— Зачем животина мучается? — говорит он. — Усыпляют теперь безболезненно, укол — и конец. Я при ней рос, полжизни при ней. Не могу, и все.
— А ты моги. Жаль да жаль. Не ее жалеешь, а себя.
— Привет. Себя-то почему?
— А чтоб на душе спокойнее. На старость да на болезни глядеть неприятно, кто говорит. Однако ж приходится. Я-то вот еще крепкий, работаю, а тоже оно... Так будешь глядеть, куда денешься.
— Человек или собака...
— Человек —это человек, а собака — собака. Каждый имеет право свой век дожить. Может, и меня надо бы, когда мне живот разворотило под Сталинградом...
— Брось, отец.
— Ты-то вот брось. Мне, что ли, глядеть сладко? Однако жизнь, — слышу, с волнением запоминаю я, — какая ни на есть, а жизнь.
Сын достает сигареты.
— Дай-ка и мне, — говорит отец.
Принимает сигарету, прикуривает, затягивается. То ли я огляделась, то ли так что-то уловил, он спрашивает:
— Ищете кого, гражданочка? Вроде у нас не живете.
— Я не тут живу. Скажите (не о том бы с ним!) скажите... вы на каком фронте были?
— На разных побывал. В артиллерии и в танковых, на танке, на башне, — знаете?
— Танковая пушка?
— Вот-вот. Откуда знаете, что воевал?
— Сами сказали, ранение.
— А-а. Ну, ну.
Он говорит посмеиваясь:
— Нашего брата за версту видать. Летом поехал друга навестить в Кунцево, улица генерала Ватутина. В ворота вхожу, а там гром... На скамейке баянист, пьяный в дым, сам худой, встрепанный, рожа красная. Играет фронтовую: «Эх, только дожить бы до свадьбы-женитьбы...» Играет горько так, голову отворотил, закинул, шея жилистая... Елки зеленые! Я аж шаг попридержал. И как раз сбегает с лестницы малый: «Нехорошо, отец, цельный дом беспокоишь. Пойдем». Свернул горемыка баян, покорно так отвечает: «Что ж, коли не правится. Нравился когда-то...»
Я слушаю, и сердце у меня ноет. Я ему чужая, а он мне свой. И тот баянист — свой. Меня за версту не отличить, человек не подозревает, что нас что-нибудь связывает. Пусть не ко всякому душа лежит, не с каждым складывается, а все равно: нет у меня теплого семейного «мы», которое каждый раз отмечаю в разговоре у других, но есть оно фронтовое.
Однажды 9 мая собрались у друзей. Стали произносить тосты, и незнакомый дядя не поверил, что я была на войне. Спросил:
— Какое у вас звание было?
— Сержант.
— А где вы были?
— Смоленщина, например.
— Так там чуть не сразу немцы захватили, — допытывался он.
Я объяснила:
— Мы когда туда дотянулись, уже ни деревень, ни даже труб не оставалось, чаще одни ягодники на месте деревни. Кругом болота, воду брали из воронок, а она беловатая и пахнет трупами. Так мы искали черную смородину, листья в котелок клали, когда чай кипятили. Запах отбить.
Вот в этом разговоре я впервые для себя отметила это «мы».
Еще раньше ездила за справками в Подольск, чтобы получить удостоверение участника войны. В приемной военного архива в очереди я сразу ожила, настолько понятные, близкие толпились вокруг. И следов времени на их лицах не заметила. Может, тогда и заметила, а как вышла — забыла. Да еще в углу сидел приезжий, он подвыпил, его шапка с задранными и распущенными ушами, с болтавшимися тесемками торчала кое-как, одна тесемка надо лбом. Доносился полуукраинский говорок, его покрывал общий хохот. Картина была настолько знакомая, что растревожила.
Опять припомнилось, и пусть не ко времени, расскажу. Сорок третий. Ночью в землянке дежурю у полевого телефона, трубка прихвачена ремешком, прижата к уху, чтобы не уставала рука. Голоса в трубке, стрельба, разрывы. Вдруг приглушенно:
— Товарищ тридцатый! Товарищ тридцатый! Дальше ползти нельзя, сплошной огонь!
— Ползите, ползите, товарищ, вас не забудет родина.
Не помню, кто тот солдат, но помню, какой там был огонь и какая была — любой ценой — необходимость ползти вперед.
Я рассказала, чтобы не утратить, донести из далеких годов... А молодой человек произносит вполголоса:
— Пора кончать про войну. Хватит, наговорились.
— Как вы сказали? — переспрашиваю, пораженная.
Он предостерегающе поднимает ладонь, подмигивает на отца и улыбается:
— Вообще-то я, конечно, горжусь...
Улыбка его неожиданна, в ней лукавство и добродушие, так и хочется в этот момент сказать о нем «славный». Да еще он опустился на корточки возле собаки, поочередно греет ее лапы под одобрительным взглядом отца и говорит:
— Не обижайся, отец. Война давно была.
Отец произносит с болью:
— Лешка... Для тебя и слов у меня больше нету. Я ведь соображаю, о чем ты опять.
— Ну, дальше.
— Дальше дома объяснение иметь будем.
Сын хохочет, да так искренне и заразительно, — видно, объяснения бывали, — что отец невольно смягчается:
— Ничем не проймешь! Поди-ка ухвати его.
И заметно, что любит и строго судить не в состоянии. Они скоро уйдут. Боясь показаться чудачкой, я все-таки спрашиваю:
— Скажите, тут летом... вы не видели?..
— Как не видать! — сразу отзывается отец. — Ваша была?
— Хотелось бы, чтоб моя. Не слышали, где она?
— Ну, была фокусница! Вам для ребятишек?
— У меня их нет, — вырвалось нечаянно.
Он вгляделся. Сдерживаясь, я смотрела в сторону. «Жалеешь себя», — отметила с неудовольствием. Он наклонил голову, понимающе смотрел исподлобья.
— Приехали к кому или специально искать?
— Искать...
— Не годится одной ходить, могут обидеть. Вы вот что...
— Вам ворона нужна? Хотите, наловлю целый мешок, — засмеялся сын.
— Экой ты стал... глупый, — с досадой проговорил отец.
— То говорил толковый, то уж и глупый, — улыбался сын.
— А ну, погоди. Только сейчас в голову стукнуло! Ничего, что посторонний человек слышит, секретов никаких нету. Погоди. Я понимаю. Дело. Оно интерес, оно и деньги. Без него жизнь — вроде как пирог без начинки, тем более что у тебя должность плюс собственная, так сказать, сдельщина. Понимаю. Тут и азарт, коли заработок приличный. Плохого ничего нет вроде бы. Однако, сын, ты меняться стал. Вот оно... Старая твоя учительница, к примеру, Зинаида Васильевна рядом с твоей работой живет, — ты забегать к ней перестал. А ты ее уважал, она тебя из мальчишеских твоих неприятностей лучше нас с матерью выручить умела. Еще и скрывала, чтоб тебя дома не заругали. И получается оно по-хорошему: извините, мол, забыл, заработался. Извините, не успел — работы навалом.
Сын спросил с обидой:
— Ты замечаешь хотя бы, как я выматываюсь?
— Замечаю. Здоровье загодя гробишь. Не набирай столько, необходимости пока нету. Я еще работаю, Вика твоя зарабатывает неплохо.
— Да я заказчиков потеряю, можешь ты понять?
— Кое-кто останется, плюс основной оклад.
— Да нам не хватит! Ну тебя, отец. Не хочешь войти в положение.
— На что-то и не хватит, верно. Не все сразу. Давай обсудим, как, да кто, да сколько.
— Нашел время объясняться.
— Согласен. Давай перенесем. Сядем и обсудим.
И ко мне:
— Вы извините, при вас разговор личный. Леша, как насчет той птицы-то?
Сын, видно, задет, ему не до меня, он отвечает вяло:
— Поспрошаю у ребят...
— Поезжайте домой, — мягко говорит мне отец, — мы постараемся. Не бойтесь, не позабудем...
В полутьме на весу я записала номер их телефона, продиктованный отцом.
4
Стукнула дверь другого подъезда, и какая-то женщина пошла мимо, кивнув на ходу: «Здравствуйте, Иван Нефедович, привет, Лешенька».
— Погоди, Валя, — сказал Иван Нефедович, — Валя, вот человек интересуется вороной, помнишь, летом? Ты спешишь?
— Нет, я прогуляться, Иван Нефедович. Голова болит.
Она шагнула дальше, но вернулась, приблизилась к Ивану Нефедовичу. Искусно дорисованные до висков блестящие глаза уставились на него в упор, с притаенной улыбкой, дерзко. Он сразу ответил дурашным немигающим взглядом — так мы играли в школе в гляделки, кто дольше выдержит.
Пожилой мужчина вел себя ребячливо, а женщине, вероятно, несвойственно держаться невинно, и выглядеть бы ей двусмысленно, если б не было понятно, что это игра, затеять которую могут только добрые знакомые, симпатизирующие друг другу люди.
Валя была раздавшаяся, с большой грудью и животом, но потертая короткая шуба подчеркивала стройность ног в прозрачных чулках и в полусапожках на каблуке. На лоб у нее выпущен латунного отлива локон, остальные волосы убраны под вязаную черную шапочку, и над массивными плечами легко выпрямлена шея, обтянутая воротом водолазки. В Вале сочетались дородная, зрелая женщина и девушка с молодой посадкой головы, с молодыми ногами и с этой манерой проверять локон, бережно касаясь его тонкими пальцами. На Валю хотелось смотреть; я всегда любила красивых женщин и сейчас не отрывалась.
Невольно заметила, что не отрывался и Леша.
Наконец поединок кончился. Иван Нефедович сверкнул из глубоких своих глазниц остро, устрашающе и рассмеялся. Валя прищурилась, нарочито выдвинула подбородок, все еще балуясь.
— Сгори хоть все, озорничаешь! Держишься! Молодец, девка! — восклицал Иван Нефедович, крепко встряхивая ее за локти.
Леша потянул ее в сторону:
— Два слова, Валюша.
Они отошли. Он что-то проговорил тихо, Валя, едва выслушав, тут же вернулась к нам. Слегка откинув голову, она оглядела его с ленивым, скучающим видом. Сказала:
— Ты ж и не заходил никогда, Леша.
— А теперь — приду!
— Как это — приду? — спросил отец, нахмурясь. — Тебя не зовут.
Не поглядев на него, сын отвечал звонко:
— Мужские руки в хозяйстве пригодятся, учти, Валюша!
Отец приказал:
— Забирай собаку и уходи. Ну! — прикрикнул он.
Леша, посмеиваясь, поднял собаку. Отец придержал дверь, чтобы не задели собачьи лапы. Помолчал сумрачно. Валя зябко запрятала руки в карманы.
— Не переживайте, Иван Нефедович. Он ничего. С ним зато спокойно.
— В каком то есть смысле?
Она помялась.
— К своим он хороший, а вообще... Ну... равнодушный, поэтому с ним спокойно.
— Аккуратнее, Валентина. Я ведь живой.
— Да Иван Нефедович! Ему же и легче!
— Ладно... Ничего. Пока, Валя. До свиданья, — сказал он мне, — позвоните через недельку, добре?
Мы смотрели ему вслед. Слышали лязганье лифта. Я обернулась к Вале и увидела, что она плачет.
— Что вы? — спросила я.
Она заплакала в голос. Согнулась, горестно прижала руку ко лбу, истерически рыдая на весь двор. Я завела ее в подъезд. Мы стояли у батареи, я гладила ее рукав, а она сотрясалась, зажав себе рот. Наконец притихла. Щеки у нее втянулись, губы забывчиво выпятились, лоб напряженно сведен у бровей. В скошенных во тьму глазах была подлинная мука. Я не знала причин, но такую меру горя — знала.
Нехорошо, душно было возле раскаленных батарей. Сердце мое тяжело перестукнуло. Опять подступила тревога.
— Выйдем, Валя. Тут дышать нечем.
Она покорно дала себя вывести. Постояла и потихоньку стала уходить. Отошла, захватила пальцами снег, оглянулась:
— А ворона была мировая.
Наклон длинной шеи, когда она сминала и разглядывала снег в ладони, блестящие глаза через плечо и то, как стояла, согнув одно колено, — все было так привлекательно, что опять хотелось на нее смотреть. Мы встретились взглядом, и она вернулась, чтобы рассказать о вороне. Случаев было много.
Женщина развесила белье, сидела, карауля, просматривая газету. Ворона опустилась на стол, потянула газету. Она играла, а женщина возмутилась, замахала. Ворона, отлетев, села на белье, лапы ее отпечатались на стираной простыне, и было несомненно, что это месть из-за газеты.
Подошла другая хозяйка, швырнула в птицу куском асфальта и присела к первой; болтая, вертела на пальце ключи. Ворона снялась с дерева, схватила ключи и была такова. А после того как она унесла что-то из комнаты, стали запирать окна. О ней судачили во дворе, за ней следили, пытались поймать петлей, как ловят голубей, велели ребятишкам бить из рогаток. Одна добрая душа пожалела озорницу, застав ее на балконе жалкую, с подбитой лапой. Женщина сняла ворону с перил, перевязала, грела на коленях, выхаживала. Но и она утверждала, что от вороны исходят какие-то флюиды; пока птица была в квартире, женщина видела дурные сны, вставала с головной болью, настроение было скверное. Только мужикам, что играли в домино, ворона нравилась. Ей давали пятаки, чтобы она прятала, подкидывали хлеба, колбасы и накрывали, смеясь, домино, когда она расхаживала по дощатому столу.
— Вон в том подъезде вы поднимитесь на седьмой этаж, — посоветовала Валя, — квартира пятьдесят два. Только скажите, что от Ивана Нефедовича, а то там есть такая Маруся...
— Пойдем вместе? Валя, куда вы?
— Дети дома одни.
— Как, ваши?
Она уходила. Опять она уходила внезапно, не прощаясь, не договорив, только доброжелательно покосившись из-за плеча.
Давно, еще на курсах подготовки в вуз, меня полюбил один парень. Он был человек достойный, я относилась к нему с уважением и не скрыла, что влюблена в другого. Тем не менее он познакомил меня со своей матерью, маленькой, седой и румяной женщиной. Она знала, что сын любит без всякой надежды, однако это не помешало ей привязаться ко мне (я жила уже без родителей) и даже представить своей старшей сестре, у которой случилась беда. Ее сын-подросток в мальчишеской похвальбе спустил курок чужого, выкраденного пистолета себе в висок. «Слабó?» — «Слабó». И спустил. У женщины осталась одна опора, младшая сестра, с которой мы так сошлись.
Я бывала у них из-за нее. Она водила меня на лучшие спектакли, именно с нею я видела первую постановку «Города на заре», с нею слушала Софроницкого в консерватории и в доме Скрябина, где он играл при свечах. Когда я простудилась, она привозила закутанные кастрюли, ночевала на полу в моей каморке и отвезла на «скорой помощи» в больницу, где меня хотели остричь, а она уговаривала сохранить мои косы.
Затем — война. Она пыталась попасть на фронт, записалась на курсы радисток и со смехом передавала разговор девушки-секретаря с преподавательницей, при котором девушка, держа в руках список, выразилась так: «Какая-то к нам старуха затесалась». Ее не приняли. А сын попал на фронт и погиб. Он сгорел в танке — этого мать не знала. У меня хранятся два его письма, которые он не успел отослать. Я получила их много позже.
Вызывала преклонение стойкость, с которой держалась мать погибшего. Она не пала духом, не изменила милого своего характера, а что творилось в ее душе, можно только догадываться. Через некоторое время оказалось, что она больна. Я провожала ее в больницу. Перед тем как уйти из комнаты, держа в руке ключ, такая же румяная, голубоглазая, с украшающей ее сединой, она сказала: «Неужели я сюда не вернусь?»
Она оставляла комнату, в которой вырастила своего мальчика, где половину стены занимала его географическая карта, половину просторного письменного стола — высокие стопки книг, касавшихся его будущей профессии: философия, общественные науки, история. Он умел заниматься по восемнадцать часов подряд.
Его мать лежала в переполненной палате. Я приходила часто. Однажды сидела возле нее, смотрела в глаза, недавно голубые, теперь поблекшие, на исхудалую руку, опущенную на мое колено. Еле слышно она рассказала вот что.
Когда отпустила боль и она смогла сосредоточиться, ей пришло в голову: кого вместо себя положила бы на эту больничную койку. Перебрала близких и далеких, симпатичных ей и неприятных — и не нашла никого. Ни на кого, оказывается, не смогла, не сочла себя вправе взвалить свой крест. «Если я так, то не одна же я... Значит, есть такое в человеке...» Это было последнее, что поразило в ней.
Мне нужно было на несколько дней съездить в Кострому, и там я получила известие от ее сестры, что больная неожиданно скончалась. Я ответила телеграммой. Желая поддержать осиротевшую женщину, опрометчиво предлагала ей верную дружбу навсегда. Не задумывалась я о том, что не смогу с ней сблизиться, как с той, что ушла от нас, не испытаю потребности делиться, никогда не буду скучать без нее. И мне в голову не приходило, что за мое предложение она ухватится с такой серьезностью и доверием, а я не смогу его выполнить.
Я начала ходить к ней, чаще вдвоем. Муж мой вызывал в ней симпатию, он был доброжелателен, остроумен, умел рассмешить. Шли самые благополучные мои годы. Но уже вставало передо мной то испытание, которого я не выдержала. Как в таких случаях говорится, появился другой человек. Дело сложное, тяжелое, излагать его подробно не стоит. Ей открыться я не могла, соврать не могла. Звонила — она спрашивала о муже. Приезжала — она выясняла, почему не приехал он. В молодости ее, с младенцем на руках, бросил отец ребенка, а надо было признаться, что я причинила такую же боль, какую когда-то причинили ей. Перемена в моей судьбе осталась для нее неизвестной.
Довольно скоро начались неприятности, домашние неприятности, для которых имелись основания. С этим человеком я стала более одинокой, чем во времена, когда жила одна, а это значило, что и он — не на седьмом небе. Нередко он кричал: «Его ты любишь, а не меня!» Это было неверно. Но оба мы уже понимали, что новые отношения не сложатся. Осталось — в справедливую отместку, в напоминание, чтобы всегда казнилась, — чувство непреходящее, сильнейшее, будто тот, первый, был не мужем, а милым сыном, которому своей рукой я нанесла удар.
Прошли годы и годы, человек благополучен без меня — там красавица дочь, теперь внуки, — а никому не нужная жалость продолжает мучить. В школе, в шестом классе, когда мы начали дружить, он был замкнутым, необщительным, вероятно, оттого, что у него тогда появилась мачеха. Позже раскрылся, ожил, стал легко учиться. На турнике, в беге, в прыжках первые места принадлежали ему, потом в институте он занимался спортом серьезно, — и невозможно представить эти плечи ссутуленными, ставшую вдруг старческой походку, отчаянный взгляд.
...Я могла только позванивать бедной женщине, изредка навещать, хотя она звала меня беспрестанно — очень сдержанно, намеками, деликатно, что свойственно ее натуре. Правда, она сдавала вторую комнату, у нее постоянно были жильцы, обычно студенты, помогавшие ей, но разве в этом она нуждалась?
Перестал отвечать телефон. Я поехала. В квартире пусто. Во дворе какая-то старуха сказала, что ее увезли в клинику. Почему я не разузнала, где она? Объясняла же она, что у нее предполагают. Когда я опять позвонила, мне участливо объяснили, что тут теперь живут другие.
Тогда считала, что есть мне оправдание, теперь не вижу его. И часто боюсь: не совершаю ли опять? Не упускаю ли?
5
На этот раз отпирают долго, кроме замка еще, вероятно, цепочка или задвижка. После копания с затворами ожидаешь подозрительности, выходки какой-нибудь, и я на всякий случай снова отступаю на два шага.
На пороге никого. Затем в глубине коридора предстает статная девушка, она оттаскивает за ошейник дога. Дог так велик, что ей не приходится к нему нагибаться. Оба смотрят на меня выжидающе. В щель из комнаты слева, откуда они, вероятно, только что вышли, на них падает яркий свет.
— Здравствуйте. Можно войти?
— Входите, — суховато разрешает девушка.
Передо мною два существа: незнакомое, отчужденное и другое, понятное сразу. А поскольку они вместе, то и с человеком мне проще.
— Здравствуй, — обращаюсь я к догу; он нерешительно виляет хвостом, гибким, как хлыст. — Иди ко мне, — предлагаю ему, он виляет вовсю, и еще виднее, что он молод, почти щенок.
— Вам неизвестно, что чужую собаку не подзывают? — неприязненно замечает девушка.
— Хозяин может разрешить...
— Значит, он не умеет воспитывать животное, — отчетливо, громко говорит она.
— Пустите его! — прошу я.
Молчание.
— Вам, собственно, кого нужно? — так же громко спрашивает девушка.
— Я объясню. Пожалуйста, пустите!
Пауза.
— Он вас собьет. Закройте дверь, — снисходит она.
Захлопываю, прислоняюсь, и не напрасно. Ну и толчок! Тяжелые лапы, яркая собачья улыбка, горячий язык. Опускаюсь на корточки, загораживаю лицо локтем — пес суется большой головой, тычет нос мне в глаза, в лоб. Сколько тепла — собака. Какой отдых! Ну и губы-шлепы. Ну и глазки щенячьи, маленькие на такой морде!
Его строго отзывают, и он слушается сразу.
— Вот балда, — говорю я ему, он снова делает рывок, но не тут-то было: загорелая нежная рука твердо держит ошейник.
У хозяйки дога тонкая, что называется, точеная фигура, но в том, как она справляется с этаким телком, заметна порядочная сила. Свитер облегает юношески прямоватые плечи, округлые крепкие руки.
— Вы к кому? — повторяет она несколько мягче.
Поправляю платок, волосы, не испытывая больше никакой неловкости.
— Я хотела вас спросить...
Является еще один персонаж. Это приземистая женщина-коротышка с невыразительными, как бы смазанными чертами маленького лица. За нею вырывается грохот телевизора.
— Кто такое? — громко спрашивает она.
— Опять вы, Маруся, заперлись на все замки, — говорит девушка, — зачем вы цепочки накидываете? В квартире собака, мы со Славой дома, наконец, не ночь же сейчас. Да приглушите вы телевизор!
— Все учишь меня. Что я, у себя дома не могу, как желаю?
— Не можете. У вас соседи.
— Ох ты. Ну и что?
— Слава, возьми Леля! — кричит девушка.
В коридор высовывается голова с прямыми рассыпающимися волосами, плечо, обтянутое синим свитером, и рука, тоже загорелая. Впечатление такое, будто человек лежит в комнате сбоку от порога прямо на полу или на матрасе; опираясь о пол другой рукой, он дотягивается и перехватывает ошейник. Снизу взглянув сквозь волосы и улыбнувшись мне, утаскивает пса. Телевизор смолкает на полуслове, коротышка возвращается. Спрашиваю о вороне.
— Ах, так она была ваша, — чеканит девушка, — спохватились! Где же вы летом были?
— Она не моя.
Доносится голос Славы:
— Лана, ты пригласила?
— Прошу прощения, — спохватывается Лана, — пройдите, пожалуйста. Можно в кухню, поговорите с Марусей, поскольку пострадавшая, собственно, она.
— А можно и к нам, — Слава распахнул дверь.
Скрестив ноги, он сидит на низкой тахте, возле него картинно расположился Лель. Развернутая книга, обложкой кверху, лежит у собаки на боку, на голубой обложке плывущий аквалангист. В комнате очень светло: вверху горят все рожки люстры, мерцает торшер, в изголовье тахты лампа, на столе лампа.
— Ты чего, Слава, электричество жгешь? — спрашивает Маруся.
— А это солнышко. Я на берегу моря, — улыбается Слава, — слышите волны?
— Солнышко у него, — несердито передразнивает Маруся, — ладно, жги давай, счетчик отдельный.
— Входите осторожнее! Вот тут, слева от вас, лужа от вчерашнего шторма осталась, видите? Справа булыжники накидало — не пролезть, так что вы посередочке. Пожалуйста!
Маруся смеется: «От выдумщик, баловник!» — и проходит мимо. А мне бы в этот греющий свет, в милую эту игру, — но твердое плечо Ланы чуть задевает меня словно в знак предостережения, запрета, и я иду за нею на кухню. Маруся и я садимся, Лана в продолжение разговора стоит прямо, не переминаясь, я острее чувствую усталость и боль в колене, и все время хочется предложить ей сесть.
На лице ее быстро гаснет отсвет «солнышка».
— Собственно, летом и осенью мы со Славой работали на Черном море, о вороне нам только рассказывали.
— А я с ней, с воровкой, хлебнула, — вставляет Маруся, но Лана перебивает:
— Эти птицы очень инициативны, охотно играют, они таскают, прячут, так что, Маруся, не увлекайтесь относительно воров.
— Видали? Насчет Володьки, сына моего, намек дает. Да что ж ты все по больному норовишь, — вскрикивает Маруся, густо краснея, — твоего бы Славку засудили, дак...
— Чепуху несете, — с видимым спокойствием прерывает Лана и объясняет мне: — Ее Володя украл и продал нашу собаку. При нем она выросла, считала его своим, он воспользовался, увел на птичий рынок и неизвестно кому... Понимаете? Такой умницы нам больше не найти.
— Не за вашу суку он!..
— Естественно. Он попался, когда с приятелем вскрыл в учреждении сейф. Сейф был с секретом, дверцу открыть удалось, а дальше оказалось очень маленькое отверстие, они зазвали ребенка, девочку, заставили ее достать деньги. Так что еще и за привлечение малолетнего. Кстати, собака не живая душа, за нее наказание не полагается.
— Слыхали, да? Слыхали? Собак любишь, а людей нет! — крикнула Маруся, и Лана наклонила гладко причесанную голову:
— Не спорю.
Вошел Слава. Он был в спортивном шерстяном костюме, «молния» ворота расстегнута, рукава оттянуты до локтей, полукеды не зашнурованы, будто он и впрямь только что с морского берега. Безмятежно улыбаясь, он сообщил:
— Чайку захотелось, — и взялся за чайник.
Лана тут же зажгла конфорку, забрала у него чайник.
Слава оседлал табурет, о край оперся перед собой ладонями, смотрел на меня с непонятным оживлением; я невольно спросила:
— Что?
— Я вас еще в коридоре узнал. А вы не узнаете?
Он произнес медленно:
— Дельфинья бухта... Маленький НП...
— Ну да! Вы там были?
— Вы в деревне ночевали, я туда за молоком приезжал. На лошади.
— Как, это вы?
Он засмеялся.
— И за дельфинами на лошади...
— Это-то хорошо помню, — засмеялась и я.
И вдруг ознобом: утлый домик, пугающие тени на море из-под обрыва, железная дверь на ветру... дом отдыха, скрипит внизу дверь... «Вы еще не на костылях?»
Тут же я оторвала, отшвырнула вцепившийся было ужас. «Остановись», — сказала себе. Вот Слава. Вот он, перед тобой. Улыбается, милый человек. Давно необходимо было в чужие стены, к новым людям. Забыть хоть ненадолго. Опомниться. Совладать с собой. Насколько здесь легче! И человек, который помнит по светлым временам, легче сочувствующих.
В экспедиции в одно из первых дежурств, когда сидела в стеклянном НП, меня поразили вдали слева, на чистом мелководье, конь и всадник. Хорош был черный конь, длинными легкими черными ногами ступавший по светло-изумрудной воде. Пригнув голову, он медленно шел навстречу волне и ветру; можно было разглядеть и мальчишескую фигуру всадника, — обернувшись, он обмывал круп коня.
Если появлялись дельфины, на главном, высоком НП взвивался флажок, и народ спешил к обрыву. Торопливо фотографировали и рисовали приметы — формы плавника, хвоста, шрамы на боках, пытались разобраться, знакомый ли дельфин, знакомая ли стая, что в ней происходит. Стая огибала берег, исчезала из глаз, но вровень с нею рысил по берегу наш юный верховой с болтающимся на груди биноклем. Он сопровождал дельфинов дальше, подмечал за ними нередко острее других и рассказывал с таким пылом, что было понятно: любит тех, о ком рассказывает, тех, кому рассказывает, любит весь мир. Как же я его не сразу вспомнила, такого яркого парня?
— Вы снимите пальто, — предложил мне Слава, — в доме топят жарко. Выпейте с нами чаю, у нас индийский чай, инжирное варенье, Лана сама на юге варила.
— Варенье-то и у меня есть, — вставила Маруся.
— Вот, и у тети Маруси.
— Не могу, меня ждут. Я на минуточку к вам. И устала уже.
— Так вы ходите по квартирам в поисках вороны? — спросила Лана. — Для чего, если она не ваша?
— Я сейчас много дома сижу, болею. С ней бы...
— А, ну понятно. У кого же вы спрашивали?
— Последний был Иван Нефедович из пятого подъезда, знаете его?
— Еще бы, Ивана-то Нефедовича, — отозвалась Маруся.
— Потом вышла такая Валя, так и с ней говорила.
— Валя, красивая? Валя Арешева, — сказала Лана, — насчет животных она не знает. Кстати, Валя — редкое явление в наше время.
— Правда, что редкое, — насмешливо подхватила Маруся.
Слава доставал посуду.
— Давай я, — Лана попыталась оттеснить его плечом, нажала, но Славу не сдвинешь; у обоих был озорной вид.
— ...Дуреха ты, Валентина, сама себя не жалеешь, говорю ей, — продолжала Маруся.
— Понимаете, — резко обернулась Лана, — рядом с нами живет героиня. Немногим такое под силу.
— Обхохочешься! Сошлась с женатым, прижила от него двоих, вот и геройство!
— Где вас ждут, далеко? — спросил Слава.
— Рядом, в пятиэтажке.
— Позвоните, что немного задержитесь, хорошо? Поговорим. Из этой экспедиции вы кого-нибудь видите?
— ...А полмесяца назад, еще и нету полмесяца, у жены у его родился мальчик. Вот, говорю, Валька, за любовь-то за твою!
— Разболтала, — жестко констатировала Лана и добавила: — Собственно, секрета нет. Валя не умеет ничего скрывать, да и не считает нужным.
— Пойдемте, покажу телефон, — тихо, настойчиво предложил Слава.
Я хотела встать, но было неловко, Лана обращалась ко мне:
— В восемнадцать лет она полюбила человека, к несчастью, в самом деле женатого, и дочка там была. Теперь Вале тридцать шесть, она любит все его.
— Женихов у ней было! — вмешалась Маруся. — И теперь сватают, не глядя, что...
Лана не дала себя перебить.
— Ее дочери Наташе тринадцать лет, сыну два года. Его дети. Вы не думайте, он все понимает, еще до детей не раз пытался порвать. Валя такая беззлобная, никаких упреков. При таких обстоятельствах, представьте, восемнадцать лет верности!
— Верности! Ты почему знаешь, — вставила Маруся.
— Она выглядит легкомысленной, на самом деле абсолютно чистый человек. И он. Жену жалеет, а любит Валю. Поздновато встретились.
— «Поздновато»! Ее воля, могла бы сладить свое гнездо.
— Да настоящая большая любовь! — взорвалась Лана. — Вам просто неизвестно, что это такое!
— Любовь, — махнула рукой Маруся, — любва, — выговорила она, презрительно кривя длинные бледные губы, — это чего такое, любовь-то? Сдержи самою себя на короткий срок, и нету ничего, как ветром сдует. Была бы Валентина честная, не плодила бы сирот. Теперь плачет-рыдает: мол, сынок там родился, теперь друг милый от жены не уйдет. Чего ж не утешается, — зато, мол, любовь? А вот нету ей утешения и не будет! Вспомнишь меня, не будет!
Со стесненным сердцем шла я к телефону. В коридоре Слава зажег свет. Царапался за дверью и поскуливал Лель. Из кухни быстро вышла Лана. Неожиданным в ней женственным движением она положила обе руки мужу на плечо, глядела на него умоляюще, и это так не вязалось с ее обликом, что я растерянно стояла, вместо того чтобы как-то оставить их.
Но Лане я не помешала.
— Славик, — произнесла она вполголоса, — ты же знаешь... Не могу я с ней.
Он хмуровато молчал.
— Давай я Леля пока выведу, вы без меня, — она перешла на шепот. — Слава! Слышишь, Слава!
Он обратил к ней серьезный, удививший меня твердостью взгляд. Я стала набирать номер. Лана покорно пошла на кухню. Повременив, за нею отправился и Слава. Какая значительность в легком, по первому впечатлению, парне! Какая непреклонность!
— Слушаю!
— Саша? Я тут, но я немного погодя.
— Мы уж беспокоились, хотели искать. Вы скоро?
— Да.
— Что-нибудь узнали?
— Много.
— Как иитересно-о! Мы ждем! Позвоните, встретим вас внизу. Не забыли, что у нас лифта нет?
6
Отхлебывая из чашки, Маруся начинает:
— Значит, так. Прихожу домой — батюшки мои! Порассыпано на полу! Хлебушек из пластикового мешочка вытряхнут, белая булка поклевана. В помидорах дырки сделаны. Стакан на полу стоит, правильно, на донышке и целый. Кто такое сделал? Да и вспомнила про ворону, во дворе только об ней и разговору. Как же, думаю, она стакан не разбила? И спохватилась, в комнате-то окно открытое! Я бегом. Вхожу, а ворона вот она, на комоде, и кошелек тут лежит. Меня увидела, цоп кошелек — и вылетела. А в нем денег семь рублей, да мелочи сколько. И кошелек сам новый. Я так рассердилася, обиделась — вот она как со мной! Еще, думаю, увижу — ей-богу, убью!
Лана, запрокинув голову, сделала глубокий кивок, означавший, что ничего другого от Маруси она и не ожидала. Слава спросил, пряча улыбку:
— Чем бы вы ее, тетя Маруся?
— Чем? Убью-то? — Маруся не сдержала смешок. — И вправду, чем?
Лана сказала:
— Вам, наверное, известно, где теперь ворона. Не убили ее?
— Почем я знаю, — ответила Маруся, — вы сходите к дворнику, слух был, — кинула она мне и посмотрела на Лану, — ты чтой-то? На меня грешишь?
— Она так не думает, тетя Маруся, — кротко возразил Слава.
— Не то еще думает! — закричала Маруся, опять наливаясь краской. — Чего есть на свете плохое, все на меня прет!
Со знакомой мне твердостью Слава сказал раздельно:
— Лана. Ты знаешь, что не права. Подтверди мои слова.
Молчание. Маруся, шмыгая носом, размазывала пальцем слезы. Слава не отводил глаз от жены. Лана рывком отодвинула стул и вышла.
— Простите нас, — сказал мне Слава; было заметно, как он расстроен.
Я ждала, что он пойдет за Ланой, но, кажется, он не собирался.
— Извела меня твоя женушка, — сказала Маруся, сморкаясь.
Он близко заглянул ей в лицо.
— Тетя Маруся, я давно не спрашивал, как там бабушка Агриппина? Вы у нее бываете?
— Почти что каждый день, — охотно отвечала Маруся. — Ходить плохо стала, коленки болят. Предлагают ей в дом престарелых, не знаю, как...
— Сама она хочет?
— Да вроде. Дом, говорит, в Измайлове, прямо в парке. Телевизор есть, кино, артисты приезжают. Все, говорит, не одна буду. Я, говорит, тебе в тягость, Марья.
— У вас у самой несчастье, на вашем месте не всякая стала бы...
— Что ты! Мне с ней с одной только... Ты погляди, какое у ней лицо светлое. Старуха, а смотреть приятно.
— Тетя Маруся, — Слава отодвинул стакан и оглянулся на меня, — Лана неправильно сказала насчет вас. Только и ей трудно... с вами трудно, — договорил он.
— Ишь ты! А мне-то с ней!
— Тоже верно. С вашим Володей они друзья были?
— И с маленьким, и постарше. Она ему книжки давала, уроки с ним делала. Она уж кончала школу, а он в пятом застревал, в шестом тоже. Да, вот чего еще вспомнила. В милицию заявил один — ну, схулиганничали ребята, мой Володька, голова садовая, все с большими парнями, они и подучили. Пришли из милиции. Лана встала на защиту: я, мол, за Сухорукова Владимира ручаюсь. Заявление написала.
— Вот даже как. Я не знал. Тетя Маруся, а на суде?
— Знаешь, небось. Ее вызывали, чтобы характеристику дала. Врать не буду, слова плохого о нем...
— Про собаку рассказала?
— Ни-ни. Я, говорит, одно хорошее про него могу. Ты разве не в курсе?
— Так в чем же теперь-то дело, тетя Маруся? — спросил Слава.
Я поднялась.
— Пойду. Мне пора.
Слава посмотрел на меня, помолчал, собираясь с мыслями.
— Посидите немножко, — попросил он, — я вас провожу.
Я присела.
— Теперь, тетя Маруся, послушайте меня, — веско начал он. — Лана — человек редкой честности, обязательности, того же и от других ждет. Не укладывается у нее, что можно так подвести кого-нибудь, тем более друга. Володя ее подвел, более того: она в первый раз испытала, что такое... да, предательство. Впервые в жизни, понимаете? Сколько прошло, а она опомниться не может, откуда ни возьмись бессонница, головные боли. И с вами слишком... ну, груба, дерзит, иногда и то скажет, что сама не думает. Он ее предал, хотя звучит это по поводу собаки как будто слишком.
— Чего такое, преда-атель? Володька мой, что ли? Ты говори, да не заговаривайся.
— Я не заговариваюсь, — тихо возразил Слава, — вам кажется, что во всей истории продажа Ланиной собаки дело самое ерундовое.
Он пригнулся к столу:
— Переломный, самый страшный момент был в его жизни на птичьем рынке, когда он продавал...
В коридоре послышался топот собачьих лап, Лана сказала оттуда полувопросительно:
— Я выведу Леля...
Слава не отвечал, и замок щелкнул.
— А я-то бабушке Агриппине нового соседа нахваливаю! Ладно. Теперь я раскусила, кто ты есть.
— Раскусили? — не повышая голоса, с гневом проговорил Слава. — А себя вы понимаете?
Маруся что-то пробормотала.
— Да, себя. А сына своего понимаете? Как он додумался, как решился, это вы понимаете?
Ноги у Маруси не доставали до пола, и она не вскочила, а торопливо сползла со стула.
— Ты куда подводишь, Славка? — спросила она, дрожащими руками оправляя платье.
— Пока никуда.
— Чего такое значит «пока»? «Пока никуда»! — передразнила она. — Все нервы повыдергали! Ну, не на такую нарвались. И я вам удовольствие припасла, да. Небось знаешь, без согласия соседей собаку не имеете права. На это статья есть. Да. Заявление в милицию завтра снесу. Завтра. Вот так, братец кролик.
И, не то всхлипнув, не то издав смешок, она скрылась в комнате наискосок от кухни. Вскоре там грянул телевизор.
Слава обхватил ладонями горевшие щеки, уставил локти в стол. Сказал:
— Дело в том, что это она надоумила сына продать собаку.
— Да что вы!
— Для чего-то ему позарез нужны были деньги. Он связан со шпаной, они, что ли, потребовали. Он — к родителям, а отец пил, взять негде, дошло до скандала. Теперь вот что. Вы мне, конечно, не поверите. Знаете, что в тете Марусе главное?
— Ну?
— Врожденная, неосознанная доброта, которую она сама не замечает.
— Она преступница, какая там доброта!
— Есть вещи, которых она не понимает, но это уже речь о другом. Жаль, вы не увидите ее после. Этот разговор был первый. Дальше, с глазу на глаз, я ей скажу все, хотя самому неприятно. Ну, а потом уж...
— Неужели вы надеетесь, Слава?
— Даже уверен.
Он глотнул холодного чая, подумал и подтвердил:
— Я ее хорошо понимаю.
В его возрасте я была менее терпима, может быть, менее добра. Я бы отошла от такой Маруси, он подступил.
Захотелось получше рассмотреть Славу. Я покосилась. Худое гладкое лицо, толстые губы сложены спокойно и простодушно, прозрачные, с яркими белками глаза. Это был образ самой ранней молодости. Примерно такой я уходила в армию. Я припомнила себя и друзей тех лет, того, который погиб в танке, и мне представилась глубокая чистота помыслов Славы, его наивность и его убежденность, за которую он умел постоять.
Что-то происходило со мной сегодня, впервые за долгое время я жила с такой напряженной, давно забытой жаждой общения. Вот уже исчезла скованность, вот уже, едва веря, что еще так много могу, утешала я, а не меня. А память делала виражи, перебрасывала, тасовала, кружила...
— Бабушка, у вас можно переночевать?
— Заходи, заходи, доча. Мои-то уехали, я объявила, в своем доме погибну, а не уеду. Со мной на печи ночевать будешь?
— Спасибо.
— Много ли в деревню ваших прибыло?
— Много.
— Ты сама откуда? Родители твои где?
Приставная лесенка ведет на печь. Печь догорает. Отсвет углей на стенах. Тепло, тихо. Задремываю...
— Доча, а доча!
— М?
— Ты чего стонешь?
— Это во сне. У меня рука болит, бабушка. Бьется, терпения нет.
— Ну-к, спустись. Я погляжу.
Вдвоем еле стаскиваем гимнастерку. Рука в локте распухла чудовищно. Я упала, когда по ледяной дороге мы поднимались в деревню. Через плечо на ремне две железные коробки пулеметных лент, если не ошибаюсь, по восемь килограммов каждая. Или по десять? Они измучили плечо, спустила их на руку, не удержалась, да всей тяжестью, локтем — в лед.
Бабушка наливает в лохань горячей воды. Опускаю туда локоть.
— Температура у меня, что ли, бабушка.
— Постой, градусник принесу.
Температура под сорок. Карабкаюсь обратно на печку. Т-с-с... Тишина. Душно. Ох, душно, жар меня мучает, заходится сердце. Боль — хоть на стену лезь. Я и лезу. Спускаюсь, подхожу к стене, поднимаю над головой руки, хватаюсь за бревна. И опять ложусь на горячие тряпки.
Вдруг бухнула дверь, пар покатился по избе.
— Кто есть живой? Здорово, хозяйка! Встречай гостей!
Возбужденные, вваливаются с мороза. Шум, говор, махра. Согбенная фигурка с седым пучком на затылке освещена пламенем — бабушка подтапливает, варит концентраты для пехоты.
Свешиваю голову. Оживленное любопытство среди солдат.
— Кто у тебя там, хозяйка?
— Девушка военная. Да захворала, вот беда.
— В этой деревне стоят ваши? — спрашивают меня.
Киваю.
— Оружие при себе есть? Немцы к утру будут, они у нас на плечах. На-ка. В случае чего подрывай себя с избой вместе, понятно?
Парень в полушубке тянется, кладет гранату лимонку, большое яйцо с грубой насечкой. Чугунное, что ли. Ложусь лицом в подушку. У меня рука чугунная. Немец в каске, это немец выкручивает, хочет сломать мою руку!..
Открываю глаза. Тех уже нет, толпятся другие, уходят, являются новые. Идут через деревню, через нашу избу, идут, идут... Отступление. Мы двигались немцам навстречу и стали здесь, чтобы не отступать. Мне же на локоть не опереться, не стрелять из пулемета или винтовки. Хотят отправить в госпиталь. Я все тяну, отказываюсь, тяну, и командир роты каждый раз поднимается на ступеньку:
— Ну как, солдат? Не легче? Обидно.
Выглядываю. На корточках вдоль стен сидят — в пилотках, в шинелях, в ботинках с обмотками. Узбеки, наверное. Взгляды устремлены в пол.
Мрачен темный лик отступления. Мрачна покинутая изба. Заледеневшее окошко обморочно туманится, провал... Давнее лето. Бабушка!
— Ты вот чего, доча. Подымайся чуть свет, иди к оврагу, знаешь? Там земляники-и! Набери, я спеку ржаные пироги с земляникой.
7
— Кто там?
— Дворник Федор Алексеевич здесь живет?
— Я Федор Алексеевич.
Длинный, жилистый, с мослаковатыми худыми плечами и тоже в одной майке, он не вызывал во мне опасения, что хлопнет дверью, нагрубит, а сразу показался безобидным. Он был сильно курнос, белес, имел широкую, с кадыком, шею и смотрел на меня сверху с наивным удивлением.
— Чего спрашиваете, не пойму, — сказал он.
— Повторить?
— Постойте, хозяйку мою позову. Тася! — крикнул он. — Тась! Поди-ка.
И только он произнес имя жены, как я узнала его. Но уже подходила Тася, с которой мы так и не собрались свидеться с тех пор, как они переехали из нашего дома.
— Вот так гость! — воскликнула она. — Что вы не предупредили, ну! Погоди, вы и адреса нашего не знаете, как же нас нашли? Да снимайте одежу, у нас жарко. Вот гость, так уж гость!
Прежде мы жили на одной площадке. Мужа ее Федю и детей, двух девочек, я знала поверхностно, с нею же мы сошлись довольно близко. Когда она уехала, продолжая еще работать у нас, мы часто виделись: то я ее разыщу, то сама ко мне явится. Потом она уволилась, и стали мы созваниваться, сговариваться.
Я сняла куртку, стянула с усталых ног сапоги. Ступила на чистый и прохладный лакированный пол. Тася поставила передо мною домашние туфли. Я влезла в эти мягкие, большие клетчатые туфли, посмотрела на обрадованную Тасю...
И у меня были когда-то родные, тетка с дядей и две двоюродные сестренки. Зимой мы с мамой ездили в промороженном насквозь трамвае № 14 в Измайлово, где не существовали тогда ни метро, ни шумные улицы с каменными громадами, а шел без конца и без краю лес, в нем Олений пруд, малые пруды и деревянные постройки кое-где. В одном из таких домов нас с нетерпением ждали. Сбросив шубы, перецеловавшись, мы поскорее обнимали железную, круглую и высокую печь, прислонялись к ней спиною, боком, грели о рифленую стенку руки и щеки.
Бывали там длинные обеды и ужины, с пирогами и собственного изготовления сладостями, а вечерами играли в лото или в «добчинского-бобчинского», причем взрослые и дети кричали и хохотали с одинаковым азартом. Мы ночевали, а на другой день, когда отправлялись в город, нам давали сверток со всякими домашними печеньями, и этот пустяк остался для меня маленьким знаком уюта и родственности. Скажу наперед, что когда уходила от Таси, она сунула в мою сумку кулек с пирожками.
Рассказать о Тасе я могу немногое. Когда она выходила замуж, то предупредила суженого: «Ты на меня голос никогда не подымай, и жить будем по-людски». В самом деле, они хорошо жили. Он тогда был электромонтером, она убирала мусоропровод. Росли у них две дочери, старшая, Татьяна, красивая, строгая, собранная, и младшая — застенчивая, курносая, с круглой физиономией, Нюша. Обе были домоседки, с шумными девицами нашего двора не водились. И муж, конечно, свой дом любил, что неудивительно: Тася всегда спокойна, маленькие карие глаза ее смотрят умно, приветливо, никого она не судит, каждого готова понять и оправдать. Жить с нею на одной площадке — и то, я считаю, удача.
Один случай заставил меня приглядеться к ней. Дали им с Федей путевку в какой-то ведомственный дом отдыха. Многие там знали друг друга: служили вместе. Среди них был мужчина, которого недолюбливали и сторонились, избегали сидеть рядом в столовой и в кино; за ним шла слава клеветника и доносчика, а в подробности Тася не входила. Ночью у него случился какой-то приступ, понадобилась грелка. Кое-кто захватил с собою грелку, но в том-то и дело, что для него не хотели давать. Тася мне говорила: «Грех какой! Как не люди, ну! Не все одно, кто заболел. Он мучается, а они — глянь — что делают».
Итак, нежданно-негаданно я попала к бывшим соседям. Не успели двух слов сказать, как хозяин повел осматривать новую квартиру. Обширная прихожая — «зал», довольно длинный коридор, много стенных шкафов и антресолей и большой, углом, балкон-лоджия, на который вывел меня «сам» (так Тася называла мужа). Он объяснил, что летом здесь, на ветерке, устраивают чаепитие, в жару спать хорошо. Всю лоджию он застеклил, поставил рамы на задвижках.
Показывали комнаты. Первая от кухни была «детска», как выговаривала Тася. Я знала, что поселилась она с младшей своей, с Нюшей, и ее семьей. Нюша работает на фабрике, заочно окончила институт. Муж Нюши инженер на той же фабрике; у них двое детей.
Молодые с детьми отправились к родителям мужа, и «детска», полная игрушек, и следующая, «обща», что-то вроде гостиной, стояли пустыми. Мы остановились возле хозяйских покоев. Дальше, в конце коридора, виднелась еще дверь, и Тася объяснила:
— Старушку к себе взяли. Одна осталася. Сестра ихняя младшая переехала к дочери, внуков нянчить, а они вместе жили.
Мы расположились у Таси с Федей, я — в кресле, Федя — он давно надел рубашку, причесался — лег на застеленный одеялом диван, Тася села возле него.
— Руки-то как? — спросила она.
Я только головой покачала: мол, хорошего нет, да объяснять неохота. Тася поглядела испытующе, промолчала.
В этой квартире я принимала все. Если цвета занавесок, дивана и стульев не подобраны, значит, об этом не думают, есть вопросы поважнее. Если на стенах висит то, чего не повесила бы я, и это не важно: Тася глубока в самом главном.
Месяца два тому назад Тася попала в больницу с затяжным бронхитом, но выглядела сейчас лучше Феди. Роста она среднего, широкая в кости и несколько располневшая, а ее смуглое по природе лицо моложаво, Федя же худ, бледен, и кажется, что не Тася, а он недавно оправился от болезни. И лежал сейчас тоже он, а не Тася.
Когда ее не было, я позвонила, и Федя упавшим, еле слышным голосом отвечал, что жена в больнице. Вернулась Тася и по телефону с необидным смешком рассказала мне, что «сам» в это время взял отпуск, чтобы ездить к ней. «Я говорю, зачем каждый-то день, два раза в неделю хватит. Ни в какую, ну! Хотели летом к морю, а он отпуск использовал, будет в Москве сидеть. Я-то внучат заберу да и в деревню». И, на зависть мне, обрисовала: «Там у нас сестра осталася. Как соберемся из разных городов, пять сестер и брат, ляжем на траву в саду... Конца нету разговорам! Не то на пруд, купаться. Или бо по ягоды».
При Тасе я отдыхаю. Она не нахвалится младшим зятем:
— Димитрий хорош парень, говорить нечего.
— Характер?
— И характер. Голова у него хорóша, вот чего.
— А старший, Танин? — спрашиваю.
Чуть смущенная улыбка. Взгляд. Заминка.
— И этот хорош.
Смеемся.
— А ведь я случайно к вам попала, — говорю.
— Во! Как это — случайно?
Оба не позабыли моих сурков, зайца, медвежонка. Тася воскликнула:
— А ежей-то на газонах вы пасли! Ежата еще родились — ты вроде не ходил смотреть, — ма-хоньки, двое, иголки белые, мягкие.
Так что рассказу моему о вороне не удивились. Вернее, не удивилась Тася. Муж ее спустил ноги с дивана и сел, уставившись на меня.
— Мы эту ворону знаем, — сказала Тася, — у нас она с балкона детский туфелек взяла.
— Не взяла, а украла, — пробормотал «сам».
— С туфлем на соседний балкон перелетела, — продолжала Тася, — Дима туда, а там гости. Извинился, конечно, прошел к балкону, а она снялась да через двор. В середине двора и уронила. Дима сбегал, подобрал. У женщины у одной так кошелек с деньгами унесла из комнаты.
«Сам» неожиданно сказал:
— Грязная птица. Сколько раз замечал за воронами: из помойки вытащат, поклюют да бросят.
— Да наоборот, спасибо им. Хоть сколько подберут. Ты-то знаешь, чего по дворам делается, — баки полны, да чаще открыты, летом не продохнешь. Хоть сколько подберут. — Улыбаясь, Тася поднялась. — Пойду чайник поставлю.
— На кой вам ворона? — спросил Федя, когда жена вышла.
Что-то промелькнуло в его глазах, и я спросила:
— Вы что, знаете, где она?
Он как будто смешался, встал, наклонился к темному окну, заглянул во двор, задернул штору и сел, разглаживая на диване одеяло.
— Где — не знаю... а только не ищите.
Я ждала.
— Потому... вы Тасе-то не говорите. Убили ворону.... при мне.
Мы столкнулись взглядом. Он порозовел.
— Окна от нее запирали, — бормотал он, — в самую жару. Меня ругали, мол, людям душно, а ты, дворник, чего зеваешь...
Неловко было смотреть на его жалкое лицо. Косясь в сторону и в пол, он добавил:
— Наши внучки́ на балкон приваживать ее стали, такую грязь. Отчасти потому...
Теперь отвела глаза я. Как он ее? Должно быть, кормил, чтобы подпустила.
— ...Застеклить, — растерянно закончил он и, робко ступая, вышел.
Я так и осталась сидеть. Что ж. Я видела кое-что и повыразительнее этого.
В одном из мест, где содержат животных для киносъемок, знакомая дрессировщица растила волчонка. Она выкармливала его из рожка, ночью он спал у нее под боком, днем носила под курткой на груди. Когда волчонок подрос, его посадили в вольеру. Он оказался более диким, чем остальные волчата, — его и назвали Дик, — не признавал никого, кроме своей хозяйки, боялся людей, от страха мог наброситься и считался опасным. Лишь когда появлялась она, крича еще издали: «Дик, хороший мой, Дик!» — волк смеялся, блестя молодыми зубами, он прыгал, подвывал от волнения. И дрессировщица, казалось, любила Дика.
Приехала киногруппа. Нужно было снять волка, которого на глазах у зрителя убивает охотник. И довелось увидеть следующее. Дика загнали в клетку, клетку поставили с краю лесной поляны. На другом краю-поляны ждала дрессировщица.
Тем временем волк, окруженный чужими, метался, прижимаясь к полу. Навели кинокамеру, приготовился опытный стрелок. Приподняли шибер — дверцу клетки. Волк боялся выходить. Подняли шибер доверху. Он лег, шерсть у него по всему хребту встопорщилась. Через решетку в него стали тыкать палками и в то же время... «Дик, Дик, хороший, ко мне!» — в то же время закричала та, которой, единственной, он доверял. Волк кинулся к ней...
А часто приходится слышать, какая я счастливая, раз увлекаюсь животными; это значит, мне есть куда спрятаться от жизненных тревог.
...На стене висели фотографии. Я встала посмотреть. На одной изображен был кривой старик лет восьмидесяти. Спина его молодецки выпрямлена, ноги раздвинуты, на каждом колене по ребенку, он придерживает их большими руками. Скорее всего, это отец Феди с правнуками, у Таси родителей нет.
Самый большой снимок сделан давно. Одноглазый дед молод, рядом с ним жена, впереди дети. В меньшем, мальчике с чуть закинутой головой и развернутыми плечиками, легко угадывается Федя. Тут же его брат и сестры. Старшая... Старшую я вдруг узнала: круглолицая в отца, с челкой на широком лбу и с постоянно приоткрытым ртом, полуглухая Паша из нашего дома, того, в котором я жила в детстве. Значит, вот этот ее отец был дворником у нас, на Тверском бульваре; ребятня звала его Косой. Так это Косой! Он молод здесь. Почти таким я его запомнила, когда вместе с другими майской ночью явился он к нам.
Отцу дали подписать акт обыска. Он взялся за перо. Мама сказала:
— Прочти раньше, что ты подписываешь.
Он ответил:
— Товарищи меня не обманут.
Больше я его никогда не видела.
...Тут я осознала, что исподволь начинается боль в груди. Сунула под язык таблетку нитроглицерина, успев рассмотреть человека, знавшего нашу семью. Он в косоворотке и с пробором посередине темени, свежий, еще без городского налета деревенский мужик.
Я села в кресло. Действие таблетки должно сказать — очень быстро, а прошло около десяти минут. Одна таблетка обычно помогала. Зная, что нельзя терпеть боль, чтобы не стало еще хуже, я приняла вторую. Боль начала утихать, но ее заменили дурнота, тошнота, слабость, перед глазами мелькало, и я внезапно замерзла. Было неловко лечь на диван; через миг поняла, что упаду с кресла и, цепляясь за что попало, добралась все-таки до дивана. «Участятся приступы — откажутся оперировать», — подумала, и вялое шевельнулось удивление: когда же я решилась на операцию?
Вошла Тася.
— Батюшки! Что такое? — воскликнула она.
Я показала на сердце.
— Неотложку?
Рукой я объяснила, что не стоит, надо ждать. Еле разжала челюсти:
— Накройте...
Она сдернула с кровати одеяло.
— Чаю?
Я качнула головой.
— Форточку, Тась...
Она распахнула форточку и остановилась, глядя пристально с тревогой. Я приложила к холодным губам такой же холодный, ледяной палец, и даже руку на весу держать было тяжело. Закрыла глаза. Значит, Федя сын того Косого. А с его сестрой Пашей я дружила. «Дружила?» — переспросила себя, еще кое-что припомнив. И тут же, словно боясь свидетеля, сказала:
— Тася, вы идите... Скоро приду.
День рождения. Тринадцать лет. Подарки начались рано утром. Что-то мешало под подушкой: коробка с шоколадным шаром. Он разделился надвое, выпала шкатулочка с орех величиной. В ней бирюльки: деревянный самовар, чайник, чашки, полоскательница — вещицы не более семечка. И ликующая уверенность: «Я самая счастливая на свете».
В коммунальной квартире у нас две комнаты, вместе они составляли около шестидесяти метров, окна тройные, под потолок. В середине декабря всегда холода. Мы с мамой в постелях. Давно стемнело. «Пора, — говорит она, — скоро гости. Встаем?» — «Встаем!» — кричу я. «Раз, два, три», — восклицает она. Лежим. «Что же ты?» — спрашиваю. «Хо-олодно», — отвечает она. Хохочем.
Вечером — гости. Бегала на звонки. Являлись приглашенные. А на лестничной площадке, держа за руки братишку, стояла Паша. Ему четыре-пять, нам с Пашей — по тринадцать. Ее во дворе дразнили за глухоту — я брала под защиту. Конечно же она считала меня подругой. Может быть, лучшей. Неужели и подарок приготовила?'
Гости входили, а Пашу с Федей не пускали. Как такое могло случиться в нашей семье? В семье старого большевика, политкаторжанина, подпольщика до революции? И вместе со стыдом заползает подозрение. Каждая мать для своего дитяти приятелей старается отобрать — отбирала, наверное, и моя. По какому признаку? Ребят у нас бывало много. Чьи были дети? С неимоверным усилием восстанавливаю: Тамарин отец — шофер, у Тоси не знаю кто, Ромкин отец курьер, Витюшин — дипломат, Ия — вообще безотцовщина. Слава богу, вперемешку. Паша у нас не бывала. Она так жива сейчас передо мною там на лестнице — и больше ни одной картины; я позабыла бы ее, если б не злополучный день рождения.
Мама не знала о детях на площадке? Скорее всего. Она была в хлопотах. Кто еще открывал дверь? Анна Трофимовна, няня, которая у нас давно не жила, а пришла на день рождения. Двоюродная сестра Лера из Измайлова. Но скажи, признайся хоть самой себе, для чего с таким упорством вспоминаешь, кто еще встречал гостей? Ты-то их видела, стоящих в стороне, маленького мальчика и девочку-подростка в новом бумазейном платье, и почему-то (почему?) запомнила ее ждущее, недоуменное, моментами вспыхивающее радостью лицо. Ведь никому, ни одному человеку не признаешься в глаза!
Одна из неприятных догадок. Я, я сама посмела не впустить. Приглашала только школьных — она зачем пришла! Такая простая причина? Не одна только эта, должно быть. Но и в ней — что же простого? Непоколебимое, безжалостное убеждение, что имею такое право, далеко потом увело. Право не впустить в свой дом, когда занята собой и мне хорошо, и не внять зову несчастной (пускай я не знала — умирающей), когда мне самой плохо.
Подавленная, не в силах больше оставаться наедине с собой, держась за стены, плетусь коридором. Федя взглядывает испуганно. Тася, придвигая чашку, говорит участливо:
— Раньше вроде не случалось у вас... Вы ночуйте у нас, ну!
«Доброго тоже делала много», — думаю я и малодушно начинаю перечислять, но тут же прекращаю. Доброе для меня не в счет, оно есть у любого, в счет же — постыдное.
Между тем чай, пирожок с рисом. Молча пью. Поднимаю от чашки глаза:
— Федя, вы когда-нибудь жили на Тверском бульваре?
Федя оживляется:
— Брат старший со стариками и сейчас там, отец плохой, а мать пока... .
— У вас была сестра Паша?
Тася смеется:
— Говорила, старушку взяли, ну.
— Пашу? Она здесь?
Если бы я стояла, у меня подкосились бы ноги. Долго допиваю чай...
— Вы меня помните, Федя?
— Тебя, что ли? Помню, — улыбнулся он.
— Давно, в детстве. На Тверском...
— Постойте... Кто такие?
— Вы на первом этаже жили, мы на третьем. Надя, Надя Калитаева.
— Не... Может, Паша знает.
«Наверняка», — думаю со страхом. Тася радостна удивлена:
— Сколько были соседями, а не знали. Пойдем к ней, хотите? А сможете?
Поднимаюсь из-за стола. Тася как бы шутливо берет меня под руку. Федя следует за нами. «Господи, вот оно. Будь что будет, хуже все равно некуда», — твержу про себя.
Минуем «детску», большую комнату и «зал», проходим мимо комнаты хозяев... Иду как приговоренная. Идут со мною и та, не дозвавшаяся, и он, с шаркающей походкой, и мое самолюбивое тринадцатилетье, и многие, и многое.
Открыв дверь, Тася громко объявляет:
— Паша, я гостью тебе привела!
Споткнувшись, перешагиваю порог. Ссутуленной спиной к нам сидит седая, в накинутом вязаном платке, кажется, книга у нее на коленях. Оборачивается, снимая очки, и я вижу ее старое крестьянское лицо. Вглядывается.
— Неужто Надя? Слава богу, живая. Я сколько про тебя думала, Надя. Как же ты нас нашла?
«Нашла», — вторю мысленно, и чуть не плачу, и силюсь сдержать сердце.
Тут кончается моя небольшая повесть. Повесть о том, как я искала птицу и как пережила такой значительный день долгой, неспокойной моей жизни.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





