ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


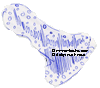
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ильина Наталия 1987
«Тогда их не было жалко...»
(Из частного письма)
— А Собор?
— Ну что ты! Его давно уже нет!
Быть может, я спросила... даже непременно спросила: «А что на его месте?» Спросила, но ответа не запомнила. Вероятно, потому, что не так уж меня это интересовало. И еще потому, что в эти секунды я видела его бревенчатые стены, его шестигранный купол, а по бокам — маленькие луковицы, с крестами, он стоял на главной площади, на холме, царил над городом, мне трудно было вообразить город без него, без «медного голоса» его колоколов, были еще церкви, но он — главный, там служились все торжественные молебны и панихиды, а мы, школьницы, забегали туда перед экзаменом свечку поставить... День будний, полутьма, озаренные снизу лики святых, старушки по углам, мы поджигали тонкую желтую свечку, растапливая воск, ставили, укрепляли (только б не упала!), ждали, чтоб разгорелась (только бы не погасла!), потом крестились, низко кланялись, бормотали каждая свое: «Помилуй, помоги! Сделай, чтобы из первых десяти билетов... А всего бы лучше: седьмой!» И тут, подняв глаза, встречаешь взгляд Николая Угодника, взгляд благостный, но чудится в нем неодобрение, и спохватываешься, понимаешь: через край хватила, всему есть границы! — и снова кланяешься, крестишься, бормочешь: «Прости, что я про седьмой! Пусть из первых десяти, уж какой выйдет!» Помогало? Иногда попадался удачный билет, и казалось — помогало. Но как часто не помогало! И все равно: бегали, ставили свечки, крестились, молились — так оно безопаснее. Маленькие дуры! Не такие уж, впрочем, маленькие: перед выпускными экзаменами тоже бегали...
— Ну а из русских там остался кто-нибудь?
— Встречаться не пришлось. Но слышал, что да. Совсем мало. Единицы.
Вокруг нас французская речь. А какой ей быть — сидим во французском ресторане. Нас трое: Нора, Фима и я. Не виделись со дня моего отъезда из Шанхая — больше тридцати пяти лет! Нору бы я узнала, если всмотреться как следует, но Фиму — нет. Он стал совсем седым. И нам с Норой полагалось бы стать седыми, но женщины, как известно, с природой не мирятся, сражаются с ней, пока сил хватает... Как же все-таки странно, что этот седой против меня сидящий человек был в том городе, видел его собственными глазами, по тем улицам ходил! Давно ли? Да вот — весной. Значит, в этом году. Значит, совсем недавно.
«И через столько-то летящих лет ни россиян, ни дач, ни храма нет!» — писал Несмелов. Но сам-то город остался, не провалился, будто Атлантида на морское дно (как мне временами чудилось), а существует, с этими его знакомыми улицами, деревьями, домами, Вокзальным проспектом (давно, конечно, переименованным!), бегущим вниз от уже несуществующего собора к вокзалу, откуда шли поезда, на которых мы все уехали...
Нет, не все, оказывается, не все! Кто-то остался. Это было страшно себе представить. Я цепенела когда-то от ужаса при мысли, что могут остаться в этом городе, жить в нем всегда, всегда, ничего никогда не увидеть, кроме его домов, улиц, деревьев. «Всегда» и «никогда» — два слова, от которых холодеешь, если начнешь в них вдумываться, а я рано начала в них вдумываться... «Мы умрем...» Они и умерли. Это было то первое поколение эмиграции, поколение Несмелова, поколение моих родителей. Значит, те немногие русские, кто там остался,— их дети, их внуки. Какая-нибудь из тех девочек-одноклассниц, с которой мы вместе бегали свечки ставить. Она все ходит и ходит по тем же улицам, мимо тех же домов... А там были и, несомненно, уцелели красивые дома, особенно в центральной части города, двух-трех-, редко четырехэтажные, некоторые увенчанные куполами со шпилями. Иногда купол в центре крыши, иногда на углу, а угол дома срезан, туп и настолько широк, что на угловой стене — и окно и балкон, — стиль русских губернских городов, о чем я догадалась позже, ведь этот — первый город моей сознательной жизни, с чем мне было его сравнивать?
— А другие церкви как? Там было много церквей. Софийский храм, например... И еще...
— Да, я видел какие-то церкви, причем с крестами. Кажется, есть и действующие...
Кто же, интересно, в них молится, если русских остались единицы? Я вдруг ясно увидела церковь из красного и белого кирпича с голубой луковицей купола, с четырехгранной крышей колокольни, а над ней маленький и тоже голубой купол, на какой улице стояла эта церковь? Как же я все забыла, десятилетиями не возвращалась памятью к этому городу...
— Улицы очень чистые, некоторые закрыты для транспорта, заполнены пешеходами, много велосипедистов.
— А что сейчас в здании Железнодорожного собрания? А в доме, где был магазин Чурина?
Этого Фима не знает. Не в Харбине прошло его детство, а, кажется, в Шанхае. Да и Нора смутно себе представляет Харбин, тут общих воспоминаний у нас нет. Я пытаюсь описать дом Чурина. Серый, двухэтажный, угловой, в нижнем этаже магазин (огромные стекла витрин), наверху контора, два входа, один с Новоторговой улицы, другой — с угла, и над этой угловой дверью окно и купол со шпилем; магазин — универсальный, тогда мы этого слова не знали, я любила больше всего писчебумажный отдел, оттуда мой первый ранец и первый пенал — до сегодня помню их запахи...
— Не знаю, не знаю, — говорит Фима. — Улицы теперь называются иначе, везде китайские вывески, китайские плакаты — белые иероглифы на красном фоне, это красиво, яркие пятна на стенах домов...
«Милый город, горд и строен, будет день такой, что не вспомнят, что построен русской ты рукой!» — писал Несмелов. Он наступил, этот день, и уже довольно давно...
— А еще на Новоторговой улице, но гораздо ближе к Бульварному проспекту, был кинотеатр «Ориант», — говорю я. — Там я увидела свой первый фильм «Маленький лорд Фаунтлерой». Мэри Пикфорд одновременно играла и маленького лорда, и его маму. Я в нее влюбилась и до чего ж была счастлива, когда мне удалось раздобыть открытку с ее фотографией...
Для моих собеседников ту же роль, что для меня «Ориант», играл шанхайский кинотеатр «Катэй», и мы стали вслух вспоминать фильмы и актеров тех далеких лет... А перед моими глазами возникла открытка с изображением Мэри Пикфорд: молодая женщина в скромном, закрытом платье сидит в дачном кресле, белокурая голова на фоне плетенной в мелкую решетку спинки кресла — я не расставалась с этой открыткой, в школу ее таскала, взгляну на ангельское лицо — и сразу охватывает чувство сладкой грусти, исчезают школа, парты и страх, что вызовут, а урок не сделан... «Ты что, оглохла?» — кричит подруга Лиля. Быстро прячу свою драгоценность, ни с кем не делюсь, никто не поймет, истинная первая любовь, любовь к тени, к призраку. Было мне тогда девять лет.
Мы с Норой обсуждали Рудольфа Валентино, в чем его обаяние, почему он был так неотразим? «Типичный жиголо!» — сказал Фима. «Вот-вот, — сказала Нора, — мужчины его терпеть не могли, а женщины — умирали!» И мы вспомнили, что Дос Пассос в своем знаменитом романе «Америка» назвал Валентино «розовой пуховкой».
...Как я достала эту открытку с Мэри Пикфорд? Не то выменяла, не то выпросила у одной девочки, не помню, как ее звали, — дом, где я была всего один раз, отец шел в гости, взял меня с собой, хозяев тоже было двое, молодая дама и девочка моих примерно лет, нас с ней сразу отправили в ее комнату — играйте, дети! — мы во что-то играли, а затем девочка стала хвастаться открытками киноактеров, тогда это была редкость, тут я и увидела Мэри Пикфорд. Выменяла? Но на что? Вероятно, все же выпросила. Умоляла. Унижалась. Достигнув своего, сразу захотела домой, чтоб любоваться, чтоб наслаждаться без помех. В квартире тихо. А вдруг папа ушел, забыв обо мне? Девочка чем-то отвлеклась, я же вышла в коридор, приоткрыла дверь в комнату напротив — и сразу же, ужаснувшись, дверь тихо затворила. Дама сидела на диване, отец — на полу у ее ног, локоть на колене дамы, она гладит отца по голове и что-то шепчет... А может, и не шепчет: всего одно мгновение я при этом присутствовала. «А вот я тебе еще покажу... — говорила девочка. — Где ты?» — «Здесь!» — отозвалась я не своим голосом. Минут через десять мы с отцом, настроенным добродушно и весело, шагали домой. «Милейшая женщина, вдова...» — говорил он о хозяйке дома, а я догадалась: меня с собою взял для отвода глаз. У матери, видимо, были подозрения насчет «милейшей женщины», вот меня и прихватил: иду с ребенком, все вполне невинно... А год, что ли, спустя, гуляя в Питомнике с двумя школьными подругами, я издали увидела отца, идущего под руку уже с другой милой женщиной, — к счастью, подруги, заболтавшись между собою, этого не успели заметить, я их увела, перетащила на другую аллею, что-то придумав, что-то наврав, нет, я бы просто умерла, если б они эту пару увидели! Отец и его вечные романы...
Переключились на Грету Гарбо: играла ли она в немых фильмах или же мы сразу ее увидели в звуковом кино? И вообще в каком году появилось звуковое кино? Вспомнить не могли. Грета Гарбо у меня тоже связана с кинотеатром «Ориант»: белый двухэтажный дом, справа и слева магазины, а ближе к Бульварному проспекту две парикмахерские, одна называлась «Мадам Бланш», другая — японская, на вывеске иероглифы...
Тут Фима обратил наше внимание на образовавшуюся вокруг нас пустоту — исчезли люди, сидевшие за соседними столиками... Мы поймали печально-вопросительный взгляд официанта и поняли: наступил час вечерней трапезы. Одно из двух: либо уходить, либо остаться ужинать. Остаться, разумеется, сколько еще недовспомнено, недорассказано. Требовалось столик освободить и перейти в другую, ресторанную часть помещения. Повеселевший официант принес меню — плотный, пополам сложенный картон размером с четверть газетной страницы, мы стали обсуждать, что будем есть, что пить, а у меня перед глазами все стояла парикмахерская, куда нас однажды повел отец... Взял за руки, скомандовал «шагом марш» и повел, но не к «Мадам Бланш», куда нас водила мама, а в соседнюю. Нас там и остригли по японской детской моде того времени: выбрили затылки и виски, сравняв волосы с боков и сзади с длиной челки, получился эдакий ровный кружок, темный у меня, светлый у сестры, — как мы рыдали! Рыдать начала я, увидев: что-то не то с нами делают. Сестра по младости лет (года три ей было?) этого не поняла, но, услыхав мой рев, заревела сама, так нас, ревущих, и доставил домой отец, сияя улыбкой, — доволен был, что шутка удалась. А мать? Догадавшись, что отец не спутал парикмахерские, как он веселым голосом пытался объяснить, но повел нас туда нарочно, упреками его не удостоила, утешая нас, прижав к себе наши головы, поверх них взглянула на отца с холодной усмешкой. Я очень помню эту усмешку, на нее, как на щит, натыкались бурные речи отца, иногда гневные, а бывало — покаянные...
— Вырвались в Париж, — говорит Нора, — остановились у друзей, с утра до вечера носимся по выставкам, по музеям. В Сиднее, говоря откровенно, скучновато. (Фима пытается перебить — не удается!) Ему-то хорошо, весь день работает, а мне... Живем на иностранный манер, каждый сам по себе, а встречаемся — о чем говорим? О детях, о внуках, о модах, о кулинарных рецептах... Боже мой! Если б Зина и Костя знали, что мы с тобою увидимся! Мы с ними тебя часто вспоминаем!
Зина и Костя... Какие Зина и Костя? А-а, да ведь это те самые! И харбинское детство, и шанхайская молодость с ними связаны, как же мне забыть Зину и Костю! Но почему это они меня часто вспоминают? А потому, оказывается, что в город Сидней, Австралия, доходит то, что я пишу в Москве за своим столом.
И вновь ощущение сквозняка, настежь распахнутых дверей... Это ощущение возникло у меня, когда я встретилась с Ларисой и она сказала, что мою книгу ей прислали из Сан-Франциско. Но если Сан-Франциско я еще могла как-то вообразить (романы, кино), то город Сидней — лишь точка на географической карте. Австралия — терра инкогнита, кто там, что там? Но эта непонятная земля, где город Сидней, есть, существует, там живут люди с детства знакомые, чай пьют, в гости ходят... А между прочим, в Канаде, в Монреале («Нонреаль» — окрестила его одна моя приятельница) тоже живут друзья детства и юности и тоже читают то, что я пишу... Ощущение огромности мира, разъединенности его частей, отрыва от прежней жизни, куда, как мне казалось, дверь захлопнулась навсегда, — размывается, исчезает. «Нонреали» становятся «реалями»...
— Живут прекрасно. У них большой дом. Ты же знаешь Костю: умница, работяга, отличный инженер...
Как же мне не знать Костю! Учились в одной школе, он и Зина на год, на класс меня старше. А с Зиной я познакомилась еще в дошкольном возрасте, жили в одном доме, играли на одном дворе. Зинин отец, высокий, худой, седоусый, больше был похож на дедушку, чем на папу. Когда он, вернувшись откуда-нибудь, появлялся со своим портфелем на дворе, Зина бросала все игры, бежала ему навстречу, висла у него на шее. Как я завидовала непринужденности этих отношений! Я ведь, напротив, пугалась появления отца — от него всего можно ждать! В разгар игры (прятки, пятнашки, классы) раздавался его окликающий голос: беги ему в лавку за папиросами, лавка всего в квартале, мог бы и сам схолить, видит ведь, что люди заняты, люди играют, нет, ему непременно нужно игру прервать, а еще следить по часам, быстро ли обернешься, — дисциплина! Случилось как-то, что я запоздала: то ли загляделась на уличную сценку, то ли размечталась — брела, отключившись от окружающего, сама себе рассказывала сказки, воображая себя их золотоволосой героиней с «глазами, синими, как сапфиры», а приблизившись к нашим воротам, увидела отца. Около него толпились все дети двора, заинтересованно ожидавшие, что-то будет? Ожидания их обмануты не были, меня провели сквозь их строй за ухо, до сегодня помню унижение этого молчаливого шествия через ворота, мимо торцовой стены нашего дома, поворот, фасад, крыльцо Зины, наше крыльцо... А затем: «В угол! Стоять смирно! Руки по швам!» Но это хотя бы без свидетелей. По-видимому, отец стремился нас воспитывать так, как его самого воспитывали в Морском корпусе: утром обливание холодной водой (господи, как мы это ненавидели!), спать нас загоняли в восемь вечера, а лето, а еще совсем светло, а игры на дворе в разгаре, но на крыльце появляется отец и восклицает веселым голосом всегда одни и те же слова: «Мыться, бриться, спать ложиться!» Это веселье я объясняла тем, что ему нравится испытывать свою над нами власть, другие дети могут приставать к своим родителям с умильными просьбами: «Еще немножечко, еще десять минут!» — мы же — никогда, ибо знаем — бесполезно, зовут — надо идти немедленно, задержишься — можешь и подзатыльник получить, опозориться на глазах у всех; значит — бросать все, бежать домой, ступеньки, дверь, гостеприимно распахнутая отцом, раздеваться, марш в ванную, ложиться! А затем — мы легли — проверка: аккуратно ли сложена одежда на стуле, поставлены ли туфли так, как нас учили, носок к носку, каблук к каблуку, — проверка закончена, спать, спать! Но не хочу я спать! Окно перед глазами, свет летнего вечера проникает сквозь занавески, слышны крики играющих на дворе сверстников, боже мой, почему мы одни такие несчастные, как хорошо было вчера, когда его не было вечером дома...
Зимой, кое-как приготовив уроки, дорываешься наконец до книги. Вчера ее пришлось захлопнуть на самом интересном месте — Дэвида Копперфилда, собравшегося бежать к своей бабушке, обокрали, ехать не на что, идет пешком, дойдет ли, — задачку я решила, упражнения по грамматике сделала, история? Бог с ней, там всего четыре страницы, успею прочитать на большой перемене, скорее сложить в ранец все эти учебники, все эти тетради, открыть «Копперфилда» — и вот они, минуты счастья! Счастья ничем не тревожимого, если отца нет дома. Но он дома. И из Дувра, куда добрел Дэвид Копперфилд, маленький, оборванный, голодный, и вот-вот разыщет свою бабушку, и как-то она его встретит, — из Дувра меня извлекает суровый оклик, и я вижу нашу детскую, сестренку, сидящую на корточках у своих кукол, темное окно, лампу, испуганно встряхиваюсь, сейчас буду врать, что все уроки сделаны, но это не поможет, все равно виновата, ведь сколько раз было сказано: читать, сидя за столом, а не развалившись на кровати; быстро пересесть, всем своим видом показывая покорность, — надо его умилостивить, а то может и книгу конфисковать, такое случалось, но, кажется, пронесло, переключился на сестренку, опять она разбросала на полу куклины платья, немедленно прибрать! И ей: мыться, бриться, спать ложиться! — а мне — взгляд на часы — дается еще тридцать минут! Нет. Не по системе доктора Спока нас воспитывали! А мать? С ней легче, с ней проще, но бывало, мы ее днями не видели: утром — редакция, вечером — уроки...
— А особенно часто, — говорю моим собеседникам, — я виделась с Зиной и Костей в Шанхае. Они туда приехали уже поженившимися. Во время войны мы жили недалеко друг от друга, я к ним постоянно забегала. Мне с ними было хорошо, они были дружной парой, казалось — вместе навек! Так оно и вышло. Но я понятия не имела, что они в Австралии! Я из Шанхая уехала, они там остались, на этом все и кончилось...
Вокруг шла жизнь французского ресторана, смех, восклицания, звон посуды, запахи еды, звуки отодвигаемых и придвигаемых стульев, кто-то рядом громко сказал, что идет сильный дождь, и я осознала, что означает этот ровный шум за плотными занавесями окна, этого следовало ждать, на дворе осень, ноябрь... Выйдем, зашагаем по лужам; выйдем — куда? Ресторан наш на углу, сюда сбегаются три улицы и рукой подать до зеленых лужаек и подстриженных деревьев Марсова поля, в хорошую погоду я люблю ходить туда с книгой, вдоль аллеи — удобные, со спинками скамьи. Одним концом, от меня далеким, аллея доходит до подножия Эйфелевой башни, другим, ближним, — до мостовой, отделяющей Марсово поле от Эколь милитэр. А сейчас вечер и дождь, аллея пуста, ни резвящихся детей, ни гуляющих туристов, скамейки мокры и потемнели от влаги, бог ты мой, как же все странно, чуть не сорок лет не виделись, я из Москвы, они из Сиднея, и вот сидим друг против друга во французском ресторане, что на углу трех улиц, невдалеке от лужаек Марсова поля...
Нора рассказывала о своей матери, я ее хорошо помнила, полная, веселая, черноглазая. Она до Австралии не доехала, скончалась в Гонконге. А моя мама умерла в Москве. Почти уже двадцать лет тому назад.
— Как же они давно умерли, наши родители! — сказала Нора.
— За исключением моего отца. Он-то умер совсем недавно.
— Что? — изумилась Нора. — Мне всегда казалось, что у тебя нет отца, что он погиб в гражданскую войну. Ты никогда о нем не говорила!
...Я никогда о нем не говорила. Из Харбина уехала в Шанхай, там у меня появились новые знакомые, они моего отца не знали, и я о нем не говорила. А старые друзья, такие, как Зина и Костя, моего отца должны были прекрасно помнить, но из тактичности о нем не спрашивали. Всем же было известно, что он нас оставил, когда мы с сестрой были еще школьницами, нам не помогал, мать билась одна, ей все сочувствовали («труженица, героиня!»), нас с сестрой жалели, нам это казалось унизительным, об отце, о неудачной семейной жизни родителей говорить не хотелось, но и без нас все всем было известно... В Харбине отец был заметной фигурой. Прославился сразу же после своего там появления: с друзьями-военными устроил как-то дебош в ресторане, что-то там разбили, заплатить нечем, в залог оставили отцовские бобры. Потом их выкупили, потом продали. Откуда это мне известно? А вот что-то слышала, и слово «бобры» застряло в памяти. Думаю, что бобры были с военной шинели отца, но точно не знаю... Был еще случай, когда отец с приятелями после попойки попал в цирк — изображалась битва индейцев на пирогах — арена была превращена в бассейн, и тут отец на пари кинулся в воду, поплыл саженками, зрители аплодировали, решив, что это очередной номер... И об этом, видимо, я узнала позже из разговоров взрослых, ведь была тогда совсем мала, это было еще при жизни няни, а она скончалась в ноябре 1921 года. Няня, с ее преданностью, няня, без которой мы бы погибли, няня, которую я любила не меньше, чем маму... Вечер. Сестру уложили спать, меня еще нет, я сижу в столовой, рассматриваю картинки в журнале «Маяк» — понятия не имею, что это был за журнал, но название его впечаталось в память, навсегда связавшись с этим страшным вечером... Рядом мать, она что-то пишет, горит настольная лампа, и вдруг из передней возглас: «Молчать!» — хлопанье входной двери, и на пороге столовой — няня. Она прикрывает щеку передником, она говорит: «Он меня ударил!» А дальше? Что сказала, что сделала мать? Не знаю. Все потонуло, все исчезло в смешанном чувстве ужаса и стыда. Няня, член семьи, в эту секунду была от нас отшвырнута, отброшена, очутилась на другом берегу, она там, а я тут, ведь это мой, мой отец поднял на нее руку! Вскочить, подбежать к ней, прижаться, сказать, как я люблю ее, но не могу: онемела, окаменела, приросла к стулу. И тем, что не могу двинуться, сижу, будто не мое дело, этим предаю няню... Было мне тогда неполных шесть лет, шли самые первые месяцы нашей оседлой жизни в доме на Гиринской улице. Дело, вероятно, было так: отец стремился на очередную встречу с друзьями-собутыльниками, няня его упрекнула: не совестно ли? А он и сам знал, что совестно, отсюда и взрыв: да как она смеет, эта старуха, да что она себе позволяет, да кто она такая? Невоздержан был этот человек, только что вырвавшийся из братоубийственной войны, невоздержан «в страстях своих»! Первые годы харбинской жизни он еще не снимал полувоенной формы — защитного цвета гимнастерка с глухим воротом, подпоясанная ремнем, зимой носил охотничью куртку, на вешалке в передней висела его офицерская фуражка. Маньчжурскими зимами, малоснежными, с ледяными ветрами, ходил с непокрытой головой (темные волосы бобриком, позже — косой пробор), чем обращал на себя всеобщее внимание. Был он строен, спортивен, моложав, шутник, остряк, душа застолий...
— А я была уверена, что он давно погиб! Думала, что кроме матери...
— Да так оно и было. Мать одна нас с сестрой вытягивала. Отец, с тех пор как нас оставил, ничем не помогал.
— Оставил вас и уехал из Харбина?
— Нет, просто взял однажды чемоданчик и ушел к своей возлюбленной.
...Ну к чему я об этом? Все было так давно, жизнь моя сложилась лучше, чем я могла бы мечтать, пора забыть, пора простить. Так я отцу и написала в середине семидесятых годов, сестра уговорила: он очень стар, он скоро умрет, он мучается, что ты знать его не хочешь! Сестра относилась к нему милосерднее, чем я; вот я и выжила из себя коротенькое письмо: забыла и простила. Но нет. Не забыла и не простила. Стоило возникнуть людям из прошлого, стоило вспомнить друзей детства, как замелькали передо мной харбинские картинки... Когда отец от нас уходил, меня рядом не было, торчала у подруги (вечно стремилась куда-нибудь сбежать из нашего неблагополучного дома), а вернувшись, узнав, что отца нет, испытала... Что? Облегчение. Не будет больше этих ссор, этих сцен, отныне в доме спокойно. Но одновременно — испуг. Теперь уже не удастся ничего скрыть от посторонних ушей и глаз, все выплеснется наружу, нас будет обсуждать «весь Харбин». Мне было пятнадцать лет; мнение окружающих, их пересуды и толки задевали меня куда больше, чем переживания родителей... Отец ушел, и вскоре все под нами зашаталось. Был он человеком хозяйственным, аккуратным, сам проверял счета у часто сменявшихся кухарок, и они, почувствовав после его ухода отсутствие твердой руки, стали нас обкрадывать. К тому же, получив развод, отец бросил свою службу в Чаньчуне, объявил, что он безработный и помогать нам не может. И уже не по карману матери стала квартирка на Гиринской улице, и начались наши бесконечные переезды. Первое время отец еще изредка к нам наведывался (когда не было дома нашей матери), затем и это прекратилось: проще нас не видеть, в наши беды не вникать. Нелегко ему было, думаю, в нашем присутствии! Выросли дети, которые прежде были слишком малы, чтобы его судить, его осуждать...
Новая жена отца была из богатой семьи самарских купцов, из этого богатства кое-что удалось в эмиграцию вывезти. «Чайный стакан брильянтов!» — говорили в Харбине. Много чего там говорили и много врали, как это всегда бывает, когда считают деньги в чужом кармане, и по поводу стакана я не уверена. Но какие-то средства у этой женщины были. И образование было, и умение работать, а главное — практичность, чего так не хватало моей матери. Невысокая, к сорока годам располневшая, некрасивая, она дружила с мамой, часто бывала у нас и очень мне нравилась — умна, остра. Какое было оживление в кругу наших знакомых, когда отец к ней ушел. «Пригрели змею...», «Вкралась в дом...», «Увела, предала...» Матери досталась роль невинной жертвы, а ведь это было не так. Ей изменяли, но и она не была безгрешна, зачем же все сваливать на «разлучницу»? Я вызывающе молчала, если при мне дурно отзывались об отце, я даже изредка к нему ходила, хотя знала: мать это оскорбляет. Однако в минуты отчаянья она сама посылала нас к нему: «Просите у отца! Он обязан в конце концов!» Мне это не нравилось, куда красивее быть гордыми — и нечего надеть, и нечего обуть, но мы горды! Эти высокие чувства не мешали мне, впрочем, иногда обращаться к отцу с просьбами. Он разводил руками: «Извини! Безработный!» А сестра? Она была тверже, упрямее, бескомпромисснее, чем я, вопрос — кто из родителей виноват больше, — ее не тревожил, безоговорочно встала на сторону матери, новую жену отца знать не желала. Переступала ли она хоть раз порог отцовской квартиры? Не думаю. А квартирка эта была премилая, для Харбина необычная: два этажа, соединенные внутренней деревянной лестницей, наверху спальня, внизу просторная комната — гостиная и столовая. Полукруглый выступ с тремя узкими окнами, эркер (слова этого я тогда не знала), светлые занавески, приятные гравюры на стенах, диван и кресла обиты веселеньким ситцем. В безоконной части комнаты — старинный буфет, овальный стол, стулья с высокими спинками... Однажды я зашла в обеденное время не без корыстной мысли: приветят и накормят. Рассчитала верно: отец с женой сидели за столом, перед ними блюдо с какими-то раковинами. Появлению моему рады не были, на лицах смущение, озадаченность. Переглянулись. Отец — жене веселым голосом: «Не беспокойся! Она не любит устриц!» И я — покорно: «Не люблю». А надо было сказать: я их никогда не ела, дайте попробовать, им бы это не понравилось, устрицы, видимо, дорогие, куплены по счету, столько-то на каждого, а я сказать не решилась, не рискнула, есть во мне эта трусливая черточка, подлаживаюсь к собеседнику, поддакиваю, угождаю... Это я ругала себя, уже идучи домой, а там, в их уютной столовой, смотрела, как они ели, капали лимоном, причмокивали, наслаждались... «А супу мы тебе дадим!» Но я не стала ждать их супа, соврала, что тороплюсь. То, что ушла голодной, немного утешало меня: хоть на это хватило духу, не унизилась, отказалась, отправилась домой. А что было тогда моим «домом»? Ну да, ну да, пустой класс Городской школы, где мама преподавала и где директор разрешил нам бесплатно прожить летние месяцы... Вот туда, в казенную тоску голых стен, я шла из славной квартирки, от стола с неведомыми устрицами, монеты на трамвай не было, разгар лета, жара и пыль, шла, то ругая себя, то жалея, и вот уже улицы Пристани с их чахлой зеленью, и шумная Китайская, и город этот казался мне тюрьмой, куда меня заключили — а вдруг пожизненно?
— Так когда же он все-таки умер?
— Два года тому назад. Девяносто шести лет от роду.
— Ого! В Харбине?
— Нет. В Швейцарии.
— Разве Швейцария пускала к себе русских эмигрантов?
— Не пускала. Но по просьбе английской королевы...
— Ты что, серьезно?
Ну, об этом рассказать можно. История вмешательства ее величества королевы в судьбы двух безвестных эмигрантов уже знакома моим московским друзьям, но я готова повторить рассказ перед новой аудиторией. Успех обеспечен: слушают не дыша... В 1956 году отец с женой отправились в США по приглашению дальней родственницы, русской, вдовы состоятельного американца. Были вызваны, чтобы скрасить одиночество этой дамы. Мебель распродана, вещи уложены, тюки, чемоданы, на полу обрывки веревок, следы грязных сапог грузчиков — вперед, к новой жизни! Жизни впереди оставалось немного: отцу за семьдесят, жене его немногим меньше. Но кто знает, кому сколько отпущено: отцу оказалось отпущено еще вдоволь... Проездом очутились в Гонконге. Иногда, вдохновившись, я описывала своим московским слушателям Гонконг: колеблемые ветром пестрые полотнища вывесок, колониальные шлемы англичан, рикши, пальмы, экзотика, море — описание неточное, банальное, общее, годное лишь для тех, кто, как и я, в Гонконге не бывал, ну а Нора с Фимой этот город знают, описание его пропустим. Итак, Гонконг. Там их ждала телеграмма: «Разорилась, принять вас не могу».
— Вообразите состояние двух старых людей в чужом городе, где они и задержаться-то надолго не могли, виза транзитная, а вместо паспорта несерьезная эмигрантская бумажка! Мольба о помощи, отправленная ими из Гонконга, имела столько же шансов дойти до адресата, сколько брошенная в море бутылка. Но — дошла! Речь идет о письме английской королеве...
(Ударное место рассказа. Волнение слушателей. Вопросы: королеве? То есть как королеве? И почему именно королеве?)
— Думаю, что эта мысль пришла в голову жене отца. Она училась в Англии, окончила в свое время Кембриджский университет. Не знаю, что именно она написала в письме, вероятно, примерно так: всю жизнь, ваше величество, преподавала ваш прекрасный язык, вашу литературу, юность моя связана с вашей страной... мы с мужем старые люди... положение трагическое... мечтаем окончить свои дни в Швейцарии, страна для эмигрантов закрытая, но если бы ваше величество...
(Тут кто-нибудь из слушателей непременно задает вопрос: а почему Швейцария? Логичнее было бы проситься в Англию! Ответ мне неизвестен. Знаю лишь, что жена отца до Кембриджа училась в пансионе где-то около города Веве, и отец мой мальчиком в тех краях бывал. Затосковали по стране детства?)
— Трудно сказать, сколько именно писем в день приходит на имя английской королевы и сколько секретарей этой грудой бумаги занимаются. Но листок с мольбой о помощи, явившийся из Гонконга, не пропал, в груде бумаг не затерялся, обратил на себя секретарское внимание, а затем и королевское...
(Второе ударное место... Слушатели потрясены. Что? И королева откликнулась? Сама королева?)
— Ну, вряд ли сама. Ответ был, конечно, подписан секретарем. Впрочем, ответа, быть может, и вообще не было. Главное чудо в том, что очень быстро, недели через две, пришла виза из Швейцарии. Эта страна, всегда нейтральная, благополучная, с ее зимним спортом, туризмом, с ее надежнейшими банками, не собиралась оскорблять улицы своих уютных городов русскими эмигрантами, в большинстве своем нищими, однако по просьбе ее величества...
Вдохновенный рассказ пришлось прервать. Убирали тарелки. Что закажем на десерт? Кто хочет кофе? Пожалуй, но только без кофеина, а то потом не заснешь. А помните шанхайское кафе «Диди»? Сидели там до полуночи, дули кофе, ни на что другое денег не было, и ничего, и прекрасно потом спали, молоды, здоровы, бедны...
— Дальше, дальше! — торопили мои слушатели. — Интересно!
Еще бы! О королях и королевах всегда всем интересно: кто не любит сказок? Это слово внезапно обожгло меня: а не сказку ли я рассказываю? И впервые за много лет я подумала: а так ли я убеждена в участии королевы? Но откуда мне это известно? От сестры? После того как отец овдовел, сестра, бывая в Швейцарии, раз в год его навещала. Значит, от сестры? Нет, не уверена. Из письма отца? Тоже не уверена. Кажется, он писал так: «Из Гонконга мы обратились с просьбой о визе в Швейцарию к ОЧЕНЬ влиятельным англичанам». А вдруг я когда-нибудь, излагая эту необычную историю, превратила для красного словца «очень влиятельных» — в королеву, а затем и сама в королеву поверила? Могло это быть? А бог его знает!
— Ну, короче говоря, они попали в Швейцарию. Городок Тур де Пэльц около Веве. Не то сняли, не то купили однокомнатную квартиру. Получали пенсию. За что? Не знаю. Видимо, таковы швейцарские нравы: раз уж пустили, пусть живут безбедно. Они и жили безбедно. Жена отца и уроки какие-то давала, привыкла работать. Потом она умерла, а отец жил безбедно и бездельно еще много лет...
Осенью 1959 года в редакции журнала «Крокодил», где я тогда еще изредка печаталась, мне протянули не нашего вида конверт, обклеенный не нашими марками, — вам письмо! Я не сразу сообразила, что марки швейцарские, их заслонил почерк на конверте, почерк-то я сразу узнала, хотя и могла бы забыть за столько лет! Я уже и не помнила, когда видела отца в последний раз... Из пустого класса Городской школы мы переехали в дом гостиничного типа на Конную улицу, там прошли мои последние харбинские годы. Письменный стол матери, заваленный бумагами, словарями, ученическими тетрадями, обеденный стол, тоже всегда чем-то бумажно-книжным заваленный (очищали угол для еды), на буфете — спиртовка, разогревали обед из ресторана «Гидулян» — мы с сестрой ходили туда по очереди с судками. Ждешь в задней комнатушке ресторана, наполненной кухонным чадом, вот плеснули тебе борщ в один судок, вот кладут жаркое в другой, вытягиваешь шею — что сегодня? Котлеты. Котлет всего две, нас трое, будем делить... Был случай, когда мы с сестрой едва не подрались из-за, прости господи, одного пирожного! Многое я могу вспомнить о годах жизни на Конной улице, но фигура отца в этих воспоминаниях не мелькает. Видимо, после «устриц» я не бывала в его славной квартирке с веселеньким ситцем. А отец, значит, нашей жизнью не интересовался. Осень 1936 года. Я собираюсь в Шанхай. Надо набрать денег на мой отъезд, мать работает ночами, переводит для газеты детективный роман с продолжениями, пальто мне дарит семья моей подруги, а мысль о том, чтобы обратиться к отцу, нам уже и в голову не приходила, я ведь так и уехала, не простившись с ним! А в Шанхае? Получила ли я там хоть одно письмо от отца? Нет. Но и я ему не писала. Шли годы. Я в СССР. Порт Находка. Казань. Москва. В анкетах, беспрестанно заполняемых, пишу: «После развода родителей отношений с отцом не поддерживала». И вот — письмо на адрес «Крокодила». Почерк отца. Марки швейцарские. Любопытные глаза: всем интересно, что это, от кого это? Из деликатности не спрашивают. Говорю спасибо, кладу письмо в сумку и, владея собой, ухожу. Мне всегда хочется думать, что я владею собой, но знаю — это не так. Уверена: изумление, растерянность, даже испуг, быть может, отразились на лице, пробежали по лицу, никогда не научившемуся прятать моих чувств и впечатлений... Скорей домой. Скорей прочесть!
В первой же фразе я услыхала голос отца: «Зная твое любящее и заботливое сердце, могу себе представить, как ты беспокоишься, так долго ничего о нас не зная! Так вот, сообщаю тебе...» Как мне знакома эта глумливая интонация! Понимай все наоборот: ни о ком я не беспокоилась, ибо бессердечна и эгоистична. И это моя вина, что наши отношения прервались на столько лет. Не он дурной отец, я дурная дочь. Вот даже адреса своего дать не потрудилась. Если б случайно не наткнулись на мое имя в журнале «Крокодил», то и не знали бы, где я и что со мной... «Заканчиваем свои дни в идеальных условиях прелестной маленькой Швейцарии. В этих краях бывал Лев Толстой, писал «Идиота» Достоевский, жили супруги Шелли... Квартирка у нас чудесная, со всеми современными удобствами, чего стоит один только вид с балкона на озеро, где горделиво плавают лебеди! На том берегу озера по горам извивается граница Франции, видны белые домики городка Шабли, знаменитого своим вином, которое очень любил мой отец, твой дед».
Итак, сначала милая квартирка в Харбине, затем прелестная квартирка в Швейцарии, да еще пожизненная пенсия — нет, была королева, была, в таком сказочном везении без королей не обойтись! Но куда он это пишет? Кому он это пишет? Перед кем похваляется? Лишь за два года до этого письма я обрела комнату, которую могла назвать своей, но квартиры у нас с А. А. Реформатским еще не было. Родная сестра отца Софья Сергеевна жила в бараке на улице Госпитальный вал. В той же комнате, отгородившись шкафами, жил ее сын с женой и ребенком. И там же скончался мой дед, любивший шабли... Позже бараки сломали, тетушка переехала в коммунальную квартиру нового дома на той же улице, а семья сына тоже получила жилье в другом доме, но в конце пятидесятых годов они еще теснились в бараке с одной уборной на четыре строения... Описав мне достойную всяческой зависти материальную сторону своей жизни, отец перешел к жизни духовной. И тут все обстояло как нельзя лучше. Отец и жена его гордились своей великой родиной, восхищались ее героическим народом, были членами Общества советско-швейцарской дружбы, раз в неделю в помещении общества смотрели советские фильмы, читали советскую периодику. Отец одобрительно отнесся к тому, что я вернулась на родину, а вот роман «Возвращение» отцовского одобрения не вызвал. «Написан он недурно, но зачем было изображать жизнь харбинских эмигрантов в таких мрачных тонах? Ведь, приехав в Маньчжурию, мы попали в старую русскую провинцию, где всем жилось хорошо!» В том числе, оказывается, и нашей семье. Как только мы зажили оседлой жизнью, родители приобрели мне детскую библиотеку, свыше ста книг. «Разве ты забыла белый до потолка стеллаж, заставленный книгами, а на двух нижних полках — куклы и игрушки? А учились вы с Гулей в самой лучшей, в самой дорогой школе Харбина!» С памятью, меня поразившей, отец через много десятков лет помнил и называл цифры своих заработков, своих взносов в семью и утверждал, что мы с сестрой ни в чем не знали недостатка. Ну, он понимает, что «Возвращение» — это роман, а не автобиография, однако «саманный домик», куда переехали из вагона Софья Павловна, няня и Таня, — это же явно тот дом на Гиринской улице, где с весны двадцатого года жила наша семья. Так вот: это был дом, вернее флигель, фаршированный, а не саманный! «В саманных ютилась китайская беднота!» Меня уличали в том, что я, стремясь разжалобить читателя, назвала этот дом «саманным»... С изумлением узнала я из письма отца, что в Шанхае мне пришли на помощь «богатые английские друзья», и я сразу же получила прилично оплачиваемую работу. Вот и нечего было изображать жизнь героини романа Тани в таких патетических тонах! Короче говоря, из соображений конъюнктурных в романе я подыгрывала расхожим представлениям советских читателей, которым кажется, что эмигранты влачат нищенское существование. А это не так! «Неужели для того, чтобы у вас печататься, надо непременно лгать?» — ехидно осведомлялся отец. Впрочем, он рад, что мне «удалось выдвинуться». Не будем говорить, какими средствами, это дело совести каждого, но — выдвинулась, и слава богу! А в конце письма такие издевательские строки: «Зная твою нежную к нам любовь, уверен, что ты не откажешься прислать нам грамм 500 копченой или соленой кеты и три-четыре коробки килек — этой чудесной российской снеди в Европе, увы, нет! Не забывай, что в твоем литературном даре я очень и очень повинен, и с твоей стороны было бы естественно отблагодарить меня хотя бы кильками!»
Неделю или больше после получения этого письма я не способна была ни на чем сосредоточиться, ничем как следует заняться — только и делала, что мысленно сочиняла гневные ответы отцу... Нет, как он смеет «рассказывать мне о моей жизни: ведь после тридцатого года он о ней ничего толком не знал! «Учились в самой лучшей, самой дорогой школе!» Вот сестра моя и осталась без диплома — за последний год ее обучения в этой дорогой школе матери нечем было заплатить! А лето 1933 года, хунхузский плен брата матери дяди Шуры? Извлечь его из плена помогали друзья, помогали знакомые, но только не он, не отец! Меня обвиняет во лжи, а сам говорит, что в Шанхае я хорошо устроилась благодаря «английским друзьям»! Не было у меня никаких «английских друзей» — миф, выдумка, вранье! Писала фельетоны в эмигрантскую газету, на построчные жить невозможно, была счастлива, нанявшись машинисткой в контору, мои работодатели оказались жуликами, сбежали, не заплатив мне за полтора месяца, шлю отчаянную телеграмму матери, получаю от нее десять йен, отдаю долг квартирной хозяйке, но оставаться у нее не могу: платить нечем... И зиму 1937/38 года я живу в благотворительном учреждении «Дом русской женщины».
Дом этот стоял на Французской концессии, рю Пэр Робер. Два этажа и мансарда, соединенные внутренней лестницей, внизу столовая и кухня, на втором этаже спальни (дортуары), в мансарде одна небольшая комнатка, там жила заведующая домом, туда же к ней поместили и меня. Учреждение существовало на средства дам-благотворительниц — француженок, американок, англичанок, и следует хранить о них добрую память: куда бы делась я и другие обитательницы дома без этой возможности какое-то время прожить бесплатно? Шанхай — один из крупнейших портов мира, и сколько же там было баров, сколько кабаков, наполненных матросами разных национальностей; вот в один из этих кабаков проще всего было «деться» молодой русской эмигрантке. Богатые иностранные дамы и пришли на помощь своим «меньшим сестрам», давая им возможность не кидаться с отчаяния куда попало, а пожить спокойно, без особой торопливости подыскивая себе работу. Меня эти месяцы в доме выручили и многих выручили, но как же было тягостно жить на счет иностранной благотворительности! Уже вторую зиму мои фельетоны появлялись на страницах газеты «Шанхайская заря», меня хвалили, знакомясь со мной, восклицали: «Вы и есть та самая Мисс Пэн?» — а я жила из милости в «Доме русской женщины»! Правда, на особом положении. Построчные позволяли мне «супа для бедных» не есть, мне нужна была лишь крыша над головой, в доме я фактически только ночевала. И был у меня, у единственной, ключ от входной двери. Для всех эта дверь закрывалась в одиннадцать вечера, я же могла вернуться, когда хотела, — работаю в газете! И поместили меня не в один из дортуаров, а на мансарду, в комнату заведующей.
От редакции до моего жилья ходу всего минут десять. Полночь. Отпираю дверь, ощупью поднимаюсь но лестнице. Зажигала ли я свет в маленькой чердачной комнате или же, чтобы не тревожить мою «сожительницу», переодевалась в ванной и пробиралась в комнату снова ощупью, в халате? А была ли ванная на чердаке? Не знаю. Все размылось, ушло, пропало, исчезло. Годами, нет, десятилетиями не вспоминала я о той зиме и вспоминать бы не стала, если бы не письмо отца. Вот тогда, мысленно сочиняя ему ответ, я увидела улицу Пэр Робер, и этот дом, и лестницу, и чердачную комнату. А вот как была обставлена эта комната, не вижу, забыла. Лицо женщины, эту комнату со мной делившей, помню смутно, а лица других обитательниц дома из памяти исчезли совершенно. Желания поближе их узнать у меня не возникало, напротив, было стремление с ними не смешиваться, не давать им повода считать меня им равной, — я здесь случайно, я ненадолго, я скоро выбьюсь, это не для меня, я не такая, как они все, я заслуживаю лучшей участи! Пройдут годы, и, наблюдая судьбы людей, куда больше меня заслуживающих лучшей участи, но на чью долю этой участи не выпало, я усвою давно всем известную истину: никто ничего не достоин, никто ничего не заслуживает! Но тогда... «Он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток...» — сказано Достоевским о Раскольникове. Однако в той молодой высокомерной убежденности (я не такая, как другие, я могу что-то, чего другие не могут!) не раскаиваюсь. Эта вера в себя, неизвестно на чем основанная и явно преувеличенная, не раз спасала меня, помогала удерживаться на поверхности, не тонуть...
Писать следует не в раскаленные минуты гнева, а «по холодном размышлении» — этому научил меня многолетний журналистский опыт. Вот, как следует остыв, я и села за письмо к отцу. В письмо почти ничего из моих мысленных гневных речей не вошло, до спора, до перебранки опускаться не хотела. О Шанхае, о «Доме русской женщины» — ни звука, но о харбинской жизни кое-что напомнила. А в заключение просила мне больше не писать.
Но он написал, разумеется, и вновь на многих страницах, — то был уже 1960 год... «Не было рубля выкупить из чистки школьную форму? Ерунда! Прекрасно можно было занять рубль у кухарки!» Какие кухарки? В тот год, когда сестре не в чем было в школу идти, мы уже давно забыли о кухарках! Никакого представления о нашей жизни не имел этот человек, а ведь жил тогда в одном с нами городе! «Хунхузский плен Александра Дмитриевича? Многих похищали, не его одного! Это только господа Воейковы из всего устраивают истерику!» Дядя Шура сидел в яме, плен едва не стоил ему жизни, а были среди «многих» похищенных и такие, кто из плена не вернулся, об этом сообщали харбинские газеты; отец не мог об этом не знать, как же он должен был ненавидеть семью моей матери, чтобы написать эти слова об истерике! Ну а это, а это зачем ему вздумалось мне напоминать: «А помнишь, как ты плакала, умоляя меня не доводить дело до суда? И только ради тебя...»
Процедура развода родителей длилась почти год. Мучительный год. Отец мстительно угрожал моей матери судом, там он собирался объявить, что ему изменили, поэтому-то он и ушел из семьи! Харбинское общественное мнение было против отца, кто-то перестал с ним здороваться, это выводило его из себя, ему требовалось перед всем миром на открытом судебном заседании доказать, что... Сегодня я спрашиваю себя: какой суд? Мы были беспаспортные эмигранты, а их судили в китайском суде. Для церковного развода — а о нем и шла речь! — требовалось согласие православного духовенства в лице, насколько я помню, харбинского епископа Нестора. Не могу себе представить епископа в китайском суде, думаю, что предполагался какой-то иной суд, общественности, быть может? Тогда я в это не вникала. Тогда за словом «суд» я видела зал, наполненный нашими знакомыми, я видела моих родителей, друг друга обвиняющих, и мне казалось, что после этого жить я просто не смогу... Выплакивая у отца обещание не доводить дело до суда, я не о матери беспокоилась, не ее жалела, — сколько еще воды должно было утечь, сколько десятилетий пройти, пока я стала думать о матери и жалеть ее, — тогда я жалела только себя, о своей репутации заботилась... Училась я неровно, но были любимые преподаватели, любимые предметы, мне удавалось отличиться (пять с плюсом за сочинение), учитель математики — несомненно, талантливый педагог, из тех, кто заставляет учеников думать! — нередко проверял класс на быстроту соображения устными задачами, и я не раз опережала других в этих состязаниях... Я издавала рукописный юмористический журнал, участвовала в школьных спектаклях. Там, в стенах гимназии Христианского союза молодых людей на Садовой улице, там шла моя главная жизнь, ее и ставили под удар события в нашей семье. Шепота одноклассниц за моей спиной, жалости одних, злорадства других не потерплю, не вынесу, лучше в школу не буду ходить! Это, кстати, я и пыталась сделать, неделю в школу не ходила, но были приняты меры, директор вызывал маму, со мною «проводили беседы», и уж не помню, какими именно аргументами убедили меня и вернули на путь истинный... Отец уступил моим просьбам и рыданиям, взял вину на себя (суда не было!), в документе о разводе (сохранен матерью, цел поныне!) написано: «...злонамеренное оставление семьи». И вот через тридцать лет в письме из Швейцарии отец счел нужным мне это напомнить! Итак, и цифры своих взносов в семью всю жизнь держал в памяти, и реестрик своих добрых поступков вел! Нашел чем похваляться: не опозорил судом мать своих детей! Нет, кончено, знать его не хочу. Никогда ни строчки он от меня не дождется! Тем более что он угрожал: «Если не будет от тебя ответа — через полтора месяца я напишу открытое письмо в редакцию «Крокодила»! Если не опубликуют, то хотя бы прочтут!» Я не поверила этой угрозе. Не может мой отец дойти до такой низости, чтобы сводить семейные счеты на страницах печати! Его взбесило мое спокойное, холодное письмо, но это пройдет, остынет, одумается. Но не одумался, не остыл...
Главный редактор «Крокодила» протягивает мне толстый надорванный конверт: «Распечатал, адресовано мне, но, начав читать, понял: меня это не касается. Возьмите. Ознакомьтесь». Взяла. Дома ознакомилась.
«...В гражданской войне я принял участие на стороне белых. Мы были разбиты. Но ни злобы, ни чувства мести не осталось в моей душе. Я никогда не принадлежал к той части эмиграции, которая считала, что русский народ в рабстве. Все, что делалось в СССР, дело рук самого народа! Я, между прочим, считаю, что моя дочь Н. Ильина совершенно правильно поехала в СССР, ее патриотизм, ее любовь к своей стране можно только приветствовать, особенно принимая во внимание, что родину она покинула ребенком в хаосе гражданской войны, и, следовательно, ее не видела, не знала. Так что «зов родины» у нее был здоровым инстинктом. Но считаю своим долгом сказать, что ее роман «Возвращение» страдает искажением действительности. По существу, все в кривом зеркале! Ни наша семья, ни семьи наших знакомых не жили так, как это описано в романе. Детство моих дочерей было вполне счастливым, учились они в самой лучшей из харбинских школ, а в Шанхае Н. Ильиной пришли на помощь богатые английские друзья и она сразу же хорошо устроилась. Зачем же лгать в романе? Русский народ завоевал себе такое положение, что не нуждается ни в какой лжи и неправде. Я убежден, что наш народ — самый одаренный народ на земле, гениальный народ, тем досаднее и обиднее видеть, что его обманывают! Согласитесь, т. редактор, что говорить правду было бы сильнее и убедительнее! Куда доблестнее уходить в неизвестность от хорошей жизни, чем бежать от нищеты, голода и унижений, — тут ведь побежишь куда угодно!»
Но разве я скрыла в своем романе, что среди эмигрантов, стремившихся на родину, были люди вполне состоятельные? А впрочем, зачем я оправдываюсь? Даже мысленно — смешно оправдываться! Перед кем? Ах, эти пламенные патриоты, все знающие о нашей жизни и из своего прекрасного далека нас поучающие! Видела я этих патриотов... Но, кстати, и сама была когда-то такой же! Интересно, однако, на что рассчитывал мой отец, сочиняя это письмо, этот донос? Неужели всерьез надеялся, что письмо опубликуют и я буду всенародно опозорена? Вряд ли. Ему просто требовалось излить свои чувства, поделиться с кем-нибудь своим возмущением — он всегда любил писать негодующие письма в редакции. Что ж, я правильно решила: не отвечать ему, молчать. Буду молчать и впредь. Не удостою его никогда ни единой строчкой...
Но прошло пятнадцать лет, и я — удостоила. Уговорила сестра. А сестру умолила Марта.
— ...Потом жена отца умерла, а он жил безбедно и бездельно еще много лет. Но не думайте, что, овдовев, он долго оставался один. Появилась Марта. Местная жительница, швейцарка, моложе отца эдак лет на тридцать пять — ему в то время было уже за восемьдесят. Полюбила его неизвестно за что! Они не съезжались, жили в разных квартирах, но Марта трогательно об отце заботилась, организовала его быт, ездила с ним путешествовать. Да, да, они путешествовали. Были в Португалии, в Испании, еще где-то...
Я говорила это, сидя во французском ресторане, а сама вспоминала слова сестры: «Марта вышла меня проводить и тут, на улице, стала меня умолять, чтобы я на тебя повлияла. И знаешь, заплакала! Он, оказывается, очень мучается, что ты знать его не хочешь! Ну что тебе стоит? Напиши ему хоть две строчки!» — «Я напишу ему две строчки, а он в ответ напишет мне двадцать страниц!» — «А я скажу ему, что отвечать не надо. Послушай, ведь в самом деле он так стар, ему почти девяносто, он скоро умрет! И Марту жалко. Она так плакала!»
Какой она, интересно, была, эта Марта? Я представила ее себе так: худощава, очки, туфли на низком каблуке, старая дева, родившаяся в этом городке, его красоты, его старины не замечавшая, привыкла... Быть может, именно отец открыл ей глаза на прелесть пейзажа, озера, замка графов Савойских, рассказал, что в этих краях бывал Лев Толстой и писал «Идиота» Достоевский... Отец был недурным рассказчиком, знал и любил литературу. И вообще этот русский господин с удивительной жизнью отличался от всех, кого Марта знала, ни на кого не похож, яркая фигура на фоне примелькавшихся скучных швейцарских буржуа. Возможно, поначалу Марта, жившая по соседству, навещала отца из христианских чувств: стар, одинок. А затем уже и представить себе не могла, как она раньше жила без него, без его рассказов; чего он только в жизни не видел, чего не испытал! Привязалась. Полюбила. Жалела его. Плакала при мысли, что он скоро умрет. Мне казалось, что я вижу, как она внезапно заплакала на улице, бормоча: «Ничего, ничего, сейчас пройдет, простите!» — и, сняв очки, нашаривала в сумке платок, а сестра моя растерянно говорила: «Я постараюсь... она напишет!» Вот я и написала несколько слов, чтобы успокоить Марту и потому, что он скоро умрет. Но умер не он. Спустя год или полтора после этой уличной сценки умерла от рака Марта. Я рада, что мое письмо застало ее в живых. Коротенькое письмо, несколько строк: дескать, все забыла, все простила. Было это в середине семидесятых годов.
Но не забыла и не простила. В начале годов восьмидесятых, когда отца уже не было на свете, я рассказывала о его судьбе так, как рассказывают о забавных, курьезных случаях... Везло ему, в самом деле, феноменально! После кончины Марты возникли добрые соседи, об отце заботившиеся, но главное, сам он почти до самой смерти был вполне подвижен и зряч, лишь оглох слегка, и это в девяносто с лишним лет, железного здоровья человек! И, говоря о нем, я минутами забывала, что речь идет не о ком-то постороннем, а о родном отце! Но вот писем его почему-то не уничтожила и, хотя чуть не четверть века к ним не прикасалась, помнила, где они лежат. Будто знала: настанет время, и мне захочется их перечитать.
Это время настанет. Я извлеку со дна одной из полок секретера большой конверт, придавленный множеством папок, вытряхну его содержимое на стол и удивлюсь, увидев, что кроме листков бумаги, исписанных почерком отца, на доску стола выпадет еще и маленький конверт с надписью: «Мои детские письма». Там и в самом деле оказалось два моих детских письма, я забыла о них совершенно, я не помнила, каким образом они здесь очутились...
Первое адресовано «милому дедушке». Спотыкающийся почерк шести-семилетнего ребенка, помарки и две кляксы говорят о муках творчества: делалась попытка описать милому дедушке, какими предметами были заполнены две нижние полки белого стеллажа, стоявшего в нашей детской: «...а еще у меня есть красная дощечка, на которой нарисована стеклом баба из снега, я поставила эту картинку на кукольное пьянино, около пьянино стоит зеленая скамеечка, на ней сидит японка Мимоза-сан, потом китаянка Ли, потом пупс Перепетуя, потом обезьянка Апа. А еще есть бархатный розовый зайчик только он превратился в серова потому что я его запачкала и еще коричневая собака...» Внизу приписка почерком отца: «Письмо это написано нашему отцу, но не отослано, так как пришло известие о его кончине. Посылаю его тебе, дорогая Софьюшка!» Второе письмо адресовано «милому папе». Почерк другой, было мне, видимо, уже лет одиннадцать... Мы живем у дяди Александра Дмитриевича на станции Эхо, отец — в Харбине. Для разгона я пишу о погоде («У нас ужасная жара!»), затем о каком-то утерянном «синем шаре», а в конце перехожу к главному — вымогаю подарок ко дню своих именин: «У Вадима есть очень хорошенький альбом для марок. Ах! Если б у меня был такой же!» Приписка отца: «Альбом для марок был ей куплен».
Все вспомнила. Эти письма были мне переданы сестрой отца Софьей Сергеевной, в самом конце пятидесятых годов. Она же получила их из Швейцарии. Переписка между отцом и его сестрой, на какое-то время прерванная, возобновилась в послевоенные годы, и я убеждена, что отец в письмах излагал свою версию событий, происшедших в нашей семье. Обвинял мою мать, а себя оправдывал. Для детей делал все, что мог, и жили дети вполне благополучно. В качестве подтверждения и был отправлен из Швейцарии в Москву мой детский лепет — других доказательств у отца не было. И быть не могло. Что я взялась тут же объяснить тете Соне.
Тетя Соня... В какое-то из воскресений августа 1960 года, томясь одиночеством в еще чужой мне Москве, я раздобыла в справочном киоске на площади Восстания адрес своей никогда не виденной тетушки и сразу же двинулась в путь. Путь был долгим. Пешком до метро. Потом пешком до трамвая. Выйдя из трамвая, я очутилась на улице с невеселым названием Госпитальный вал, справа — ограда кладбища, слева — обнесенные низким забором угрюмые строения казарменного вида, я не знала, что они называются «бараки», я очень надеялась, что не тут живет моя тетя, а подальше, в одном из многоэтажных, приличного вида домов, но надежда не оправдалась. Именно тут, в одной из этих казарм, следовало искать свою родню... Широкий длинный коридор, один ребенок катается на скрипучем трехколесном велосипеде, другой — где-то рыдает, из коридорных глубин надвигается растрепанная женщина со сковородой, на сковородке дымится жарево, вам кого? Сюда, направо (указывает сковородкой), замка нет, значит, дома, идите, дверь не заперта, и я вхожу. Передняя — квадратная, просторная, освещенная лампочкой слабого накала, в углу тазы, ведра, одно мусорное, другое чистое, на гвозде ковш, похоже на кухню казанской избы, где я угол снимала, стучу в другую дверь — да, да, входите! Лиловые астры в вазе на столе, в простенке между двумя большими окнами — стол письменный, над ним застекленные фотографии, навстречу мне идет старушка (думала я тогда), пожилая женщина (сказала бы теперь), ростом мала, худа, седа, длинноноса, вижу впервые, а лицо знакомое — темные брови дугами и зеленые, широко расставленные глаза напоминают моего отца. Я дочь вашего брата, Софья Сергеевна. Недавно приехала из Китая. Маленькая сухая кисть вцепилась мне в предплечье, меня подталкивают к простенку. Фотографий над столом множество — дамы с высокими прическами, юбки в пол, блузки, рукава фонарями, крахмальные, в подбородок упертые воротнички усатых мужчин, интерьеры с диванами, креслами, люстрами, а вот застолье с самоваром, а вот крокет на лужайке, запечатленные минуты рухнувшего мира, меня толкают немного левее, там крупным планом две головки, две девочки с бантами, хорошенькие девочки — которая? Эта. Старшая. Тетя Соня заплакала.
Она поразила меня тем, что через десять минут знакомства стала предлагать мне поселиться у нее. Прекрасно поместимся. Видишь — комната огромная, тридцать метров. Сережа с семьей за шкафами, твою кровать поставим здесь, ты никого не стеснишь! Позже, приезжая навестить меня, никогда не являлась с пустыми руками, то конфеты привозила «Южный орех» (были тогда такие!), то пирожные, а зарплата скромная — учительница французского языка в средней школе. Позже на свою пенсию, еще более скромную, одаривала мою парижскую сестру и ее дочерей. Каждая из них у тети Сони побывала (она жила уже в приличной комнате нового дома), я их туда по очереди возила, нас ждали с накрытым столом: чай, бутерброды, пирожные, бутылка вина. А затем, после чаепития, извлекался конверт, в нем — десять, пятнадцать, а было и двадцать рублей! «Я твоего вкуса не знаю, а деньги пригодятся всегда!» Этого момента я всегда ждала с испугом, каждый раз надеялась, что он не наступит: ведь сколько раз я убеждала тетю Соню этого не делать, но нет, ничто не помогало! Одаряемая отказывалась — тетя Соня начинала плакать. Утешить ее можно было лишь одним: принять конверт. На моих парижан, привыкших к французской бережливой расчетливости, гостеприимство и щедрость тети Сони, жившей в коммунальной квартире, производили впечатление оглушительное. Приняв наконец конверт, плакала, одаряемая. Обнявшись, простившись, спускались, садились в мою машину, двигались, и тут выяснялось — с нами едет какой-то пакет, сунутый в последнюю минуту, уже когда мы в лифте были. Что в пакете? Пирожные! Которые были на столе. Мы их не ели, вот она и... Зачем ты взяла? Я не знала! Я думала, это твое, думала, ты что-то забыла! Весь обратный путь мы говорили о тете Соне, умилялись ее доброте, придумывали: что мы можем для нее сделать? А главное, а главное, что я могла бы для нее делать, — навещать ее почаще, этого как раз я и не делала! Она существовала где-то на обочине моей жизни... Я получала от нее письма (лиловые чернила, четкий, красивый почерк), со мною делились впечатлениями от прочитанных книг, и никогда ни слова упрека... Она умерла... Господи! Вот я даже точно не вспомню, в каком году? Семьдесят третий? Семьдесят четвертый?
И эту-то тетю Соню я ужасно ругала, что она из своего тогдашнего барака отправила в прелестную маленькую Швейцарию кильки и кету. Она беспомощно повторяла: «Но Ося просил!» И этой-то тете Соне я взялась доказывать, что ее брат был дурным отцом и вел себя по отношению к нам недостойно. Куда было бы человечнее, куда благороднее в эти объяснения не пускаться. Она была на пять лет младше своего единственного брата, помнила его молодым, веселым, красивым офицером, любила его, а когда-то гордилась им. Оставить бы ее в покое! Но нет. Я же вечно должна бороться против того, что мне кажется неправдой, объяснять, доказывать, навязывать другому свои взгляды — черта, унаследованная от отца. В молодости веришь, что переубедить другого возможно, лишь бы объяснить как следует, лишь бы слова найти, но эта наивная вера не покинула меня и в годы немолодые... Вот я и приставала со своей правдой к тете Соне, а она — грустно отмалчивалась...
В те годы, когда я из ее рук получила мои детские письма, мне в голову не пришло задать себе вопрос: а зачем отец их хранил? Зачем возил с собой? Я прочитала их, спрятала и забыла. И не вспомнила бы, что они есть у меня, если б недавно, выпав из конверта, они не попались мне на глаза. Тут-то этот вопрос я себе и задала. Не в характере отца было держаться за старые бумаги. Это мать хранила письма, дневники, документы. И не только свои! После кончины матери, разбирая ее архив, я наткнулась на бумаги, касавшиеся моего отца. Свидетельство о том, что в метрической книге церкви Иоанна Богослова на Бронной есть запись о крещении младенца Иосифа. Затем бумага, из которой явствует, что кадет Морского корпуса Иосиф Ильин подлежит исполнению воинской повинности в 1906 году. И наконец, грамота о принадлежности отца к потомственному дворянству Костромской губернии, скрепленная сургучной печатью. Значит — покидая нас, укладывая свой чемодан, эти бумаги, уже тогда, вероятно, пожелтевшие (а с тех пор еще полвека пролежавшие!), эти останки исчезнувшего мира (на каждой — почерк писца с завитушками, яти, твердые знаки, сургучная клякса с вдавленным гербом), так вот ЭТО отец с собой не взял. А детские каракули в чемодан уложил, унес, увез, сохранил. Сколько же драгоценных документов, сколько чьих-то гениальных строк утеряно, сожжено, потоплено, погибло в бомбежках, а «письмо к дедушке», чепуховый разлинованный листок с помарками, все пережил, уцелел, остался. Зачем?
Я стала перечитывать письма отца... «Хотя мой брак с твоей матерью был глубоко неудачен, все же с чувством щемящей грусти я вспоминаю дом на Гиринской улице, и вас двух малышами...»
Чем же был ему мил этот дом, эти тесные комнатки с низкими потолками и окнами в палисадник? Тихая пристань после ужасов войны, после скитаний на лошадях, в вагонах, в теплушках. Можно дух перевести, оглядеться, изумиться тому, что все живы, спасены, чистым чудом спасены. И хлопоты устройства. И стремление создать подобие нормальной жизни детям, не понимавшим, что они чистым чудом спасены и что жизнь их ненормальна. Это все, конечно, временно. Мы вернемся. То, что происходит в России, не может длиться долго. Мы вернемся. Но годы шли, и все меньше оставалось надежд на то, что ТАМ все скоро изменится и мы вернемся. Дети росли... Я вижу отца, в его защитного цвета, ремнем подпоясанной гимнастерке, молодого, подтянутого, бодрого и вскоре отчаявшегося найти свое место в новом, непривычном существовании. За его молодецким видом, за его выходками и шутками пряталось чувство униженности — моя мать относилась к нему пренебрежительно, с его самолюбием не считалась. «Когда люди ссорятся, виноваты оба», — сказано устами Пьера Безухова. Мои родители и были виноваты оба. Но откуда же «щемящая грусть»? Нет больше на свете тех малышей, которых он любил, которых воспитывал, пусть строго, но так и должно детей воспитывать, рядом с нами он был в привычной ему роли командира, в детской чувствовал почву под ногами... Это он заставил меня, шестилетнюю, сочинить письмо дедушке Сергею Иосифовичу, которого помнить я не могла, а в награду за муки и старанья (откидывала с потного лба лезущие в глаза волосы, пугалась клякс, переписывала, измазалась чернилами) — в награду за плечо потрепал: «Молодчина!» — и добавил: «Иди умойся». Но пришло известие о смерти дедушки, сочинение мое отправлено не было, через много лет уехало с отцом в Гонконг, затем в Швейцарию, и кто бы мог думать, что еще через много лет письмо это в конце концов придет именно туда, куда было адресовано: в Москву, на улицу Госпитальный вал. А в тысяча девятьсот пятьдесят каком-то году вновь явится перед своим автором, передо мной. Забавно, конечно, увидеть свой почерк, навсегда исчезнувший, усмехнуться над своими первыми муками слова. Вот, позабавившись и усмехнувшись, я сунула листок в конверт вместе с отцовскими письмами и вскоре забыла о нем. И он еще годы и годы лежал во тьме одной из полок секретера, задавленный многочисленными папками, и возник перед моими глазами лишь во второй половине восьмидесятых годов. Зачем?
А затем, быть может, чтобы теперь, когда я стара, а отца нет на земле, заставить меня задуматься над его судьбой, иначе прочитать его письма... Вот он из своей маленькой Швейцарии находит нужным сообщить мне в Москву цифры своих заработков, своих взносов в семью. Сколько ж десятилетий держал он в голове эти цифры, записывал их, что ли? Нет. Эти цифры впечатались в его память, ибо служили оправданием, утешением — делал для семьи что мог и пока мог. Ведь потом-то, когда он оставил свою службу в Чаньчуне, он уже ничем нам не помогал, жил на средства жены. Безработный. Мир кишит безработными. Вот его оправдание. А утешиться он пытался тем, что мы без него прекрасно обходимся. Именно это он мне и внушал в своих письмах из Швейцарии, даже каких-то английских друзей сочинил, будто бы приветивших меня в Шанхае. Как я кипела, как возмущалась, читая об этих мифических друзьях! А теперь спрашиваю себя: а не были ли придуманы эти друзья женой отца, чтобы успокоить его, чтобы его не точило, не грызло чувство вины передо мной? Было у него чувство вины, было, оно так и проступает между строчками его швейцарских писем, прячась то за глумливыми интонациями, то за хвастливыми... Вот я до сегодня помню, как меня устрицами не угостили, помню, как было унизительно просить о чем-то отца и получать отказы, а он? Сам-то он разве не был унижен? Не за его счет были куплены эти устрицы, не было у него денег, своим трудом заработанных. «Всегда за чужой спиной!» — говорила о нем бабушка Ольга Александровна. Так оно и было, начиная с февраля двадцатого года, начиная с харбинской жизни. Ну, были у него случайные, неверные заработки, а потом Чаньчунь (а что он там делал? Не служил ли в охране какого-нибудь китайского миллионера — это вполне возможно!). А затем — спина второй жены... Хорошо ли ему жилось в уютной харбинской квартирке с веселеньким ситцем? Никогда прежде я об этом не думала, никогда не пыталась стать на его место... Когда он в своем письме нашел нужным вспомнить, что тридцать лет назад я выплакала у него обещание не доводить до суда дело о разводе, я возмутилась: «Нашел чем похваляться!» А недавно, спустя еще четверть века, перечитывая эти же строки, я подумала: «Какой же, он, в сущности, был несчастный человек!»
Читать учишься всю жизнь. Один и тот же текст в разные периоды жизни воспринимается по-разному. Какие-то слова, какие-то фразы, глазами прочитанные, но скользнувшие поверху, разума и души не задевшие, внезапно ударяют, внезапно обжигают, и удивляешься: как же я прежде этого не увидела, почему раньше не сумела прочитать?
Очень рассердила меня в свое время просьба отца прислать ему кубок... «Уцелел ли у тебя мой серебряный кубок? Очень прошу вернуть его мне!» А ведь отец сам когда-то подарил мне этот кубок — первый приз, полученный на конноспортивных состязаниях 1911 года! Высокий, узкий, кверху немного расширенный, с выгравированной надписью: «Concours hippique 1911», он украшал своим благородным видом все мои разнообразные жилища, меня обкрадывали, но на кубок много лет никто не покушался, он таинственно исчез уже из дома, где я живу теперь, и сегодня украшает чье-то мне неведомое жилище. Но когда пришло то, первое отцовское письмо, кубок был еще у меня, я любила ставить в него цветы. Полевые цветы кубку не шли совершенно, всего лучше выглядели в нем розы, а на худой конец — гвоздики. В гвоздиках есть нечто холодно-казенное, их не дарят, их «вручают», но кубок своими очертаниями, своим скромным блеском облагораживал эти цветы, снимая с них налет официальности... Итак, получив требование вернуть кубок, я рассердилась.
А спустя много лет, перечитывая отцовские письма и наткнувшись на слова о кубке, я внезапно увидела перед собой фотографию отца, сделанную в те, довоенные годы, когда он побеждал на конноспортивных состязаниях. Быть может, именно в том 1911 году? Он сидит в своем кабинете, откинувшись на спинку дивана, локоть на валике, ладонь подпирает щеку, ноги в сапогах вытянуты и скрещены, и хотя военный китель застегнут на все пуговицы, — поза свободная, непринужденная, домашняя. Человек — дома. В своих стенах. А на полосатых обоях этих стен — семейные фотографии в рамках и подвесная полочка с книгами, а на круглом столике лампа тех лет, вероятно, керосиновая. Человек у себя. И право вот так сидеть, откинувшись, задумавшись, — право заработанное. Дело, ему порученное, выполняет, знает, делает его хорошо, а кое-что умеет делать отлично. Отличный наездник. Отличный стрелок.
И вот в прелестной маленькой Швейцарии, куда он попал благодаря чужим милостям и на эти чужие милости существующий, мой отец — все потерявший, все разбросавший, все утративший — вдруг затосковал о своем серебряном кубке. Для меня — красивая ваза. Для него — память о времени, когда он был молод, был дома и жил, уважая себя.
«Счастливая старость в идеальных условиях...» Может ли быть счастливой старость после долгих лет жизни за чужой спиной, жизни без труда, без умения хоть что-то делать как следует? Такая жизнь становится чредой поражений — кажется, у Грэма Грина я вычитала эти слова: «The long defeat of doing nothing well». Как ни бодрился, как ни хвалился мой отец, — о поражении своем он знал. И вину свою перед нами знал, поэтому и воспринял роман «Возвращение» как упрек себе. А когда я в письме своем назвала его существование «ущербным», то ударила этим по самому больному месту. Отсюда и взрыв, и желание доказать, что я лгу, лгу, лгу... и пусть об этом знает как можно больше людей, и вот сочиняется уличающее меня в «искажении действительности» послание в редакцию...
Пожалел ли он когда-нибудь об этом? Этого мне не узнать никогда... В ответ на мое коротенькое «забыла и простила» он разразился длинным письмом. «Страниц пятнадцать!» — сообщила сестра, которой были эти страницы даны для передачи мне. «Но ведь ты предупредила, что ответа тебе не нужно и читать его не будешь! Вот я это письмо и выбросила!» — «И правильно сделала!» — сказала я тогда. А теперь... А теперь мне жаль, что я так и не узнаю, что же было в этом его последнем письме.
...Найти его старые письма, вновь их прочитать меня вынудили слова человека сходной со мной судьбы: вырос за границей, на родину вернулся взрослым, живет в Москве. «С годами, — пишет мне этот человек, — я все чаще вспоминаю прошлое, и особенно эмиграцию. Мне жаль теперь, иногда почти до слез, тех, кто уходил в чужую, нерусскую землю, — многочисленных генералов, и простых солдат, и казаков донских, и казаков кубанских... Тогда их не было жалко, и все было обесценено, и все было вне России...»
Мой веселый рассказ о судьбе отца вызвал у слушателей ту реакцию, какую обычно и вызывал. «Ну и счастливчик!» — сказал Фима. «Родился с серебряной ложкой во рту!» — сказала Нора. «Э, нет, — сказала я. — Это ты с английского перевела. По-русски говорят так: «В рубашке родился!»
Когда мы вышли из ресторана, была ночь, дождь перестал, прохожих мало, да и автомобилей немного, не пришлось долго ждать возможности пересечь мостовую, все было умыто дождем, блестели крыши стоявших у обочины машин, отражались в лужах огни уличных фонарей, а когда мы очутились на противоположном тротуаре, то увидели темную массу деревьев пустынных садов Марсова поля и дальний контур Эйфелевой башни. И я подумала, что люблю приезжать в этот город, радуюсь каждой встрече с ним, но до чего же мне было бы страшно остаться в нем навсегда.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





