ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
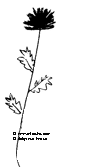


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кузнецова Агния

1
Антон Веселый свернул в
переулок, где помещалось театральное
училище, но путь ему преградила плотная
толпа молодежи. Толпа шумела, кричала,
прорываясь в глубь переулка. Задние
нажимали, а передние взывали к их совести:
«Тише! Задавите!»
Работая локтями,
Антон попытался втереться в толпу.
—
Ты куда, птенец?
— Так двину, что в
забор влипнешь!
— Я в училище... на
первый тур...— стал объяснять Антон.
—
А мы куда? В магазин за бубликами? —
огрызнулся красавец парень и действительно
двинул Антона так, что он хоть в забор
и не влип, но выскочил на середину
тротуара и чуть не сшиб с ног выходившую
из ворот девушку.
— Сумасшедший, —
спокойно сказала она, отступая. Увидев
гудящую в переулке толпу, она улыбнулась
и понимающе взглянула на Антона.
«Не
глаза, а фонарики...» — про себя отметил
Антон. Ему представился темный фон
сцены, а на нем сверкают и качаются два
горящих фонарика.
— На первый тур? —
спросила она. Фонарики прошлись по
щуплой фигурке Антона, по его черным
волосам, унылыми прядями свисавшим на
лоб. Потом они встретились с испуганными,
раскосыми глазами Антона, чуть-чуть
припухшими, словно бы от бессонницы.
Девушка взяла Антона за руку и повела
во двор, из которого только что вышла.
— Дитя мое, — с покровительственной
улыбкой сказала она и кивнула на маленькую
калитку в глубине двора, — войдешь туда
и по черному ходу — в училище. Понял?
Там по коридору и наверх пред светлые
очи комиссии. Ну, ни пуха тебе, ни пера!
— К черту! — воскликнул Антон и
помчался к заветной калитке.
А Нонна
Соловьева смотрела ему вслед и вспоминала,
как год назад она вот так же мчалась к
спасительной калитке, чтобы через нее
попасть на первый тур, потому что
проникнуть в училище обычным путем,
через парадную дверь, было, как и теперь,
невозможно.
Семьдесят абитуриентов
на одно место! На двадцать мест тысяча
четыреста человек, и все они — здесь, в
переулке. Как отобрать из них двадцать
(всего только двадцать!) и не ошибиться?..
Рост, ноги, голос, темперамент и даже
прикус — все надо учесть. Но главное:
есть ли «от бога»? А то, что «от бога»,
иногда так глубоко запрятано, так
закрыто, что и не разглядишь сразу.
Она
читала тогда стихотворение «Ночевала
тучка золотая...». Было в нем грустное
очарование ее собственной первой
любви... Она тревожно предчувствовала,
что любовь эта, подобно золотой тучке,
исчезнет, оставив незабываемый след.
Была в этом стихотворении грусть о
короткой и неповторимой юности. Еще
чудилась Нонне в стихах тоска по друзьям
детства, уже потерянным на всю жизнь. И
мучительные воспоминания о рано умерших
родителях пробуждали эти стихи. И Москву,
любимый свой город, видела Нонна в
могучем утесе, погрузившемся в прекрасную
лазурную даль, по которой бродят золотые
тучки...
Вот уже целый год размышляет
Нонна о том, есть ли у нее «от бога», или
она, как многие, как большинство,
просто-напросто успешно осваивает школу
Станиславского...
Нонна снова вышла
в переулок и, уже не обращая внимания
на толпу абитуриентов, направилась к
автобусной остановке.
В автобусе она
вспомнила смешного мальчишку, которого
через двор провела на конкурс, и
улыбнулась. Улыбнулась, глядя на какого-то
парня и не замечая его. Но он многозначительно
ухмыльнулся и на остановке около
киностудии выпрыгнул следом за ней.
Попробовал было сказать пошленький
комплимент... Но она столь блестяще
разыграла сцену презрения, что он,
обескураженный, оробевший, поплелся
назад к остановке.
А Нонна, тоже вдруг
оробевшая, вошла во двор киностудии,
где должны были делать «пробу», увы, уже
четвертую в этом году.
«Не везет,—
думала она,— то «проба» получается
плохая, то отменяется фильм, то назначается
новый режиссер и заменяет актеров». А
уверенность в том, что она актриса именно
кино, а не театра, ее не покидает. Вот не
везет, и только!
Нонна убеждена, что
будущность актера зависит только от
одного: повезет ему или нет. Сложатся
ли обстоятельства так, что на пути
окажется тот самый режиссер и будет ли
предложена та самая роль... Она верила
в судьбу, только в судьбу.
Но вот Нонна
уже на втором курсе, а звезда ее еще не
взошла. И взойдет ли когда-нибудь? Все
чаще и чаще она теряет уверенность в
этом. В училище ее не отличают от других
студентов, на киностудиях ролей не дают.
Она сидела перед зеркалом в студии,
и гример — женщина неопределенного
возраста, сама искусно загримированная,
— говорила, ни на минуту не умолкая, о
том, что стихия восстает против покорения
ее человеком, поэтому в мире наводнения,
ураганы, ливни, морозы...
Наложив тон,
она замолчала.
Режиссер, которого все
звали Игорем, в стандартной замшевой
курточке, сказал, прищуривая глаз и
разглядывая лицо Нонны:
— Тон сделайте
слабее. Слишком большие глаза получились.
Они у нее и без того...
Гримерша принялась
переделывать лицо Нонны и снова
заверещала, теперь уже, наоборот, о
величии человека в покорении стихии.
Перед аппаратом, освещенная юпитерами,
задыхаясь от жары, Нонна репетировала
роль девушки-партизанки. Ей казалось,
что режиссер и оператор остались
довольны.
Выходя из студии, она
неожиданно столкнулась с тем самым
мальчишкой, которому указала путь через
двор. Она даже испугалась. Ей показалось,
что он появился в ее воображении.
—
Прочел прозу, стихи, басню. Как прочел
— не понял от волнения. Контроль
потерял...— сообщил он Нонне.
— А...
что ты тут?
— Да так,— отмахнулся
мальчишка.— А ты?
— Да так! — передразнила
его Нонна.
Они вышли на улицу.
— Ух
ты! Хорошо-то как! — Он воздел руки к
небу. И чистое небо с краем, освещенным
солнцем, и провода над головой, на которых
сидели галки, он мысленно перенес на
сцену. — Да, кстати, я — Антон Веселый,
а ты?
— Я — Нонна Угрюмая.
— Нет, я
же серьезно.
— Ну, тогда Соловьева.
— А почему не Фонарикова? — разочарованно
протянул Антон. Нонна не поняла и пожала
плечами.
Вечер и в самом деле был
удивительный. Солнце кидало на землю
свой добрый прощальный взгляд. И все —
тротуары, дома, макушки деревьев —
розовело, загоралось, оживало под этим
взглядом.
— Недаром молились и
поклонялись Светилу в древние времена!
— воскликнул Антон, блаженно хмурясь
и даже хорошея под солнечными лучами.
Несколько километров они прошли
пешком, взахлеб рассказывая друг другу
о себе. А потом сели в троллейбус и
поехали к Нонне домой.
В тот вечер у
Соловьевых Антон познакомился с
девяностолетней бабушкой Нонны, в
прошлом известной балериной.
Бабушка
пришла поглядеть на гостя, одержимая
любопытством старого человека, запертого
в четырех стенах. Она долго шла от своего
кресла до комнаты Нонны, с трудом
передвигая больные ноги в клетчатых
туфлях. Когда бабушка появилась в дверях
— старая-престарая, маленькая и
сгорбленная, — Антон вскочил в
растерянности.
Она величаво протянула
ему сухую руку, с гордостью сказала:
—
Марфа Миронова. — И с капризной
придирчивостью спросила: — Надеюсь,
молодой человек видел меня на сцене?
Ему было всего девятнадцать. Видеть
ее он не мог. Он читал о ней книги. Знал
из них о ее необычайной красоте и таланте,
в свое время потрясавшем людей.
Бабушка
медленно повернулась и поплелась назад
к своему креслу. В этом кресле она дремала
целыми днями... Иногда она смотрела на
свои старческие ноги, и ей чудились
крепкие стройные ножки в бледно-розовых
балетках на пуантах. Разглядывала
сморщенные руки свои, и ей казалось, что
они вот-вот начнут трепетать крыльями
«Умирающего лебедя»...
Она вспоминала
свое прошлое уже без волнения, будто не
о себе вспоминала, а о ком-то другом,
постороннем.
За бабушкой ухаживала
женщина, тоже старая, но еще бодрая.
Когда-то она была билетершей в Большом
театре. Она называла себя компаньонкой
и гордилась тем, что была свидетельницей
бабушкиной славы.
А больше у Нонны
никого не было. Отец и мать умерли, когда
ей едва исполнилось три года.
Впрочем,
была еще тетка, сестра отца. Но она
давным-давно, еще до второй мировой
войны, вышла замуж за немца и уехала в
Мюнхен. С тех пор даже слухов о ней не
было...
Нонна узнала, что Антон приехал
в Москву из Сибири и держит экзамены на
режиссерский факультет.
С первого
взгляда Антон показался ей необычайным.
Это впечатление не исчезло и после
целого вечера, проведенного вместе, не
исчезло и через год. Антон действительно
был человеком своеобразным, со своим
«царем в голове».
Нонна любила
преувеличивать. Поэтому она сразу
решила, что Антон гениален. Так она и
представляла его своим однокурсникам
и знакомым.
Он оказался среди немногих
счастливчиков: его приняли в училище.
— Повезло! — сказала Нонна.
Антон
не согласился. Он считал, что родился
на свет режиссером. Его не могли не
принять!..
2
Осень. Грустная осень.
Как ни пытаются художники опоэтизировать
ее,— все равно это конец тепла, света,
ярких красок, ласкающих глаз. Небо
хмурое, злое. Мокрые дома и дороги. Нудный
шорох неумолкающего дождя.
На скамейку
возле училища сел паренек в плаще
болотного цвета и таком же берете.
—
Не уходи,— сказал он, обращаясь к
старушке, проходившей мимо него под
зонтом и в резиновых ботах. — Не уходи.
Без тебя мне одиноко и даже страшно...
Старушка прибавила шаг, но, взглянув
на вывеску, которая была рядом с дверью:
«Театральное училище», успокоилась и
даже улыбнулась парню.
В вестибюле
училища девушка перед зеркалом сперва
поднимала правую бровь и опускала левую,
а потом поднимала левую и опускала
правую.
По лестнице, энергично
постукивая каблучками сапог, спешила
Александра Антоновна — художественный
руководитель второго курса. В черном
английском костюме, в белой кофточке,
с подсиненными седыми, коротко
подстриженными волосами, она вся была
тщательно промытой, свежей и бодрой.
Невозможно было подумать, что ей больше
семидесяти, что вчера после просмотра
ее курса кафедра заседала до двух ночи
и что уснула она только в четыре часа.
А сейчас было без пяти девять. Ее
недоспавшие студенты вяло раздеваются
в гардеробе, а некоторые опоздают или
же вовсе не придут, и потом она обрушит
на них свой гнев.
В училище сегодня
сенсация. Известный режиссер привез с
периферии воспитанницу детского дома,
недавно окончившую школу. И ее (подумать
только!) без экзаменов зачислили прямо
на второй курс.
Все идут разглядывать
новую студентку Люсю Бояркину. Ничего
особенного нет в ее внешности: небольшая,
вертлявенькая. Лицо похоже на лисью
мордочку, зеленоватые глаза смотрят с
грустной хитринкой. Волосы зачесаны
назад и резиночкой высоко собраны в
длинный, почти до талии хвост, тоже
смахивающий на лисий — рыжий, пушистый.
Разглядели и одежду: совсем не модное
серенькое платье в талию, с черными
пуговицами спереди; узконосые, сильно
поношенные туфли; чулки — капрон, самые
дешевые, и колечко на пальце с аквамариновым
камнем. Очень красивое колечко.
Антон
посмотрел на эту студентку и сказал
однокурсникам:
— Ее приняли сразу на
второй курс? Вполне законно! Она уже
постигла то, чему безрезультатно учат
наших девиц. Что говорили нам о моде на
одной из первых лекций, вы помните?
Говорили, что торопливо подхватывать
моду — дурной тон. Мода должна отстояться.
А вы? — обратился он к девушкам.—Бездумные
челки, закрывающие самые выразительные
и необходимые актрисам человеческие
приметы: лоб, брови, глаза. Для мимики
остаются лишь нос и рот. Этого слишком
мало. Губы белые, как у утопленниц,
жуткие, прямо-таки преступные глаза в
черном окаймлении. Ну и мини-юбки,
конечно! Предвидя это, великий Пушкин
сказал: «Едва ль найти в России целой
две пары стройных женских ног». Вот и
выходит, что не для всех мини-юбки
годятся...
Антон подошел к Люсе Бояркиной
и назвал ей свою фамилию. Она улыбнулась,
оживилась, чуть-чуть даже похорошела.
Он отметил это мгновенное превращение,
подумал: «Травести!..»
Мимо проходила
преподавательница училища —
шестидесятилетняя молодящаяся женщина,
вся в янтарных украшениях: на шее бусы,
на руке браслет, в ушах серьги.
— Ой!
—сказала она, останавливаясь и протягивая
указательный палец с большим янтарным
перстнем в направлении Люси Бояркиной.
За сорок с лишним лет сценической
деятельности она привыкла играть и в
жизни. — Милочка моя, из вас выйдет
отличный мальчик. Вы с какого курса?
—
Со второго, — растерянно сказала Люся.
— Да. Травести, — вслух произнес Антон
и, окончательно разочаровавшись в новой
студентке, пошел в аудиторию.
— Я
сейчас договорюсь с вашим руководителем,
милочка, и попросим вас вечером сыграть
в спектакле четвертого курса. У нас
заболела исполнительница. Сущий пустячок
сыграть. Не волнуйтесь. Ваше имя и
фамилия? Отлично.
Она удачно сделала
приветливое лицо. Затем так же удачно
сделала приветливую улыбку.
Антон
крикнул:
— Судьба, Люся! Счастливая
звезда! Не успела вступить в училище —
и сразу дебют!
Дебют состоялся в тот
же вечер. И без репетиции. Режиссер, та
самая молодящаяся женщина, наскоро
объяснила Люсе ее роль мальчишки-газетчика
на баррикадах Парижа. Она должна была
пробежать по сцене, затем залезть на
бочку, перевернутую кверху днищем, и,
стоя на ней, размахивать газетами,
подавая условный сигнал.
Хоть роль и
незначительная, но это был первый в
жизни выход на настоящую сцену, и Люся
волновалась.
Потом она часто вспоминала
эти незабываемые минуты. Неповторимый
запах сцены, прохлада ее, приглушенный
шум зрительного зала, его слепящая
темнота и свет на сцене от прожекторов
и огней рампы.
С трепещущим сердцем
пробежала она по сцене и направилась в
глубину ее, к бочке. Но бочки не оказалось.
Люся растерянно оглянулась и сделала
второй полукруг. Но бочка не появилась.
Тогда Люся остановилась и стала
размахивать газетой. А в это время за
сценой молодящаяся женщина, опершись
локтем о сваленные декорации и картинно
подперев висок указательным пальцем с
тяжелым янтарным перстнем, распекала
рабочего сцены за упущение.
Рабочим
сцены в училище была тетя Настя —
молодая, ширококостная женщина, белолицая
и румяная.
— Я что? Я туда-сюда! Голова
аж кругом идет! — невразумительно
оправдывалась она. — Закрутят ведь эти
аскариды, до сотрясения мозгов закрутят!
— Ну зачем так? — брезгливо морщилась
молодящаяся женщина. — Аскариды! Это
же почти нецензурно!
— Милочка!
Благодарю за находчивость, — обратилась
она к Люсе, которая с пылающим лицом
появилась за кулисами. — В следующей
сцене вы выходите вместе с толпой и
стоите первая, у самой рампы. Вдали
появляются всадники на конях. Все смотрят
туда, в их сторону. И вы смотрите,
прикрываясь ладонью от солнца. Вот так.
— И она, блеснув перстнем и браслетом,
показала рукой, как нужно прикрываться
от солнца.
Выйти на сцену с другими
актерами оказалось гораздо легче, чем
одной. И Люся совсем почти не волновалась.
Она стояла вполоборота, самая первая,
ладонью защищая глаза от воображаемого
солнца и напряженно вглядываясь в лицо
молодого человека, сидящего с левого
края в шестом ряду. Позади Люси кто-то
говорил громким, сдавленным от волнения
голосом:
— Видите — они скачут! Все
ближе и ближе!
И вдруг в этот напряженный
момент в разных концах зала послышался
смех.
Люся не удержалась и оглянулась.
Все актеры, стоявшие сзади, за ней,
напряженно глядели в противоположную
сторону. Оказывается, воображаемые
всадники появились именно там.
Занавес
опустился.
— Эх ты, малютка! — со
вздохом сказал четверокурсник, играющий
главного революционера.
— Ну ничего,
ничего, милочка! — утешала Люсю молодящаяся
дама, забывшая объяснить ей, в какую
именно сторону должен был смотреть
мальчишка-газетчик.
Огорчение вскоре
забылось. Люся шла из училища и смеялась,
вспоминая поиски несуществующей бочки
и то, как старательно она разглядывала
молодого человека в зрительном зале,
когда все актеры смотрели в противоположную
сторону.
3
Театральное училище
жило своей совершенно особой жизнью.
Особой хотя бы уже потому, что здесь
собрались фанатики. В общежитиях студенты
не замечали холода, проникавшего сквозь
выбитые и незаклеенные окна.
Если
кто-то из посторонних обращал на это
внимание, они изумлялись, заверяли, что
немедленно примут меры, и сейчас же
забывали об этом. Они забывали обедать
и ужинать. Их нисколько не смущало то,
что, закончив высшее образование и став
актерами, они будут получать намного
меньше, чем их сверстники из технических
вузов.
Студенты четвертого курса
играли в дипломных спектаклях, в одном
из которых так неудачно выступила Люся
Бояркина. Они раньше времени волновались,
самостоятельно пристраиваясь на работу
в московские театры и не желая ехать по
распределению на периферию.
Студенты
первого курса со священным трепетом
приступали к изучению актерского
мастерства, делая этюды на тему: «Я в
каких-то обстоятельствах».
Им чудилось,
что в коридорах училища, в его вестибюле
их поджидают режиссеры, которые предложат
главные роли в кинофильмах или
телевизионных спектаклях.
Студенты
второго курса начинали репетировать
сцены из спектаклей и делали этюды уже
«от образа».
В один из воскресных
вечеров эти этюды показывали родителям.
Антон тоже был в зале. С утра до вечера
он не покидал училища. Его интересовало
все, что делалось на всех четырех курсах.
Он этим жил.
На сцену вышла Нонна —
высокая, с глазами-фонариками, спрятанными
под очками. Их не было видно, но Антон
знал, что они горят там, за стеклами.
Одета она была в сарафан и белую капроновую
кофточку с оборками на груди и на
обшлагах.
Она изображала сельскую
девушку-дурнушку, которая явилась на
ганцы в клуб. Нонна села на краешек
стула, подавшись вперед, готовая вскочить
навстречу любому парню, который почтит
ее своим вниманием. Но никто ее не
приглашал. И вдруг все же появился этот
кто-то... Она, не веря своему счастью, не
вскочила, как этого все ожидали, а встала
растерянная, неловкая. Хотела положить
локоть на плечо воображаемого кавалера,
но вспомнила, что она в очках и очки ее
портят. Она сконфузилась, сняла очки,
спрятала их в сумочку и в вихре вальса,
счастливая, унеслась со сцены.
Антон
аплодировал Нонне тяжелыми, сочными
хлопками. «Здорово!» — сказал он ей
взглядом и движением головы, когда она,
выйдя, чтоб поклониться, отыскала его
в зале. Она верила, что Антон станет
таким режиссером, каких еще не было в
истории театра. Его похвала была для
нее дороже похвалы Александры Антоновны.
На сцене появилась Люся Бояркина. Она
теперь была обычной студенткой, решительно
ничем не обращавшей на себя внимание.
Многие, вспоминая ее внезапное
появление почти в середине года, задавали
друг другу вопрос: «Чем же она завоевала
покровительство знаменитого режиссера?»
Люся играла роль абитуриентки на
первом туре театрального училища.
Волновалась ли она в самом деле или
так достоверно передавала состояние
абитуриентки, но у нее очень естественно
тряслись руки. Она читала стихи с таким
смешным завыванием, с таким аппетитом
проглатывала окончания и так наивно
при этом поглядывала на комиссию, которая
будто бы была в зале, что зрители
оглушительно хохотали.
Антон изумлялся.
Изумлялся тому, как неузнаваемо
преобразилась Люся, выйдя на сцену. «У
нее редкий юмористический дар», —
подумал Антон.
Когда воображаемая
комиссия прервала выступление абитуриентки
и стало ясно, что она провалилась,— Люся
пришла в такое искреннее отчаяние, что
снова захватила весь зал.
И Антон
опять изумился: теперь перед ним была
трагическая актриса.
Досмотрев
выступления второго курса, Антон пошел
в общежитие, которое помещалось в
соседнем доме. Он шел и восстанавливал
в памяти каждое движение Люси Бояркиной.
Этот удивительный переход от юмора к
трагическому. Все остальные выступления
показались ему ученическими. Померкла
и девушка в сельском клубе, изображенная
Нонной.
Дома у Александры Антоновны
почти ежедневно шли репетиции. Ее дом,
ее библиотека и даже ее заработная плата
были отданы ученикам. Книги и деньги
она давала по первой просьбе, оставляя
за собой право требовать их назад в
обещанный срок. Не полагаясь на свою
память и тем более на память студентов,
она заносила фамилии должников в записную
книжечку. И когда она вынимала из сумки
известную всему курсу книжечку в зеленой
обложке, некоторые студенты с артистическим
искусством ретировались за дверь.
В
тот памятный вечер у Александры Антоновны
проходила первая репетиция отрывка из
спектакля «Кот Васька вор», который она
предполагала сделать дипломным. Нонна
играла дворничиху, а главную роль
двенадцатилетней девочки исполняла
Люся Бояркина.
Студенты, занятые в
спектакле, пришли все вместе.
В большой,
душноватой комнате с разбросанными
книгами и стульями, непонятно почему
стоявшими посредине, их встретила
Александра Антоновна. Она, как всегда,
была «в форме»: бодрая и подтянутая.
—
Александра Антоновна! А мы вчера видели
вас в телефильме. Очень здорово! —
поспешил сказать Саша Мележ. Ему
показалось, что Александра Антоновна
протянула руку к зеленой записной
книжке, лежавшей на круглом столе около
телефона.
И она, обрадованная похвалою,
забыла открыть злополучную записную
книжку и в воспитательных целях проверить
аккуратность своих студентов.
Репетировали
несколько часов подряд. Неутомимая
Александра Антоновна почти все время
была на ногах.
— Саша, зажимаетесь! —
то и дело недовольно восклицала она.
—
Нонна, вы — старая женщина. Откуда же у
вас этот жест?
— Люся, темпераментнее.
Вот так!
И она бегала по комнате,
стараясь изобразить девочку. Она была
на высоких каблуках — и детская походка
не получалась.
— Люся, я вами сегодня
особенно недовольна,— сказала под конец
Александра Антоновна. — Вы, может быть,
нездоровы? Я не узнаю вас.
— Я... нет...
я здорова, — ответила Люся, и вдруг глаза
ее налились слезами, нос покраснел, губы
искривила судорога. Она стала очень
некрасивой и громко заплакала, совсем
как первоклашка.
Ее окружили. Стали
утешать, допытываться о причине слез.
Александра Антоновна отстранила
всех, достала из кармана аккуратно
сложенный платок, встряхнула его,
показывая, что он чистый, вытерла лицо
Люси. И молча стала ждать, что она скажет.
— Я... Я не хочу травести... Я лучше уйду
из училища, поступлю в другой вуз... Я не
хочу играть девочек и мальчишек. Я не
хочу...
— Чем же плохое амплуа травести?!
— с возмущением сказала Александра
Антоновна. — Плохих аплуа нет. Есть
плохие актеры. Да мы и не говорим с
определенностью, что вы — травести.
Время покажет.
— Но и в дипломном
спектакле я — травести. И режиссеры
будут видеть меня в этой роли...— рыдала
Люся.
— Опытный режиссер в любой роли
увидит потенциальные возможности
актрисы.
— Вы так думаете? — переставая
плакать, с надеждой спросила Люся.
—
Иначе думать и невозможно! — сказала
Александра Антоновна.
Люся поглядела
на товарищей. Они молчали. Они думали
иначе.
Судорожно вздыхая, Люся начала
одеваться. Александра Антоновна заботливо
застегнула пуговицы ее пальто, поправила
пестрый платочек на голове, выпустила
из-под него на волю кокетливую прядку
волос. И, делая это, она не переставала
убеждать Люсю в ошибочности ее взглядов:
— Актриса Бабанова, например, в
«Человеке с портфелем» играла Гогу —
мальчишку. А про нее писали в газетах:
«Бабанова утопила Москву в слезах».
Сколько десятков лет прошло, а я до сих
пор помню этого Гогу — тоненького,
надменного, со стеком в руке...
4
Нонна увела расстроенную Люсю к себе
домой. Пришел и Антон, принес бутылку
вина. Сели вокруг низкого полированного
столика: Люся в кресло, Нонна на старинный
бабушкин пуф, Антон просто на пол. Он
любил сидеть на полу, подогнув одну ногу
под себя, обнимая приподнятое колено
другой ноги.
В прихожей зазвонил
звонок — отрывисто, игриво, с перерывами.
— А! Представители медицинского мира,
Алеша или Соня. А может быть, оба вместе!
— радостно вскричала Нонна и помчалась
открывать дверь.
— Оба вместе,—сказал
Антон, увидев входивших: высоченного
юношу, который пригнулся, чтобы не задеть
притолоку двери, и не по возрасту толстую
девушку.
— Это Алеша,— представила
Нонна. — Правда, похож на Христа? — Ее
глаза-фонарики подозрительно разгорелись,
что-то очень уж разгорелись...
Алеша
действительно походил на Христа. Голову
прекрасной формы окаймляли длинные
волосы, почти до плеч. Курчавилась
небольшая русая бородка. Карие глаза
смотрели кротко и строго. Черты лица
были безупречно правильными и
одухотворенными.
«Ух, какая фактура!
В кино бы его. Так ведь и пропадет зря в
медицине», — подумал Антон.
Алеша
вяло улыбнулся Антону и Люсе, даже и не
улыбнулся, а так, просто чуть-чуть
дрогнули губы. Он подошел к окну и сразу
же стал закуривать дешевую сигарету.
— А это Соня, — продолжала Нонна. —
Тоже из медицинского института. Докажи,
Сонечка!
Соня достала из сумочки
стетоскоп и, подняв его над своей пышной,
высокой прической, совершенно серьезно,
как артист в цирке демонстрирует
предметы, с которыми совершает фокусы,
показала стетоскоп присутствующим,
повертела его в руках, а потом затолкала
обратно в сумку. И тогда уже улыбнулась.
Она была цветущая, яркая, какая-то
подчеркнуто грубая и земная.
— Любит
дурачиться! — сказала Нонна.
— Ничего
подобного! — капризным голосом дошкольницы
перебила ее Соня и села на пол рядом с
Антоном.
Все засмеялись.
Соня с
откровенным интересом разглядывала
Антона, его руки, обхватившие согнутую
в колене ногу. Дотронулась пальцем до
его черных волос. Она глядела в его глаза
широко открытыми глазами, подражая
взгляду ребенка.
Антона начала злить
ее игра. Соня почувствовала это, вздохнула
и, обратившись к Нонне, сказала, показывая
пальцем на Антона и Люсю:
— А кто это
такие: он и она?
— Он — Антон: будущий
знаменитый режиссер. Она — Люся: будущая
звезда русского театра.
— Ой, Алеша,
куда же мы с тобой затесались «со свиными
рылами да в калашный ряд»! — воскликнула
Соня, неуклюже поднимаясь. Постояла в
нерешительности и спросила: — А может
быть, полечить? Может, тут мания величия?
Нонна принесла рюмки и коробку конфет.
Разлила по рюмкам вино и, приглядываясь
к его приятному золотистому цвету,
сказала:
— Тост такой: чтобы участь
травести миновала Люсю Бояркину.
Никто
не обратил внимания на тяжелые шаркающие
шаги в коридоре. Никто не заметил, как
в дверях появилась бабушка, закутанная
в пестрый плед, остановилась и стала
прислушиваться к разговору молодых.
Говорили о Люсе и о ее дипломном
спектакле.
— Вот у меня был такой
случай, — сказала вдруг бабушка, и лицо
ее просветлело. Молодые люди не рискнули
перебить ее воспоминания даже приветствием.
Они молча встали.— Когда я кончала
хореографическое училище, мне дали
партию Снегурочки в балете «Снежная
королева». В этой партии я и еще две мои
подруги себя показать не могли. И мы
сами стали репетировать другой балет...
Репетировали ночами. Днем сцена была
занята. И балет удался! Его поставили в
театре. А потом он часто шел в Петербурге,
в Москве...
Бабушка грустно улыбнулась,
безнадежно махнула рукой: зачем
вспоминать? Все ушло. Невозвратно ушло
и стало никому не нужным...
Она пошла
к своему креслу, пошатываясь, придерживаясь
за стену и шаркая туфлями.
—
Вспомнилось... — сказала Соня.
— Для
склероза это характерно: прошлое
помнится, а настоящее выпадает из памяти,
— заметил Алеша.
— Она и прошлое редко
вспоминает, — сказала Нонна,— а может
быть, вспоминает, да не говорит... Итак,
тост за Люсю. Пьем!
— Подождите! —
сказал вдруг Антон и вышел с рюмкой на
середину комнаты.— Ай да бабушка!
Подсказала! Тост будет другой: за
спектакль, который сами подготовим и
который станет нашим дипломным триумфом.
В этом спектакле у Люси будет та роль,
которая принадлежит ей по праву.
— А
кто же? А как же? — растерялась Люся.
—
Все понятно даже медикам, — вмешалась
Соня. — Он будет режиссером этого
спектакля, — она указала пухлым мизинчиком
на Антона. — Спектакль пройдет по всему
Союзу, как тот бабушкин балет. Верно,
Нонна?
— Верно! — Нонна залпом осушила
рюмку и бросилась обнимать сначала
Люсю, потом Антона.
— А меня? — спросил
Алеша, все так же кротко и строго глядя
на окружающих.
— У вас в медицинском
мире это не принято. Это наше преимущество,
— ответил за Нонну Антон.
— Тебя,
Алеша, она будет обнимать наедине, —
сказала Соня. — А если не будет — ты ей
травку с заговором подсунь. Не может
быть, чтобы у тебя не было такой травки!
—И Соня принялась хохотать.
Люся и
Антон переглянулись, не понимая столь
бурного веселья.
— Я все поясню
присутствующим,—строго сказал Алеша.
— Так вот, травку с заговором она
подпустила потому, что я — убежденный
гомеопат. А она — аллопат. Значит,
непримиримая и непонятная вражда на
всю жизнь.
— Это что значит? — наивно
спросила. Люся.
— Это значит,— сказал
Алеша,— что гомеопаты лечат преимущественно
травами, малыми дозами. Все мои предки,
о которых я знаю, лечили травами. К
народной медицине я приобщен с детства.
— Его дед был очень знаменит, — сказала
Нонна. — Может, слышали — Сергей Петрович
Розанов? Он бабушку мою спас. Заболела
она желчнокаменной болезнью. Подумайте,
что это для балерины? С камнями не
потанцуешь! Удаление желчного пузыря
тогда было операцией еще мало известной.
Ну вот и стала бабушка лечиться у Сергея
Петровича Розанова. Несколько лет
лечилась, потому что травы действуют
очень медленно. Верно я говорю, Алеша?
— Верно. В организм вводятся
микроскопические дозы лекарств.
— А
потом бабушка ела черную редьку, тертую,
с оливковым маслом.
— Это дед ей камни
растворял,— пояснил Алеша.
— И
растворил? — скептически спросил Антон.
— Растворил. Поправилась бабушка и
танцевала до пятидесяти лет.
—
Интересно, — сказал Антон, — а я думал,
гомеопатия — это так... предрассудки.
— Предрассудки?! — воскликнул Алеша,
и глаза его вспыхнули негодованием.—
Предрассудки? — повторил он. — Я видел,
как к деду, уже совсем дряхлому, приходили
те, кого не могли спасти аллопаты, — и
он вылечивал... он спасал!
Разъяренный
Алеша наступал теперь на стоявшего
подле него маленького растерянного
Антона и прижимал его к стенке.
— Нет,
предрассудки — это то, что мы до сих пор
игнорируем народную медицину. Вот это
— непонятная дикость. Это... это просто
варварство! Вот что это такое!
Отпущенный
на волю Антон приводил себя в порядок
и говорил:
— Сдаюсь! Сдаюсь! Буду
лечиться только у гомеопатов. Убедил!
Полностью убедил! — И, помолчав, добавил
с удивлением: — Оказывается, и среди
медиков есть фанатики?..
— Еще какие!
— воскликнул Алеша. — Они есть в любой
профессии, — на этом держится мир!
—
Я не фанатик, — с грустью сказала Соня.
— А хотела бы! Ни во что я не верю, ничего
не хочу.
— Это опять игра? — спросил
Антон.
— Нет, это уже правда, — сказала
Нонна.
— Наверное, потому, что я не
фанатик,— продолжала Соня,— жизнь
кажется мне пустой забавой. Каждый
мучительно ищет, за что бы ему зацепиться...
А я не хочу цепляться! Когда-нибудь я,
наверное, соберусь с силами и покончу...
с собой. Или в петлю, или в воду с камнем
на шее, чтобы не выплыть, или с двадцатого
этажа высотного дома...
— Такую
сокровенную правду не выбалтывают
первым встречным,— сказал Антон, указывая
на себя и на Люсю.— Позерство!
— Я
тебя невзлюбила с первого взгляда, —
со злом вдруг сказала Соня. — Сам ты
позер. Картинно так на пол сел и руками
обхватил колено! Этакий карликовый
Мефистофель! Будущий знаменитый режиссер!
Да где они у нас, знаменитые режиссеры,
актеры, писатели? Нынче век космоса.
Искусство в полном упадке. А вы все
смешны со своими потугами. Смешны и
никчемны! — Она топнула ногой.
— Ну,
это уж слишком! — как бы между прочим,
спокойно заметил Алеша.
— «...Без
божества, без вдохновенья...» — так же
спокойно, в тон Алеше сказал Антон. —
Пошли, Люся. Союз актеров с медиками не
удался.
Но Алеша преградил им дорогу:
— Нет уж, уйдем мы с Соней. Мы и
забрели-то сюда случайно. А у вас дела.
Соня, за мной!
Соня с безразличной
покорностью двинулась за Алешей. Нонна
пошла проводить их до дверей и надолго
задержалась в прихожей. Оттуда доносился
горячий прерывистый шепот... Все трое
спорили. Но, вернувшись, Нонна сделала
вид, будто ничего, ровным счетом ничего
не произошло.
— Поговорим о нашем
спектакле? — сказала она.
— Поговорим,
— согласился Антон.
5
Через
несколько дней пьеса была найдена,
одобрена, роли распределены. Начались
репетиции.
Как и у знаменитой балерины
Марфы Мироновой, в пору се юности,
репетиции на сцене шли по ночам. Малая
сцена училища была перегружена, а большую
предоставляли только для дипломных
спектаклей.
К подготовке самостоятельного
спектакля студентов руководители
училища отнеслись недоверчиво и
равнодушно. Никакой помощи не было.
В
спектакле участвовали всего пятеро,
среди них — Нонна и Люся. Режиссировал,
конечно, Антон.
Пьеса эта под названием
«Ночь и день» когда-то ставилась многими
театрами, потом сошла со сцены и теперь
была вовсе забыта. Антон откопал ее в
театральной библиотеке, долго и громко
восхищался ею, цитировал ее своим
однокурсникам, педагогам, знакомым,
искал режиссерские приемы — словом,
вступил на путь той не знающей отдыха
жизни, какой живут счастливцы, влюбленные
в свою профессию.
В половине девятого
утра Антон являлся на лекции по истории
театра, по литературе, по историческому
материализму или французскому языку.
Он танцевал вместе со всеми мазурку,
испанский танец, делал этюды, ходил в
студенческую столовую, ел невкусные
обеды, спал, читал, развлекался. Но кроме
этой обычной жизни теперь появилась
еще и другая. Он жил судьбами героев
спектакля, над которым работал. Жил в
сюжете, в образах, в тембре актерских
голосов, в костюмах и в декорациях,
которых еще не было, но которые он
придумывал.
Антон раздваивался. И его
вторая жизнь была во много раз интереснее
первой. Она стала для него основной.
Остальным он занимался рассеянно, по
обязанности. Недообедав, он мчался в
училище. Садился в зрительный зал и
представлял себе будущую премьеру. Нет,
не успех, не аплодисменты, а судьбы
героев. Он забывал, что не успел дообедать,
и в этот день уже больше не появлялся в
столовой.
В училище Антон был очень
заметен. Нонна всем прожужжала уши о
том, что он гениален. И некоторые, не
имея никаких оснований, поверили этому,
другие просто посмеивались, а третьи с
любопытством приглядывались. В зависимости
от характера. Однако разговоров о нем
было много. Говорили, что приехал Антон
из Сибири, что там он ездил на нартах,
впряженных в собачьи упряжки, ходил в
оленьих унтах, вышитых бисером, и хоть
пишется русским, на самом деле не то
эвенк, не то бурят. Еще говорили, что
Антон болеет какой-то странной болезнью
и скрывает это от всех. А в последнее
время все эти слухи перекрыла новая
весть: Антон влюблен в Люсю и ради нее
затеял спектакль «Ночь и день».
Сам
же Антон ни о чем никому не рассказывал.
На вопросы отвечал шутками и жил как во
сне своей двойной жизнью. А в Люсю он и
правда влюбился... Любовь эта вошла и в
его вторую жизнь тоже, потому что он не
мог еще дать себе отчета, в кого он
влюбился: в Люсю Бояркину или в Марту
из спектакля «Ночь и день».
Люся,
конечно, все сразу почувствовала... Она,
как и Антон, жила такой же раздвоенной
жизнью немногих счастливцев, но в ее
вторую жизнь — в мир мечтаний и богатейших
чувств — Антон, увы, не вошел. В те
мгновения, когда из мира мечты она
ненадолго опускалась на землю, она
улыбалась Антону, радовалась ему, но,
поднимаясь ввысь, тотчас же о нем
забывала.
Люся готовилась к экзаменам.
Она сидела в читальне. Рядом, сладко
посапывая, положив голову на книгу,
освещенную настольной лампой, наслаждался
безмятежным сном незнакомый студент,
и, глядя на него, тоже хотелось закрыть
глаза и положить голову на книгу. Чтобы
превозмочь это состояние, Люся стала
писать письмо.
«Дорогая мама! — писала
она. — Пишу Вам и представляю себе, как
сидите Вы в своей комнате-кабинете за
столом и перечитываете письма и
телеграммы, присланные с разных концов
страны от ваших сыновей и дочерей». Люся
полезла в карман, достала платочек,
торопливо вытерла глаза, высморкалась
и снова склонилась над бумагой.
«Что
значит возраст! Раньше я любила Вас, но
не понимала, какая Вы удивительная, наша
мама! А сейчас вот написала про Вашу
комнату-кабинет и заплакала. Я подумала:
есть ли еще на белом свете такой директор
детского дома, который отказался от
квартиры и живет тут же, в детском доме,
чтобы ни на день, ни на час не оставлять
детей своих?! Такими бывают только родные
матери... Так у кого же, как не у Вас,
должна гореть на груди Золотая Звезда
Героя Социалистического Труда?
Дорогая
мама! Поздравляю Вас с великой наградой!
Я как прочитала об этом в газете, мне
так сразу светло стало, так радостно.
Люди, которые не знают нашего детского
дома, часто жалеют меня. «Сирота!» —
говорят они. А если бы знали они мою
маму, то не сказали бы этого. У меня было
счастливое детство, и приношу Вам за
это земной поклон.
Простите меня, что
задержалась с ответом на Ваше письмо.
Вы ведь знаете, какая я сумасшедшая!
Вначале увлеклась своей новой жизнью
в училище, а теперь ролью в спектакле,
который мы сами готовим, без педагогов.
Спасибо за деньги. Я ведь знаю — это
Ваши, личные деньги. Из директорского
фонда Вы теперь мне не можете помогать.
Не беспокойтесь — стипендии моей
предостаточно. — Люся подумала и немного
соврала: — Кроме того, я начинаю сниматься
в телевизионном фильме и получу много
денег за эту работу».
Студент-сосед
громко всхрапнул и проснулся. За ближним
столом фыркнула девушка.
Люся
улыбнулась. Запечатала письмо, надписала
адрес, сдала книги, оделась и вышла на
улицу. Было уже темно. Шел дождь вперемешку
со снегом. Казалось, будто перед глазами
плывет нескончаемая пестрая пелена.
Даже голова начинала кружиться.
Люся
в нерешительности постояла, затем
сделала несколько шагов, попала в сугроб,
провалилась и зачерпнула в сапог мокрого
снега. Она забежала в освещенный подъезд,
сняла сапог и стала вытряхивать снег.
На втором этаже стукнула дверь,
послышались торопливые легкие шаги,
кто-то бежал вниз по лестнице. Не успела
Люся сунуть ногу обратно в мокрый сапог,
как возле нее появился Алеша в пальто
и берете.
Он узнал Люсю, остановился
и, удивленно приподняв бровь, протянул
ей большую руку.
— В сугроб провалилась,
и вот...— Она наклонилась, надела сапог
и, притопывая ногой, продолжала: — Вот
и забежала в подъезд. А ты что здесь
делал?
— Я живу здесь. Пойдем? Сапог
высушим, а то простудиться можно в такую
непогоду.
Не дождавшись ответа, он
взял Люсю за руку и повел наверх. Она
была ниже его плеча, и это ее развеселило.
Алеша жил вместе с матерью и братом
в небольшой, до предела заставленной
вещами квартире.
— Это все от дедушки,
— объяснил он Люсе, когда она боком
пробиралась по прихожей между вешалкой,
трюмо и старинными шкафами, до потолка
заставленными чемоданами и коробками.
Комната Алеши была совсем маленькой.
Но когда-то она принадлежала дедушке,
и внук гордился ею, стараясь сохранить
все так, как было при жизни деда. Две
стены занимали стеллажи с книгами. У
окна стоял старинный письменный стол
красного дерева, тоже заваленный книгами,
рукописями, бумагой. Между дверью и
стеной помещалась тахта, покрытая
ковром, и небольшой шкаф. Сквозь его
стеклянную дверцу были видны бутылки
с бумажками, поясняющими, из каких трав
и когда сделаны были насгойки. Над тахтой
висел портрет деда — худощавого старика
с таким же прекрасным, как у внука, лицом.
Приподняв одну бровь, он весело и
значительно смотрел на тех, кто пришел
ему на смену. Портрет был сделан масляными
красками. В углу можно было прочесть
автограф знаменитого художника двадцатых
годов. Там было написано: «Горжусь своей
дружбой с вами!»
Алеша принес мамины
домашние туфли, которые оказались
непомерно большими для маленьких Люсиных
ног. Мокрые сапоги он поставил сушить
на батарею.
— А я вспомнила,— сказала
Люся,— как моя мама рассказывала про
одну лечебную траву. Я забыла ее название.
Какое-то очень красивое. Подожди, сейчас
вспомню... Я всегда быстро вспоминаю.
Подумаю-подумаю и припомню...
Она
стояла у шкафа, наморщив лоб, пальцем
водила по стеклу и разглядывала бутылки
с настойками.
— Свет-трава! Вот как!
Знаешь такую?
— Свет-трава? Не знаю.
А что она лечит?
— Эпилепсию.
Алеша
недоверчиво пожал плечами.
— Вот
послушай. Мама приехала в Западную
Сибирь, в Томскую область, к родным. Она
еще девушкой была тогда, и заметила, что
почти во всех избах над входными дверями
висят пучки сушеной травы. Ей сказали,
что этой травой лечат падучую. Даже
легенда об этой траве в народе ходила...
О том, что свет-трава станет видима
только тому, кто пойдет искать ее с
чистым сердцем, с глубокой верой в
человеческое счастье, с мечтой найти
ее для блага людей.
— Ой, как хорошо!
— мечтательно сказал Алеша. — С чистым
сердцем, с глубокой верой!.. Ой, как
хорошо!
Он встал. Благодаря своему
высоченному росту не прибегая к лестнице,
он снял с верхней полки из-под самого
потолка травник и долго перелистывал
его страницы.
— Свет-трава... Нет, такой
здесь нет. Интересно... И какое название!
Народ зря так траву не назовет.
—
Слушай дальше, — сказала Люся, загораясь
и хорошея, точно так, как случилось с
ней, когда она выходила на сцену. — Мама
привезла эту траву и стала лечить ею
пятилетнего мальчика, больного эпилепсией.
Через год у мальчика прекратились
припадки.
— Ну, а потом? Дальше что? —
нетерпеливо спросил Алеша.
— Вот и
все. Дальше я ничего не знаю. Можно маме
написать. Она, знаешь, на днях получила
Героя Социалистического Труда. Это не
родная мама. То есть она родная, но не
по крови...
— Я сам напишу, — сказал
Алеша. — Дай, пожалуйста, мне ее адрес.
Алеша взял со стола адресную книжку,
Люся назвала город и улицу, где, обнесенный
частоколом, стоял двухэтажный деревянный
дом. Тот самый, в котором она перестала
быть сиротой... Ей представилась худенькая,
еще не старая женщина с живым лицом,
озаренным доброй улыбкой.
Люся закрыла
лицо руками.
Алеша растерялся.
—
Люся, что ты? Что случилось?
Он тихонько
прикасался ладонью к ее вздрагивающему
плечу, к волосам.
Она сама не знала,
что случилось: взгрустнулось ли о том,
что ушло навсегда, стало ли страшно
неведомого в жизни, или испугалась она
потерять навсегда ту единственную, хоть
и чужую по крови, которой не безразлична
ее судьба?..
Наконец она успокоилась,
по-детски кулачками вытерла глаза,
вздохнула и виновато улыбнулась своей
несдержанности.
— Прости, Алеша. Я
больше не буду.
— Вот и отлично,—
обрадовался он.— Хочешь, я чай вскипячу?
— Хочу...— сказала Люся. — Но не могу.
У нас репетиция, а я и так уже опоздала.
Она с трудом надела еще не высохшие
сапоги и вместе с Алешей вышла на улицу.
Было тихо, бело и безлюдно... Снег лежал
на дороге, на тротуарах, на ступенях
крылец, на железных решетках заборов.
Алеша проводил Люсю, вернулся домой
и сразу же уселся писать письмо директору
детского дома.
6
Наконец-то сбылась мечта
Антона, Люси и Нонны. Наконец-то им дали
большую сцену. Сегодня с двух часов ночи
и до утра они могли репетировать.
—
Ура! — почти басом вопила Нонна в
вестибюле училища. Тоненьким «ура!»
очень музыкально и разливисто вторила
ей Люся, смешно вскидывая кверху руки,
точно благодарила за помощь всевышнего.
Антон делал стойку на перилах лестничной
площадки. Потом, к восторгу первокурсников
и нянечки, сидящей у вешалки, все трое
сплясали импровизированный танец
дикарей и удалились.
К двум часам ночи
они снова были в училище, приняли сцену
от четвертого курса и больше часа
устанавливали декорации. Три раза бегали
к Нонне, которая жила рядом: то за ковром,
то за настольной лампой и занавеской,
то за посудой. Тайком от бабушки залезли
в ее заветный сундук, в котором хранились
костюмы.
Репетицию начали в четыре
часа ночи. И каково же было всеобщее
изумление, когда в начале первого акта
в дверях зрительного зала появилась
Александра Антоновна, как всегда
подтянутая и деятельная. Деловой,
торопливой походкой она прошла в шестой
ряд, села в кресло, поправила свой черный
костюм и дала знак рукой продолжать
спектакль.
— Ага! Кафедра наконец
заинтересовалась самостоятельным
спектаклем студентов! — воскликнул
Антон за кулисами. Но его ликующий голос
был услышан и на сцене.
Все играли с
большим подъемом.
— Молодцы! — громко
хвалил за кулисами Антон, уже забывший
о присутствии художественного
руководителя. — Стоп!
Он вышел на
сцену — маленький, с всклокоченными
волосами, прилипшими на висках к
вспотевшему лбу.
— Эту мизансцену,
Люся, мы переделаем. Не находишь ли ты,
что твоя героиня должна на все реагировать
молниеносно? Надо так: после слов Наташи,—
он указал на Нонну, — Марта бросается
к окну, со стула вскакивает на подоконник,
пытается раскрыть окно, но оно не
раскрывается. Тогда она срывает туфлю
с ноги, выбивает ею стекло и кричит:
«Павел, вернись!» Кричит и пытается
выброситься в окно, а Наташа хватает
ее... ну, за руки или за ноги.
— Кричит
— да! — горячо сказала Люся. — Но пытаться
выброситься? Хватать меня за ноги? Нет,
Антон, с этим я не согласна. Это — гротеск.
А гротеск не в моем стиле. Я так не умею.
— Делай так, как подсказывает тебе
твое актерское чувство,— согласился
Антон. И взглянул на Александру Антоновну.
О! Студенты за два года хорошо изучили
своего художественного руководителя.
По ее решительно откинутой голове и
рукам, спокойно лежащим на подлокотниках
кресла, по тихой, блуждающей улыбке они
поняли, что спектакль ей нравится, и
продолжали стараться вовсю!..
В шесть
часов утра Александра Антоновна
удалилась, сделав несколько незначительных
замечаний. Особенно она похвалила Люсю.
Все на часок прилегли подремать. Люся
с Нонной втиснулись на узкую кушетку
за кулисами, мальчишки разместились на
сцене. Нонна мгновенно задремала, а Люся
никогда не могла быстро заснуть, особенно
после спектаклей и репетиций. Она не
спала и все время будила подругу.
—
Ну что ты все время вертишься? —
возмущалась Нонна. — Заснуть не даешь.
Люся поняла, что лежать бесполезно,
она все равно не заснет. Захотелось
подойти к окну, взглянуть, что делается
на улице в этот предутренний час. Она
встала, ощупью вышла на сцену и в темноте
задела Антона, лежавшего на ковре.
—
Это ты, Люся? — шепотом спросил он.
—
Это я! — засмеялась Люся и присела на
ковер. Антон тоже сел, прикасаясь плечом
к ее плечу.
— Я рад, что Сашуне (так за
глаза студенты звали Александру
Антоновну) ты понравилась. Даже очень
понравилась. Я это почувствовал. А ведь
она прочила тебя в травести. Ох, как я
рад, Люся! В том и заключается цель этого
спектакля...
Люся вдруг почувствовала
к Антону нежность. Она в темноте обняла
его, а он неслышно и горячо стал целовать
ее лицо, руки, шею. Так продолжалось бы
до утра... Но раньше позднего зимнего
рассвета в зрительный зал пришла уборщица
и включила ослепительный свет.
7
Деловые люди умеют уважать чужое
время. Директор детского дома не заставила
Алешу долго ждать своего письма. Она
ответила немедленно.
Вечером Нонна
полулежала с дымящейся сигаретой в руке
на Алешиной старенькой тахте и
гипнотизировала его своими большими
блестящими глазами, которые казались
еще необыкновеннее от голубых и розовых
тонов, искусно положенных на ресницы и
веки.
Алеша, как всегда немного сбитый
с толку ее присутствием, сидел напротив
и читал вслух только что полученное
письмо.
В письме сообщался район, где
знали свет-траву, адрес школы, куда можно
было обратиться с просьбой нарвать этой
травы в июле, во время ее цветения. В
конверте лежала аккуратно завернутая
в бумагу жалкая сухая травинка с
витиеватым корешком.
Алеша держал ее
в своих больших руках, как хрупкую
драгоценность. Он боялся дышать на нее,
чтобы не сдуть кое-где уцелевшие мелкие
белые цветочки.
— Походит на богородскую
траву, но запах...— он осторожно понюхал
травинку, — запах не тот.
Он снова
начал внимательно рассматривать корешок,
листья, цветы.
Нонна дымила сигаретой,
принимала выигрышные позы, играла
глазами. Но чары маленькой сухой травинки
были, увы, сильнее ее чар. Ах, с каким
наслаждением ударила бы она по сильным
рукам Алеши, чтобы эта жалкая травинка
упала на пол, превратилась в сор и
перестала занимать его воображение.
—
Походит и на богородскую траву и на
очанку...— продолжал Алеша, не замечая
сдержанного бешенства Нонны, — на очанку
очень походит.
Он опять понюхал
травинку, сказал сам себе: «Нет, не
богородская!» — встал, осторожно положил
бумажку с травинкой на стол и взял в
руки книгу.
— Очанка, — говорил он,
перелистывая страницы и пробегая их
пальцем. — Ею еще древние греки лечили
заболевания глазного нерва.
Казалось,
он совсем забыл о присутствии Нонны.
Она встала, потушила в пепельнице
недокуренную сигарету и пошла к дверям.
— Ты куда? — опомнился Алеша.
— Я
вижу, что тебе не до меня.
— Нет, не
уходи, пожалуйста.
Он насильно усадил
ее снова на тахту.
— Послушай, Нонна.
Я всегда думал, что заболевание эпилепсией
связано с заболеванием глазного нерва.
И если это очанка...— Он взглянул на
обиженное лицо Нонны. — Прости. Это все
весьма специфично... Прости. Я увлекся...
— Да, немножко, — снова закуривая,
миролюбиво согласилась Нонна. Она не
курила, а дымила так, ради моды. — Но я
понимаю тебя. Я так же увлекаюсь своим
делом.
А про себя подумала, что сейчас
она увлечена Алешей больше всего. Все
отошло на второй план. Какой у него
взгляд — ласковый и пристальный, какая
улыбка — светлая, детская. И в то же
время весь облик его — воплощение силы
и мужественности.
К несчастью, он
по-прежнему увлечен только гомеопатией
и к Нонне относится с дружеской нежностью
— точно так же, как и Антон.
«Может
быть, я не могу внушить иных чувств?..»
— тревожно подумала Нонна. И вспомнилось
ей, как однажды бабушка долго смотрела
на нее вздыхая, а затем сказала: «Породы
в тебе нет и женственности мало. Мужчинам
не будешь нравиться». Тогда Нонна
посмеялась над бабушкиным прогнозом.
Ее нисколько не занимало в ту пору, будет
она нравиться мужчинам или не будет.
Теперь же совсем иное! Ей так необходимо
нравиться одному, только одному на всем
белом свете!
Воспоминания о бабушкиных
словах сейчас причиняют боль. Она прячет
под тахту свои крепкие ноги, но широкие,
круглые колени, обтянутые розовым
капроном, не спрячешь, не натянешь на
них мини-юбку. Она бросает сигарету,
чтобы не видеть рук, таких же крепких
и, увы, не породистых.
Характерная
актриса! Она с грустью представляет
себя в ролях старух, доярок, выдвиженок.
И надо же было влюбиться в такого
красавца!
— А что, разве эпилепсию
аллопаты не умеют лечить ? — спрашивает
Нонна. Ей совсем неинтересно все это,
но надо же говорить о чем-то, что занимает
Алешу.
Он долго и горячо объясняет ей
суть этого заболевания, снова берет в
руки бумагу, на которой лежит сухая
травинка, и вдруг, прервав самого себя,
кидается к телефону.
— Это Левка? —
слышит Нонна голос Алеши из коридора.
— Левка, у тебя есть сушеная очанка?
Есть? Левка, я через десять минут буду
у тебя. Через десять!..
Он вешает трубку,
но не отходит от телефона, видимо вспомнив
про гостью. Снова слышно, как он набирает
номер, и опять:
— Левка? Нет, ты захвати
очанку и быстро ко мне. Ладно? Одна нога
здесь, другая — там.
Нонна смахивает
неожиданную слезу и решительно идет к
дверям. В коридоре она сталкивается с
Алешей.
— Ты куда?
Он снова пытается
вернуть ее. Но она отстраняет его и
говорит:
— Еще раз позвони Левке.
Скажи, что придешь сам... И меня по дороге
проводишь.
Алеша кидается к телефону.
— Левка! Ну чего ты? Ну и что же, что
надоел! Не трогайся с места. Жди меня. Я
сейчас!
Он возвращается в комнату.
Осторожно завертывает в бумагу свет-траву,
кладет в книгу.
На улице он ведет Нонну
под руку, но думает об очанке, о свет-траве
и о Левке. Он забывается, ускоряет шаг,
к дому Нонны они уже почти подбегают и
прощаются второпях.
Нонна поднимается
наверх. Лестница кажется ей мрачной и
грязной. С неприязнью думает она, что
сейчас и без того плохое настроение
доконают бабушка и ее компаньонка. Ох
и устала же она от их общества, от
студентов-фанатиков, от своей неудачной
любви! Уехать бы куда-нибудь, переменить
обстановку хотя бы на неделю. Но куда?..
Она открывает дверь, и вдруг ее осеняет:
надо организовать поездку в Пушкинский
заповедник. Ведь скоро каникулы!..
Настроение улучшается.
В прихожей,
услышав стук двери, появляется бабушкина
компаньонка, с клочьями завитых, крашенных
хной волос на лысеющей голове, с
ярко-черными неровными полосами на
местах, предназначенных для бровей, с
крикливо накрашенными губами и щеками.
— Нонночка, тебе письмо. И откуда, ты
думаешь? Из-за границы! Не от тетки ли,
не от Татьяны ли Тимофеевны?
Компаньонка
протягивает конверт, а сама горит
нетерпением узнать, от кого письмо.
Не
раздеваясь, Нонна прошла в свою комнату,
распечатала длинный конверт с нерусскими
марками. Взглянула на подпись: «тетя
Таня». Из письма выпала фотокарточка.
Проворно подняла ее, зажгла торшер,
подошла поближе к свету и с любопытством
стала разглядывать. На Нонну смотрела
женщина лет пятидесяти, очень похожая
на отца. С такими же умными, глубоко
заглядывающими глазами и некрасивым
худым лицом.
«Дорогая Нона! — писала
тетя Таня. (Она, видимо, уже забывала
русский язык и имя племянницы писала
через одно «н».) — Я осталась одна на
всем белом свете. Вот уже пять лет, как
это произошло... Кроме тебя, у меня никого
теперь нет. С тяжестью (она, наверно,
хотела сказать — «с трудом») узнала
твой адрес. И вот я пишу...
Очень хотелось
бы повидаться. Я узнала, что могу
пригласить тебя в гости. Пожалуйста,
напиши мне, согласна ли ты и когда? Все
расходы, разумеется, я возьму на себя.
Напиши, как ты живешь? Жива ли еще
знаменитая Марфа Миронова? Если да, то
передай ей мой низкий поклон и пожелания
здоровья и долгой жизни. Ведь когда-то
вся Европа почитала за счастье видеть
ее на сцене!..
Пожалуйста, напиши
подробно, если это у вас разрешается,
как ты живешь? До меня доходили слухи,
что давно уже умер брат, умерла и твоя
мать. С кем же ты?
Я с нетерпением буду
ждать ответа. Если ты согласишься
приехать ко мне в гости — тебе будет
очень весело и интересно. Уж я постараюсь!
После смерти мужа дела книгоиздательства
и книготорговли я веду сама. Здоровье
плохое, и поэтому все как-то неважно.
Пришлось объединиться с компаньоном.
Попался, слава богу, хороший, энергичный
и знающий человек.
Приезжай, пожалуйста,
пока я жива. Мне осталось недолго... А ты
у меня одна.
Целую, любящая тебя тетя
Таня»
Нонна была потрясена. Она
бросилась к бабушке. Обе старухи в этот
момент пили в столовой чай и показались
ей необыкновенно хорошими. Она кинулась
на шею сначала к бабушке, чуть не опрокинув
на скатерть ее кружку с недопитым чаем,
затем подняла со стула дряхлую компаньонку,
усадила ее обратно и тогда только, ликуя,
объявила:
— Ура! Еду в Мюнхен! Письмо
от тети Тани! Ура! Привет тебе, бабусик!
Марфа Миронова молча пожала плечами.
Нонна бросилась к телефону.
— Это
общежитие? — крикнула она в трубку.—
Пожалуйста, из двенадцатой комнаты
Антона Веселого или из седьмой Люсю
Бояркину.
Подошел Антон.
— Антон!
Я уезжаю в ФРГ. В Мюнхен! Ты слышишь? —
задыхаясь, сообщила Нонна.
— Что?..—
не понял Антон. — Ты больна? У тебя
температура? Или, может быть, это роль?
Тебя взяли сниматься в кино?
— Ничего
подобного! Я получила приглашение от
тетки. Она живет в Мюнхене.
— Ты с ума
сошла! Во-первых, мы готовим спектакль.
А во-вторых, там — реваншисты!
— Ой,
Антошка! Я же ненадолго. Реваншисты за
этот срок меня не убыот... Только знаешь,
это все получилось как в сказке. У меня
такое ужасное настроение было, и я
думала: куда бы уехать хоть ненадолго?
Думала, думала, и вдруг это письмо! Как
снег на голову. Будто бы тетя Таня
услышала меня... Понимаешь? Ой, Антошка,
целую тебя в носик!
И уже совсем поздно
вечером Нонна позвонила Алеше.
—
Алеша! Ну, как свет-грава? Да?! Значит,
свет-трава — это и есть очанка? Та самая,
которой древние греки лечили заболевания
глазного нерва? Интересно! А я уезжаю в
Мюнхен. Да так вот — уезжаю, и все. Да,
надолго. Там у меня живет тетка. К ней в
гости. Она всегда живет там. Всю жизнь.
Когда? На днях. Ну пока, Алеша! Что? Думаю,
перед отъездом увидимся, если время
позволит...
8
Отъезд Нонны в Мюнхен
состоялся лишь в феврале. На Белорусском
вокзале се провожали Антон, Люся и Соня.
Антон сфотографировал Нонну с подругами
на фоне вагона «Москва — Париж». Потом,
привлекая внимание всех находящихся
на перроне, они выпили коньяк из разписных
деревянных рюмок, купленных в магазине
сувениров для тети Тани. И вот наступили
последние минуты прощания. Нонна вскочила
в вагон и, вытянув шею, смотрела поверх
головы проводника, стоявшего на нижней
ступеньке.
Радость и тревога захлестывали
ее. Радость от предстоящей поездки и
тревога оттого, что Алеша не пришел на
вокзал. Это заметили все, но молчали. И
то, что Нонна с трудом сдерживает слезы,
— тоже видели все.
Поезд тронулся. И
вдруг Нонна увидела взволпованные глаза
Алеши. Поезд набирал скорость. Провожающие
остались позади, и только Алеша несколько
мгновений бежал за поездом в сдвинутой
на затылок старой шапке-ушанке, в
демисезонном пальто. Последними мелькнули
его черные кожаные перчатки, которые
он поднимал над головой.
Его бег по
перрону, его глаза и эти вскинутые над
головой руки многое объяснили Нонне.
Больше слов, которых она так долго и
тщетно ждала...
Проводник закрыл дверь,
и Нонна пошла в свое купе.
На нижней
полке сидела женщина средних лет. Нонна
поздоровалась. Та приветливо ответила,
пригласила садиться. И сразу забросала
вопросами. А когда узнала, что Нонна —
будущая актриса и впервые едет в другую
страну, сразу взяла шефство над ней.
Соседку по купе звали Марией Ивановной,
была она женой дипломата. После
двухмесячного пребывания дома снова
возвращалась к мужу, в Париж.
Общительная
и разговорчивая, она без конца рассказывала
Нонне о Париже. Или, вернее сказать, о
парижанках. Они, оказывается, теперь
носят юбки еще короче, чем прежде, и
называются эти юбки не мини, а «космос».
А стриптиз теперь вовсе не в моде! Потом
она засыпала Нонну длинными анекдотами,
над которыми громко и заразительно
хохотала.
Проводник принес чай. Мария
Ивановна стала угощать Нонну домашними
пирожками, тортом, печеньем. А та робко
присела к столу и не рискнула достать
свою скудную студенческую закуску,
наскоро купленную друзьями.
После
ужина Мария Ивановна занялась своими
чемоданами, а Нонна вышла в коридор и
стала смотреть в окно. Куда бы ни взглянула
она, всюду чудились ей Алешины глаза.
Они смотрели из-под хвойных ветвей,
низко склонившихся под тяжестью снега,
горели на снежных шапках, нахлобученных
на пеньки. Алешины глаза светились на
темнеющих, уходящих к горизонту дорогах...
До границы Нонна находилась под
грустным обаянием всего, что произошло
на московском вокзале. Вроде бы ничего
особенного и не случилось... Но она
перебирала в уме одну за другой самые
незначительные детали. Они очень много
значили для нее.
После Бреста ее
захватили мысли о предстоящем путешествии.
Поезд шел по польской земле. Нонна с
любопытством рассматривала дороги,
деревни и города... «Жизнь, наверно, такая
же, как и у нас, — думала Нонна. — Так же
люди любят и ненавидят, делают хорошее
и плохое, живут и умирают. Когда-нибудь,
наверно, не будут приходить в поезда
пограничники, которые мешают спать...»
Она не отрывалась от окна, когда поезд
прошел через единственный в мире город,
рассеченный на две части.
Несколько
раз останавливался поезд, и совсем
молодые пограничники, сменяя друг друга,
проходили по вагонам, проверяли документы
пассажиров.
Нонна глядела на них, не
скрывая любопытства. Они были одинаково
молоды, говорили на одном языке, но
принадлежали разным государствам, на
первый взгляд отличаясь только формой.
«А если заглянуть в их помыслы, в их
существо? — думала Нонна. — Какие же
они должны быть разные!»
На той, чужой
стороне Берлина сразу пахнуло чем-то
странным, непривычным. Поезд тронулся
дальше... Теперь Нонна видела на перронах
людей, которые были не похожи на ее
московских знакомых. Пожилые люди, а их
было на станциях особенно много, чинно
сидели на скамейках в ожидании поездов,
изредка переговариваясь. Они вели себя
как-то напыщенно и парадно. Не было ни
одной женщины, которая второпях накинула
бы на голову платок. Все были в шапочках
и шляпах. Руки, затянутые в кожу и замшу,
держали объемистые сумки и чемоданы.
На ногах — начищенные до зеркального
блеска сапожки.
Подъезжая к Кёльну,
Нонна начала беспокоиться. Оттуда она
должна была на местном поезде отправиться
в Мюнхен. Не владея немецким языком, это
было очень трудно сделать.
Мария
Ивановна, отлично знавшая и французский
и немецкий, написала записку, которую
Нонна должна была показать в билетной
кассе или служащему на станции. В записке
излагалась просьба помочь иностранке,
не знающей немецкого языка, сесть в
поезд, идущий в Мюнхен.
В Кёльне Мария
Ивановна оделась и вышла провожать
Нонну.
Стоял ясный морозный день.
Перрон был почти пуст. От вагона к вагону
металась пожилая женщина в шубке из
розовой норки, в такой же высокой шапочке
и светлых высоких сапогах, украшенных
позолоченными цепочками. Кинувшись к
соседнему вагону, она чуть было не сшибла
с ног Марию Ивановну и даже не извинилась.
Нонна направилась к зданию вокзала
только тогда, когда тронулся поезд и
мимо нее на площадке вагона рядом с
проводником проплыла румяная, улыбающаяся
Мария Ивановна, в цветастом платке на
голове.
Нонне стало не по себе... Она
в далекой, чужой стране. Она еле сдержала
слезы, провожая взглядом свой вагон и
Марию Ивановну на подножке. Та на прощание
крикнула:
— Нонночка, напиши мне в
Париж!
— Ноночка! — взвизгнула
мечущаяся по перрону женщина в розовых
норках. Она взмахнула руками, точно
хотела схватить девушку, лицо се
исказилось гримасой, из глаз хлынули
слезы.
Нонна узнала тетю Таню.
Обрадовалась и бросилась к ней.
—
Деточка моя, родное мое существо! —
рыдала тетка, целуя и обливая ее слезами.
— Где твои вещи?
Она перестала плакать,
покосилась на маленький чемодан, а потом
еще сильней зарыдала:
— Сиротиночка
ты моя! И шубка-то вон какая! Ну ничего,
голубушка ты моя... Я тебя наряжу как
куколку!
Она опять перестала плакать
и критическим взором окинула племянницу
с головы до ног.
Жестом подозвала
тощего немолодого носильщика, отдала
ему чемодан Нонны, что-то сказала
по-немецки. Носильщик быстро ушел с
чемоданом, а тетя Таня взяла 'Нонну под
руку и, то и дело с нежностью заглядывая
ей в лицо, медленно повела вдоль перрона.
Она продолжала рассказывать о том, как
ждала Нонну, даже приехала встречать в
Кёльн, как она несчастна и одинока...
Носильщик с чемоданом стоял возде
красивой коричневой машины. Тетя Таня
открыла багажник, велела носильщику
положить туда чемодан, и Нонна поняла,
что она сама поведет машину.
—
Шестичасовой путь от Кёльна до Мюнхена
тебя не пугает? — с улыбкой спросила
тетя Таня.
Нонну теперь ничто не
пугало: она была под крылом своей тетки.
Самое страшное — остаться один на один
с чужой страной — не случилось. Она была
счастлива.
В машине тетя Таня сняла
свою розовую шубу, повесила ее на
пластмассовые плечики и натянула
коричневую цигейку.
Машина со скоростью
сто сорок километров мягко летела по
широкой дороге.
— Эта дорога называется
автобаном. Ее еще во времена Гитлера
строили. У нас была безработица. Он
сказал: «Всем дам работу» — и приказал
начать строить эту дорогу. Безработица
действительно прекратилась. Этим он
купил народ,— говорила тетя Таня, не
отрывая взгляда от дороги, легко
придерживая руками руль.
Нонне
почудился в этой фразе комплимент
Гитлеру. Она неприязненно взглянула на
тетку и спросила:
— Тетя Таня, а вы не
скучаете о родине?
— Бывает, что
скучаю. А вообще-то привыкла. Германия
стала моей второй родиной. У нас в Мюнхене
есть ресторан, называется «Романов».
Мы с тобой обязательно побываем там. В
этом ресторане все русское — и убранство,
и музыка, и меню. Я иногда хожу туда.
Слушаю русскую музыку, вспоминаю детство,
юность и плачу. И многие эмигранты
посещают этот ресторан и тоже рыдают...
— Мы сходим туда? —спросила Нонна.
— Сходим, девочка, всюду сходим! —
пообещала тетя Таня.
Машина неслась
мимо прекрасных, ухоженных лесов,
заснеженных холмов, небольших городов,
в которых старинные, пронзающие небо
здания готического стиля сочетались с
современными полустеклянными
коробкообразными строениями.
«Вот
она какая, Германия», — думала Нонна.
Ее волновало сознание, что наконец она
видит страну, о которой читала и слышала
так много страшного и интересного.
—
А какая дорога, Нонночка? Ты чувствуешь,
какая дорога?! — продолжала тетя Таня.
Действительно, дорога была хороша,
но и машина удивляла Нонну. Она словно
плыла, бесшумно и мягко, даже мотора не
было слышно.
Часа через три они
остановились на заправочной станции.
Пока заправщик возился с машиной, они
прошли в буфет. Официант принес две
чашки кофе и порцию сосисок для Нонны.
Тетя Таня была вегетарианкой.
Они
сели за стол и начали было завтракать,
но тетя Таня что-то сказала официанту,
указывая на Нонну, а потом перевела ей:
— Я сказала, что моя племянница из
России, и попросила хлеба.
Официант
принес тарелку с булочками, и Нонна
рассмеялась оттого, что булочек было
слишком много.
На ломаном русском
языке старый официант сказал:
—
Русские любят хлеб. Я знаю. Я был плену
России. Русский хороший народ. Они зла
не помнит. Немцы много зла принесли
русским.
Когда тетя Таня и Нонна
садились в машину, заправщик, уже узнавший
откуда-то, что племянница фрау — русская,
сказал также на ломаном русском:
— Я
пять лет был плену. Русский женщин
отдаваль нам клеб. Русские очень добрые.
Нонне были приятны слова заправщика
и официанта. Она с глубокой нежностью
подумала о своем народе: «В самом деле,
зла мы не помним, и добрых дел наших для
других народов не перечесть».
Она,
родившаяся после страшной войны, не
могла и представить себе тех ужасов,
которые выпали на долю старшего поколения.
Как и все ее сверстники, она только
читала и слышала о войне. Поэтому до
конца она не могла понять меру того зла,
которое причинили гитлеровцы русским,
и меру того добра, о котором говорил ей
немец-официант.
9
В кафе-мороженом
«Снежинка» за столом сидели Люся и Соня.
Перед ними стояли вазочки с «ассорти».
Девушки отколупывали ложечками от
кружков коричневого — кофейного, белого
— сливочного и розового — фруктового
мороженого, лакомились с явным
удовольствием и тихо разговаривали.
Тихо потому, что столы в маленьком зале
стояли очень близко друг к другу, а за
одним из них сидели два молодых человека,
беспрерывно поглядывая на девушек и
прислушиваясь к их беседе.
Разговор
шел о Нонне.
— Мы учились в одном
классе. С детства я бываю в ее доме, —
говорила Соня, ни на минуту не выпуская
из поля зрения молодых людей. — Но я
никогда не слышала о заграничной тетке.
Что-то здесь не то...
Соня то и дело
кокетливо поправляла свое высокое и
модное сооружение на голове, смотрела
на Люсю с улыбкой, совершенно не
соответствующей разговору.
«И что
она выламывается перед этими ребятами?
— с досадой думала Люся, приглядываясь
к возбужденному лицу Сони, ее блестевшим
глазам и горящим щекам. — Сейчас встанем
и разойдемся навсегда, они в одну сторону,
мы — в другую».
Люся не понимала
бессмысленного кокетства Сони. Ее лицо
загоралось только на сцене, да еще в
редкие часы встреч с Антоном, когда они
оставались наедине и он твердил ей о
своем чувстве...
— Счастливая Нонна!
В Мюнхене!
Слово «Мюнхен» Соня намеренно
произнесла громко, чтобы сидящие за
соседним столом услышали.
Они
действительно услышали и странно
отреагировали на это слово. Молодые
люди, о чем-то торопливо пошептавшись,
враз поднялись и направились к столу
девушек.
— Разрешите познакомиться,
— с заискивающей улыбкой сказал один
из них — с длинными темно-рыжими волосами,
такого же цвета баками и бородкой. На
нем были бежевые вельветовые брюки и
пушистый пестрый свитер. Он говорил с
легким акцентом иностранца, хорошо
владеющего русским языком.
— Вы что-то
сказали о нашем немецком городе Мюнхене?
— с таким же акцентом поинтересовался
второй — маленький, щуплый блондин в
синем спортивном костюме.
— Вы —
немцы из ФРГ? — беззастенчиво кокетничая,
спросила Соня. — Подсаживайтесь к нам!
Она передвинулась к краю стола вместе
со своим стулом.
Люся молчала. Она не
любила случайных знакомств.
— Мы —
спортсмены. Приехали в Москву договариваться
о будущих соревнованиях,—сказал рыжий.—
Я — Фридрих, он — Людвиг. А вас как зовут?
Соня с готовностью назвала себя и
Люсю, заодно соврала, что обе они студентки
театрального училища.
— О! — сказал
Фридрих.— Мы так и думали! Такие девушки
— только для сцены!
Этот пошленький
комплимент разозлил Люсю. Она не
преувеличивала своих внешних данных.
Знала, что только на сцене становится
обаятельной, а в жизни незаметна. Другое
дело Соня — уже по-взрослому, по-женски
яркая, броская. Для сцены не подошла бы
— тяжела, не пластична, но на улице
прохожие оборачиваются поглядеть на
нее.
Люсе не захотелось находиться в
компании незнакомцев, на которых столь
откровенно набросилась Соня.
— Я
пойду, — сказала она.
Соня милостиво
разрешила уйти. Даже осталась довольна
этим.
Вскоре, сославшись на срочные
дела, ушел и Людвиг. А Фридрих заказал
еще две порции «ассорти» — просто так,
чтобы придирчивая официантка не попросила
освободить столик для других посетителей,
осаждающих кафе-мороженое «Снежинка».
— Моя подруга уехала в Мюнхен. Я так
ей завидую ! — сказала Соня.
— О! Не
теряйте знакомства со мной, и вы сможете
поехать в Западную Германию, — со
значительной улыбкой ответил Фридрих.
— Каким образом? — осведомилась Соня,
намеренно положив на стол полную,
обнаженную выше локтя руку, украшенную
золотыми часами на массивном золотом
браслете.
— Я могу сделать вам
приглашение.
Глаза Сони вспыхнули,
но ответила она будто бы между прочим,
словно и не приняла его слов всерьез:
— Спасибо. Я непременно воспользуюсь
этим.
Фридрих положил руку на ее пухлые
пальчики.
— Как блестит этот перстень!
— сказал он. — И красив почти так же,
как ваши глаза. Это настоящий камень?
— Бриллиант, — ответила Соня, скромно
убирая руку со стола. Она уже похвасталась
иностранцу своими драгоценностями, и
нужно было изобретать иные формы
кокетства.
Фридрих заговорил о фигурном
катании. Похвалил русских чемпионов.
Сказал, что русский балет потрясает
мир.
— Ну, что вы! — воскликнула Соня.
— Вот недавно здесь был французский
балет — это искусство. Модерн! Нашим
надо было бы поучиться!
На самом деле
французского балета она не видела: не
смогла достать билет. Да и не очень
стремилась увидеть: балет она не любила.
"Какой он культурный! Какой интересный
собеседник и какое привлекательное у
него лицо", — думала Соня, разглядывая
зеленоватые глаза иностранца, оттененные
темно-рыжими ресницами, его удивительно
спокойные брови, прочерчивающие спокойные
блестящий лоб. Губы у него были полные
и влажные. Он то и дело облизывал их.
Соне в голову запали слова иностранца:
"Не теряйте знакомства со мной, и вы
сможете поехать в Западную Германию".
"Ни за что не потеряю эту возможность",
— решила она и, прощаясь с Фридрихом,
дала ему номер своего телефона.
До
отъезда Фридриха из Москвы оставалось
всего несколько дней, и поэтому роман
развертывался стремительно.
На
следующий день Фридрих до часа ночи
провел у Сони. Он бы не ушел и в час, если
бы в комнате не появился ее отец —
могучий мужчина, напоминающий борца
тяжелого веса. Он прочно сел в жалобно
скрипнувшее кресло, явно намереваясь
сидеть в нем до тех пор, пока гость не
покинет дом.
И гость поторопился уйти.
А еще через день в подъезде какого-то
дома Соня уже целовалась с Фридрихом,
и, прижимая ее к себе, он шептал, что
изъездил все страны мира, но девушек
прелестнее русских не видел.
Фридрих
сказал Соне, что ему обещали оформить
ее выезд в Западную Германию по его
приглашению. Вероятно, она сможет выехать
прямо на днях вместе с ним и Людвигом.
Только пока она должна сохранить это в
тайне и уж пусть не сердится на его
нерыцарское поведение: оплату билетов
туда и обратно ей придется взять на
себя. У иностранцев, как известно, русских
денег мало. Зато там, в ФРГ, ей не
потребуется ни одного пфеннига!
Договорились, что вечером Соня принесет
деньги, они вместе отвезут их тому, кто
взялся оформить ее отъезд, а оставшееся
время проведут в ресторане.
Соня
надела свое нарядное платье — из зеленого
бархата, в тон отделанное бахромой,
взяла под мышку новые лаковые туфли и
помчалась на свидание с Фридрихом.
Он
встретил ее в метро, поцеловал при всех
и, положив на ее плечо тяжелую руку,
повел к эскалатору.
Не умолкая,
рассказывал он ей о международных
соревнованиях, о себе, о немецких
девушках, о том, какими изумительными
будут те десять дней, которые проведут
они вместе в ФРГ. Он никогда не был так
разговорчив, и Соня решила, что это от
радости.
Они ехали в метро, в троллейбусе,
шли какими-то переулками. Она ничего не
замечала, кроме Фридриха.
— Ты
представляешь, где мы? — с улыбкой
наконец спросил он.
— Нет. Я совершенно
запуталась. И удивляюсь, как ты хорошо
ориентируешься в Москве.
— О! Я
достаточно изучил этот путь.
Они вошли
в покосившиеся ворота. Облупившиеся
стены старых домов окружали двор с
четырех сторон.
Фридрих пошел вперед.
Соня едва успевала за ним. Он остановился
около двери, притронулся к ней рукой,
не позвонил, не постучал, а просто
притронулся, и она открылась.
В дверях
стоял Людвиг.
Потом Соня смутно
припоминала, что случилось.
Ее сразу
же охватил панический страх, сразу же,
как только увидела холодные глаза
Людвига. Фридрих втолкнул ее в прихожую,
и дверь позади нее бесшумно закрылась.
— Если пикнешь... — на чисто русском
языке прохрипел Людвиг, показывая острое
лезвие.
Почти теряя сознание, Соня
лязгнула зубами и ошалело подняла кверху
руки. Ее втолкнули в комнату. Фридрих
торопливо схватил ее сумочку, стал
вытаскивать деньги. А Людвиг в это время
снимал с нее шубку.
— Часы. Кольцо не
забудь, — сквозь зубы процедил Фридрих,
не отрываясь от сумочки.
Ее трясло от
страха.
— Туфли! — командовал Фридрих.
— Теперь платье!
Она попробовала
снять платье, но ее трясущиеся руки не
слушались.
Фридрих расстегнул молнию,
Людвиг стянул рукава, и платье скользнуло
к ее ногам.
— А ну, подними ноги! —
грубо скомандовал Фридрих.
Она сделала
шаг и упала.
Людвиг ногой оттолкнул
ее. Она перевернулась с боку на спину
и, раскинув руки, осталась недвижима.
— Позабавились бы с тобой, любительница
Запада, да времени нет, — с сожалением
сказал Фридрих.
Она не слышала этих
слов.
Она была без сознания. А когда
пришла в себя и села, пытаясь понять,
где находится и что с нею произошло, —
была уже ночь. Круглая луна сквозь окно
и тюлевую штору бездумно глядела в
комнату, заливая ее холодным, спокойным
светом.
Вдруг Соня вспомнила все, что
случилось, и, подавляя крик ужаса,
осторожно поползла в темный, не освещенный
луной угол, сознавая, что это бесполезно.
И в темном углу ее все равно найдут.
Она
прижалась спиной к стенке и стала
прислушиваться. В квартире было тихо,
так тихо, что она отчетливо слышала
сумасшедший стук собственного сердца.
Не похоже было, чтобы кто-то кроме нее
находился здесь. Она долго, бесконечно
долго прислушивалась, пугаясь шума,
доносившегося из соседних квартир и с
улицы.
Вот где-то наверху стукнула
дверь, на лестнице послышался беспечный
девичий смех, шаги, голоса. Они приближались,
и вот молодые люди прошли мимо дверей
этой страшной квартиры. Соня вскочила
и, отважившись, бросилась в коридор к
дверям.
«Закричать? Нет, лучше тихо
открыть дверь и выбежать на лестницу,
пока эти спят...» Она почему-то была
уверена, что те двое, назвавшиеся
иностранцами, обязательно спят в соседней
комнате.
Она ощупала дверь, нерешительно
повернула американский замок. К ее
изумлению, дверь легко открылась — и
Соня увидела, как мелькнули фигуры
спускающихся по лестнице девушек.
Соня
выбежала на площадку. Ноги без туфель
мгновенно ощутили холод. Она вспомнила,
что на ней нет платья, и нерешительно
отступила в коридор квартиры, не закрывая
двери. Слабый свет с лестницы осветил
висящий на вешалке старый прорезиненный
плащ. Схватила его, всунула ноги в
стоявшие тут же дамские резиновые сапоги
и помчалась по лестнице, на ходу надевая
плащ и приглаживая волосы.
Она выбежала
во двор, потом на улицу и только тогда
облегченно вздохнула.
Мелькая призывным
зеленым огоньком, приближалось такси.
Выскочив на дорогу и загородив собой
проезд, Соня поднял руку.
Таксист
остановил машину, с любопытством оглядел
девушку в плаще и без головного убора.
Спросил:
— А деньги-то есть?
— Есть,
конечно! — воскликнула Соня, пугаясь
своего хриплого голоса, и торопливо
влезла в машину.
В такси было тепло.
Она откинулась на спинку сиденья и на
какое-то мгновение снова потеряла
сознание.
...Длинный звонок разбудил
отца и мать. Мать открыла дверь и с трудом
удержала крик, увидев Соню в чужом плаще,
растрепанную, с воспаленными, испуганными
глазами. Сзади нее стоял мужчина и
равнодушно звенел ключами.
— Мама,
расплатись с таксистом! — сказала Соня,
опять с ужасом прислушиваясь к чужому,
хриплому голосу.
Она хотела снять
плащ, но вспомнила, что она в одной
комбинации, и пошла, в чем была, в свою
комнату, упала на диван и разрыдалась.
Испуганные родители суетились около
нее, стаскивали плащ, сапоги, поили
валерьянкой. Отец начал было вызывать
неотложную помощь, но Соня приподнялась
и истерически закричала:
— Не надо!
Меня раздели в подъезде, сняли часы,
кольцо, вырвали сумку...
— Тогда в
милицию! — настаивал отец.
— Не надо!
Оставьте меня в покое! Дайте прийти в
себя! Не надо! Никуда не надо звонить!
— Ну хорошо, девочка, хорошо! —
растерянно суетился возле нее отец.
Мать, такая же бледная, как и Соня,
дрожащими руками подавала ей лекарства.
А «Фридрих» и «Людвиг» уже на несколько
сотен километров отъехали от Москвы в
поезде южного направления. Они были
довольны собой: четыре любительницы
Запада попались на удочку. А как удачно
удалось использовать квартиру уехавшего
в командировку геолога...
«Фридрих»
и «Людвиг» были вполне спокойны — вряд
ли их жертвы заявят о происшедшем: как
они будут при этом выглядеть?..
10
Нонна и тетя Таня в Мюнхен
приехали в темноте. Может быть, потому,
что Нонна устала от впечатлений, первая
встреча с Мюнхеном оставила ее равнодушной,
хотя тетя Таня несколько раз повторила,
что Мюнхен называют маленьким Парижем.
И провезла ее по самым достопримечательным
местам: мимо башни новой ратуши, где с
давних пор каждый день в 11 часов начинался
бой курантов, сопровождаемый танцами
цветных фарфоровых фигур; и мимо
Мариинской колонны со статуей богородицы
— покровительницы Баварии; и по оживленным
площадям Карлсплац и Одионсплац со
зданиями резиденций, церковью в стиле
барокко Тиа-гинер-кирхе, с сохранившимся
придворным садом Гофгартен и постройками
эпохи баварского короля Людовика I.
Тетя Таня показала племяннице
знаменитый оперный театр, величественное
здание университета, даже в этот вечерний
час окруженное кольцом велосипедов и
автомобилей. Провезла Нонну мимо
Баварской академии и, конечно, мимо
своих магазинов и типографий.
А потом
они снова выехали за город, потому что
тетя Таня жила на вилле в двадцати
километрах от Мюнхена.
Ее вилла стояла
в дачной местности. Рядом были такие же
двухэтажные дома с гаражами и садиками,
отгороженные друг от друга зелеными
заборами из причудливо заснеженного и
в зимнюю пору не умирающего кустарника.
Тетя Таня загнала машину в гараж и
долго возилась на крыльце, открывая
дверь несколькими ключами.
«Неужели
она живет одна?» — подумала Нонна. И,
как бы прочитав ее мысли, тетя Таня
сказала:
— Живу, Нонночка, одна в
восьмикомнатном доме. Решила продать
дом и построить другой, поменьше.
«Вот
это да! — в душе смеясь и чуть-чуть
злорадствуя, подумала Нонна. — Капиталисты
сокращают размах!»
Они вошли в дом,
через небольшой коридор прошли в
прихожую. Нонна с любопытством огляделась.
Зеркало в рост человека. Вешалка. Пол
покрыт зеленой ворсистой материей.
Они
разделись. Тетя Таня убрала шубы в
стенной шкаф и повела Нонну показывать
свое жилище.
— Это вот для тебя.
Они
вошли в небольшую комнату с удобным
диваном, двумя креслами, низким
телевизионным столиком и секретером в
углу. Такая же, как в прихожей, ворсистая
материя покрывала пол.
Все в доме было
предельно просто. Стояли только
необходимые вещи.
— Тетя Таня! Вы —
капиталистка? — спросила Нонна за
ужином.
— Все мои капиталы вложены в
предприятия. У меня магазины и типографии,
Нонночка, не только в Германии, но и в
других странах. Живу я, как ты видишь,
скромно. На себя трачу мало. Немцы весьма
экономны. Мой муж был просто скуп и
научил меня ценить не только марку, но
и пфенниг. Вот видишь, мой ужкн...
Тетя
Таня указала на стол.
В честь встречи
гостьи из-за рубежа он мог бы быть
действительно более богатым. На столе,
кроме пшенной каши, салата, тушеных
овощей и жареного цыпленка для Нонны,
ничего не было. Студенты-стипендиаты
театрального училища, собираясь
повеселиться, устраивали более обильное
угощение.
Нонна очень устала. Тетя
Таня заметила, что глаза ее слипаются.
— Ну вот что, деточка, иди-ка спать.
Поговорим завтра, — сказала она и,
расцеловав племянницу, проводила ее до
дверей комнаты.
Утром Нонна проснулась
поздно. В доме было тихо. Она надела
халат, домашние туфли, выглянула в
коридор, потом прошлась по всем комнатам
нижнего этажа, поднялась наверх.
Все
сияло чистотой. Тети Тани не было. И
когда только успела она навести порядок!
В кухне, накрытый салфеткой, стоял
завтрак для Нонны: две булочки, квадратик
масла в изящной упаковке, две крошечные
круглые баночки: на одной — пчела (это
был мед), на другой — гроздь вишни (это
— повидло). На электрической плитке
стоял кофейник с уже изрядно перепарившимся
кофе. На столе лежали ключи и записка:
«Нонночка! Я уехала в семь часов. В
двенадцать за тобой приеду. Вместе
пообедаем в каком-нибудь экзотическом
ресторане. Можешь погулять. Здесь совсем
близко прекрасный парк. Но не забудь
закрыть дверь на все три ключа.
Тетя
Таня».
Нонна с удовольствием помылась
под душем в розовой ванне, полюбовалась
розовым кафелем, позавтракала и
почувствовала, что она могла бы еще
съесть два таких завтрака. Заглянула в
кухонный шкаф, но ничего съестного не
обнаружила. Долго возилась она с большой
круглой машиной для мойки посуды, но,
так и не сумев разобраться в многочисленных
кнопках и дверках ее, вымыла посуду
обычным способом — под краном над
раковиной.
— Вот как живут капиталисты!
— вслух сказала Нонна. — Вот куда я
затесалась!
И подумала, как много
интересного расскажет она Алеше, своим
друзьям и бабушкиной компаньонке,
которая чуть с ума не сошла от счастья
и удивления, узнав, что Нонна едет в ФРГ.
В гостиной Нонна подошла к горке и
стала рассматривать сувениры из разных
стран. Здесь, в компании обезьян, бронзовых
божков, кукол и матрешек, уже стояли
подаренные Нонной позолоченные деревянные
рюмочки, разукрашенные старинным русским
рисунком.
Ее заинтересовал необыкновенный
цветок, напоминающий огромный лотос,
стоявший на окне в обычном горшке с
землей.
«Цветет зимой, удивительно!
И как бурно цветет»,— подумала она и
склонилась над ним. Он неприятно пах
свежей краской. Нонна поняла, что цветок
искусственный.
Такой же искусственный
подсолнух «цвел» в горшке на полу.
—
А у нас искусственные цветы считают
дурным тоном! — сказала она вполголоса
зеркалу на стене и остановилась,
задумалась.
Вспомнился Алеша с его
непонятливым отношением к ней. Он никогда
не говорил о любви, но все свободное
время свое проводил подле Нонны. Он при
всех держал ее за руку, точно собирался
вот так, рука об руку, пройти по жизни.
На этом все и кончалось. Совсем не так,
как у всех. Он даже ни разу не поцеловал
ее.
Друзья думали, что они вот-вот
поженятся, намекали, задавали вопросы.
Нонна не знала, что отвечать.
Конечно,
она вышла бы за Алешу замуж, даже просто
сошлась бы с ним, но он не давал для этого
повода.
А действовать самой не позволяла
девичья гордость.
«Ах, как это
несовременно, как это несовременно!» —
сказала Нонна зеркалу.
Она осторожно
вытерла глаза кончиками пальцев и
заметила, что маникюр на ногтях сошел.
Слава богу, нашлось дело! Она взяла
флакончики с ацетоном и лаком, удобно
уселась в кресло и занялась маникюром.
А все-таки жизнь была чудо как хороша!
Она в Мюнхене! В доме капиталистки —
своей собственной тетки! Забавно!..
Зазвонил телефон.
Осторожно, чтобы
не смазать лак, Нонна взяла трубку и
поднесла к уху.
— Нонночка! — сказала
тетя Таня. — За тобой приедет мой
компаньон Курт Браун. Он немного знает
по-русски. Будь готова. Принарядись.
Нонна надела голубой костюм и лаковые
туфельки. Она взбила свои прекрасные
волосы, спереди перехватила их маленьким
коричневым бантом на приколке.
Курт
Браун не заставил себя долго ждать.
Вскоре он появился. Это был мужчина лет
сорока пяти, крепкий и моложавый.
—
Добрый день, фрейлейн Нонна,— сказал
он с сильным акцентом. — Я был пять лет
в плену у русских. Я немного не забыл
говорить по-русски.
Нонне стало смешно
оттого, что все, с кем бы ни встречалась
она, начинали с этой фразы. «Крепко им
дали сдачи», — с удовлетворением подумала
она и кокетливо пригласила Курта пройти
в гостиную.
— Найн. Битте... — Он
спохватился и заговорил по-русски,
снисходительно улыбаясь над своей
корявой речью. — Фрау Татьяна ждет...
Живыми карими глазами он с явным
удовольствием оглядел Нонну:
— Так
нельзя. Туфли нельзя... Надо тепло. Ехать
нужно в Нюрнберг.
Нонна удивилась
этой неожиданной поездке, но послушно
надела сапоги.
Курт немного манерно
вел свой великолепный «мерседес», то и
дело выпуская руль из рук, всем корпусом
поворачивался к Нонне и с улыбкой
оглядывал ее оценивающим мужским
взглядом.
У него было миловидное, чуть
женственное лицо, широкое и румяное.
Он много говорил, с трудом, но и с явным
удовольствием вспоминая русские слова.
Он рассказывал о том, как был в плену
в небольшом городе вблизи Свердловска.
Стояла суровая зима. Одежда пленных
износилась. С едой было плохо. Но и у
русских износилась одежда, им тоже
нечего было есть.
Однажды что-то
случилось с пекарней, и пленным два дня
не привозили хлеб. Курт, измученный
холодом и голодом, превозмогая слабость,
работал на стройке. Мимо шла старуха с
кошелкой. Она остановилась около пленных.
Плачет о погибшем сыне, ругает немцев,
а сама последний хлеб свой сует в руки
Курта...
Слушая его, Нонна разволновалась.
А Курт уже рассказывал о другом: он был
еще мальчишкой, когда видел Гитлера. На
стадионе Партейленде в Нюрнберге фюрер
принимал парад войск.
— Фрейлейн
Нонна желает увидеть в Нюрнберге этот
стадион?
Они сегодня же побывают там,
а потом зайдут во Дворец юстиции,
знаменитый Нюрнбергским процессом.
Нонне хотелось посмотреть все. Она
даже дала согласие на машине без всяких
виз и без разрешения тети Тани проскочить
в Австрию, где у Курта была своя дача.
— А в Париж нельзя? — наивно спросила
Нонна.
— Нельзя, — улыбнулся Курт.
К
концу пути Нонне казалось, что Курта
она знает давным-давно. Она смеялась
над его произношением и нисколько не
чувствовала разницу в возрасте. Курт
казался ей до того простодушным, что
она позволяла себе слегка подтрунивать
над ним. И он на нее не обижался.
Внезапно
на одной из шумных мюнхенских улиц
машина затормозила и въехала во двор.
— Здесь наш магазин, — сказал Курт,
с трудом протискиваясь между множеством
маленьких автомобилей, наводняющих
двор.
— Это машины наших служащих, —
сказал Курт, выключая мотор. И рассказал,
что это и есть та самая беда, из-за которой
ему и фрау Татьяне приходится строить
новые дома для магазинов. В этом дворе
служащим негде ставить свои машины, и
они не хотят работать.
В дверях
появилась тетя Таня, в коричневом
костюме, с наброшенной на плечи коричневой
шубкой. Издали она напоминала девочку:
гладкие, коротко остриженные волосы,
зачесанные на пробор, худенькая и очень
подвижная. Веснушки, густо разбросанные
по всему лицу и рукам ее, тоже казались
трогательно-детской приметой.
—
Нонночка! Курт! — жестикулируя, кричала
она. — Я немного задержу вас.
Курт
осторожно взял Нонну за локоть и повел
в тот подъезд, в котором быстро исчезла
тетя Таня.
Внизу этого дома расположены
были книжные магазины с фешенебельными
витринами и вывесками. Наверху, куда
поднимались Курт и Нонна, находились
канцелярии, машбюро, кабинеты тети Тани,
Курта и консультантов.
Курт пояснил
Нонне, что занимается издательской
деятельностью, а фрау Татьяна —
книготорговлей и что их издательства
и магазины есть в Италии и Португалии.
— О! Вы — миллионеры, эксплуататоры!
— со смехом, но и с порицанием воскликнула
Нонна, останавливаясь и снизу вверх
поглядывая на Курта глазами-фонариками.
— Миллионеры — да! — с достоинством
ответил Курт. — Эксплуататоры — нет!
Мы хорошо платим рабочим и служащим.
—
Знаю я все это! — сказала Нонна. — Изучала
политэкономию.
Курт не понял, но
переспрашивать не стал.
А Нонне было
очень любопытно. Она подумала о том, как
легко ей теперь будет сдавать политэкономию.
Какими убедительными примерами из жизни
она сможет подтвердить свои ответы на
экзаменах.
Курт и Нонна вошли в коридор.
Здесь был тот же мягкий пол, к которому
никак не могла привыкнуть Нонна, потому
что шагов не было слышно и человек
появлялся внезапно, как привидение.
—
Вот здесь машинистка. Посмотреть? —
предложил Курт.
Он открыл дверь. В
просторной комнате стучали на машинках
две девушки. Одна из них кокетливо
повернулась к вошедшим на вертящемся
стульчике, и по тому, как загорелись ее
щеки и глаза, Нонне показалось, что у
Курта с ней отношения не обычные.
«Интересно, есть ли у него семья?» —
подумала Нонна.
Курт представил Нонну,
и девушки, решив, видно, что она наследница
теткиных капиталов, посмотрели на нее
с такой нескрываемой завистью, так
подобострастно, что Нонне стало не по
себе. Она поспешно вышла из комнаты.
Курт провел ее к фрау Татьяне.
Пол
огромного кабинета был застлан ковром.
В переднем углу стоял письменный стол,
возле которого размещались круглые
столики с телефонами. В противоположном
углу — диван, два кресла и ваза с
искусственными цветами.
Тетя Таня
оживленно беседовала с какой-то женщиной.
Обе сидели на диване. Нонна поздоровалась.
Женщина молча и неприветливо кивнула
ей, но, когда тетя Таня сказала, что это
ее племянница из Советского Союза, она
встала, пожала Нонне руку и без улыбки,
пристально поглядела в ее лицо поблекшими,
а некогда, видно, прекрасными глазами.
Тетя Таня пригласила Курта принять
участие в разговоре.
— А ты, Нонночка,
сядь пока за мой стол и минуточку подожди.
Нонна села в кресло и увидела на столе
бронзовый бюст Пушкина. Она удивилась
и обрадовалась, придвинула его к себе.
Здесь, в далеком Мюнхене, это знакомое
лицо было таким родным, что она приблизила
бюст к себе и незаметно поцеловала
холодную бронзу.
«Вероятно, только
этот бюст и напоминает тете Тане о
родине. Как могла она уехать сюда? Как
могла Германия стать ее второй родиной?»
— подумала Нонна и посмотрела на тетю.
Маленькая, моложавая, энергичная, она
сыпала немецкими фразами. Она очень
походила на отца Нонны и все равно была
такой же чужой, как Курт Браун и та худая,
высокая и в прошлом, видимо, очень
красивая женщина. Даже болтливая Мария
Ивановна, с которой Нонна ехала в поезде,
была ей гораздо ближе родной тетки.
Курт подошел к столу и, загораживая
Нонну спиной от сидящих на диване, сказал
тихо:
— Эта женщина, Траудель Юнге,
была секретарь Гитлера. Я потом расскажу.
Он сделал вид, что поискал на столе
какую-то бумагу, передвинул стопки книг,
секунду помешкал и снова присоединился
к разговаривающим.
Нонна с любопытством
разглядывала секретаря Гитлера. Эта
женщина была свидетельницей страшных
дел и даже в чем-то их соучастницей. Как
было бы интересно обо всем расспросить
ее. Кто она теперь? Что думает о том
ужасе, которым наводнил мир ее фюрер?
Чувствует ли она вину свою?
Траудель
Юнге сидела на диване, положив ногу на
ногу, с открытыми худыми коленями.
Несмотря на зимнее время, на ней была
многоцветная кофточка без рукавов, с
высоким, модным воротником, и узкая
черная юбка. Руки до кистей у нее были
худые и дряблые, и Нонна удивилась, зачем
она их открыла. А кисти рук — молодые и
красивые, и такими же, почти не поддавшимися
времени, были ее пышные, забранные кверху
волосы с легкой проседью.
Она курила
одну сигарету за другой, и, когда говорила
или усмехалась (не улыбнулась она ни
разу), виден был великолепный оскал
зубов, увы, чуть-чуть испорченный золотыми
коронками.
Потом, когда она ушла, тетя
Таня сказала:
— Это — очень несчастная
женщина. Она работает сейчас секретарем
в одном издательстве. Но ее много раз
увольняли с работы именно за ее прошлое.
А что могла она знать в двадцать лет? Ее
взяли по мобилизации, как отличную
машинистку, и она попала сразу же в
ставку Гитлера «Волчье логово» в
оккупированной Польше.
— Я знаю, —
сказала Нонна. — Я читала о ней. Я знаю,
что эта женщина вместе с Гитлером и его
последним окружением находилась в
бункере под имперской канцелярией
вблизи от Бранденбургских ворот и
рейхстага в апреле тысяча девятьсот
сорок пятого года... когда кончилась
гитлеровская Германия и наши войска
вступили в Берлин. Там произошло это
страшное бракосочетание Евы Браун с
Гитлером. Бракосочетание перед
самоубийством... Гитлер диктовал этой
женщине свои завещания...
— Он,—перебил
Курт,—уходя, достал из кармана ампулу
с цианистым калием и сказал секретарше:
«Фрейлейн, мне нечего больше оставить
вам на память. Думаю, что вам это теперь,
как и всем нам, нужнее всего».
— Я знаю
и это,— волнуясь, сказала Нонна.— Но
она не отравилась. Она под шквальным
огнем выбежала из бункера и спаслась в
развалинах.
— Ей бог помог! — сказал
Курт.
— Но как же она, эта женщина... —
продолжала расспрашивать Нонна, — как
могла она печатать на машинке его
страшные приказы и завещания? Она же
знала, видела, что делается вокруг. Она
же знала о лагерях?
— Ей было всего
двадцать лет, — сказал Курт.
— Зое
Космодемьянской было семнадцать! —
воскликнула Нонна.
— Но все приближенные
фюрера были им очарованы, — примиряюще
сказала тетя Таня.— Да и только ли
приближенные? Он очаровал полмира!
—
Очаровал?! — воскликнула Нонна.— Чем?
Концлагерями?!
Она понимала, что с
этими людьми бесполезно спорить. Ей
показалось, что даже имя Зои Космодемьянской
было им неизвестно. В этот миг она
негодовала на себя за то, что приняла
пршлашение и приехала в эту страну.
Тетя Таня почувствовала настроение
племянницы и решила перевести разговор
на другую тему.
— Нонночка, бросим
рассуждать о политике. Ни ты, ни я, ни
Курт в этом не компетентны. Это дело
наших правительств. Поедемте лучше
обедать. И знаете, что я придумала?
Посетим ресторан на телевизионной
вышке. Ты с огромной высоты увидишь весь
Мюнхен. Это великолепное зрелище!
—
Фрейлейн Нонна не возражает? — спросил
Курт, улыбаясь.
«В самом деле, я приехала
сюда развлекаться и увидеть страну. Не
буду ничего принимать близко к сердцу:
бесполезно агитировать капиталистов!»
— решила Нонна и очаровательно улыбнулась
Курту.
Тетка была довольна.
11
Они
подъехали к телевизионной вышке и на
скоростном лифте поднялись в ресторан.
Курт открыл дверь, галантно пропустил
мимо себя вначале фрау Татьяну, потом
Нонну.
Ресторан был круглый, с
застекленной стеной, за которой лежал
город. Круглый зал неощутимо двигался,
и только в середине его закрытые
портьерами служебные помещения оставались
на месте.
Действительно, отсюда Мюнхен
был виден как на ладони, до самого
горизонта. Нонна увидела энергичные
здания эпохи Ренессанса, изысканные
строения рококо, устремленные ввысь
церкви в готическом стиле, размах и
богатство форм барокко и здания сугубо
современного стиля.
Тетя Таня и Курт
расспрашивали Нонну об училище, о ее
жизни, о ее знаменитой бабушке, которую,
по словам тети Тани, до сих пор помнил
весь мир.
— Послушайте, — вдруг сказал
Курт. — Я вспоминаю...—и он перешел на
немецкий язык, а тетя Таня стала
переводить.
— Курт говорит, что он
слышал, будто в Париже снимают фильм
«Марфа Миронова». Знаешь ли ты, Нонночка,
об этом?
Нонна от изумления так и
подалась вся вперед к Курту, сидящему
напротив.
— Нет, я ничего не знаю,—
сказала она.
— Курт говорит...—
продолжала тетя Таня, явно волнуясь.
Между сдвинутых бровей ее появилась
глубокая складка. — Курт удивляется...
Неужели это не было согласовано с Москвой
и с самой Марфой Мироновой? Курт говорит:
может быть, ты, Нонночка, просто не в
курсе?
— Я не могу быть не в курсе,
потому что бабушка слишком стара. Она
сама ничего уже не может. И вся связь ее
с внешним миром происходит только через
меня.
Нонне вдруг стало очень жалко
свою старую бабушку, которая прожила
такую необычную, яркую жизнь и подарила
людям так много радости.
— Как бы
узнать точно об этом фильме? — спросила
Нонна.
— О! Фрейлейн Нонне стоит только
сделать приказ! — воскликнул Курт.— Я
все узнаю!
Курт совершенно явно
ухаживал за Нонной, и ей это нравилось.
Он выразил сожаление, что так плохо
знает русский язык. Если бы он знал, что
когда-нибудь ему посчастливится встретить
такую очаровательную русскую девушку,
он бы, конечно, за пять лет пребывания
в России выучил этот язык в совершенстве.
Он способен к языкам и хорошо знает
итальянский и английский.
— Я пробит
в самое сердце! — воскликнул Курт,
прижимая руки к груди и склоняя голову.
Нонна принялась звонко хохотать.
Засмеялась и тетя Таня, а Курт обиженно
заморгал глазами. Тетя Таня тотчас же
разъяснила ему, почему эта фраза их
обеих развеселила.
Потом тетя Таня
стала расспрашивать Нонну, изменился
ли внешний облик Москвы с тех пор...
«С
тех пор» — это означало со времен второй
мировой войны... Нонны тогда на свете не
было, и она не могла удовлетворить
любопытство своей тетки. Она могла
только сказать, что Москва прекрасна.
И что, конечно, ни Берлин, который она
видела, правда, только из поезда, ни
Мюнхен невозможно сравнить с Москвой.
А люди? Ей вспомнился бегущий за поездом
Алеша, с кожаными перчатками, поднятыми
над головой, вспомнился маленький,
взъерошенный Антон, вспомнилась Люся,
привезенная из детского дома. И даже
вспомнилась Александра Антоновна,
подтянутая, с книжечкой, в которую она
записывала студенческие долги. Все они
были прямы и честны в своих отношениях
друг с другом, и все были поистине
одержимы творчеством. Нет, лучше тех,
кто остался там, на ее родине, в мире не
было никого... Она была в этом уверена.
— Нонна, вы говорите смешно. Это
потому, что вы очень молодая, — возразил
Курт. — Хорошие люди есть везде.Есть
город красивее Москвы. Я был в Москве.
Нью-Йорк тоже красивый. Красивая Прага.
Много красивых городов.
— Все равно!
— упрямо сказала она. — У человека есть
чувство родины, и оно делает его страну,
его город, его друзей самыми лучшими.
— Чувство родины изменчиво, как все
чувства, — заговорил Курт.— Вот, например,
фрау Татьяна... — Но Курт заметил, что
его компаньонке не понравились эти
слова, и он с деланным смехом воскликнул,
обращаясь к Нонне: — Я нарочно вызывал
вас поспорить. Вы, когда сердитесь,
становитесь еще красивее!
А Нонна
подумала: «Вот уже сутки я в Мюнхене, а
с тетей Таней мы почти не оставались с
глазу на глаз. Зачем здесь этот Курт? Мы
могли бы обедать вдвоем и разговаривать
откровенно обо всем, без свидетелей».
Но тетя Таня — в прошлом Татьяна
Тимофеевна Соловьева, а теперь фрау
Татьяна Вейсенбергер — намеренно
отдаляла такой разговор. Ей хотелось
прежде узнать, что собой представляет
племянница. Она была деловым человеком,
и это был ее стиль работы. Она любила
действовать наверняка, не попадая
впросак. Такой подход к людям она усвоила
и в личных отношениях.
А Нонна сейчас,
глядя на свою тетку, мысленно провела
параллель между ней и той немолодой,
красивой женщиной — бывшей секретаршей
Гитлера.
Фрау Татьяна сказала тогда,
что нельзя обвинять Траудель Юнге в
том, что она работала у Гитлера. Ей было
тогда всего двадцать лет.
При первой
же встрече с теткой Нонна спросила ее,
как могла она покинуть родину, и та
оправдалась тем же удобным способом:
молодостью, своими двадцатью годами.
Гитлеровская секретарша утверждала,
что она (а может быть, также и ее фюрер!)
не знала даже о существовании лагеря
Дахау, который был расположен тут же,
под Мюнхеном. Из города можно было видеть
дымящиеся грубы крематория, в котором
сжигали узников. Она не могла не знать
этого! Она — в свои непримиримые с
насилием двадцать лет — мирилась с
этим! И не восстала...
Татьяна Вексенбергер
во время войны жила с мужем в Швеции.
Она спокойно созерцала издалека, как
погибала ее родина под ударами гитлеровских
захватчиков. И неизвестно, радовалась
ли она тогда, когда Россия, как сказочный
раненый богатырь, истекающий кровью,
внезапно расправила плечи, нанесла
смертельный удар стоглавому змию.
Нонна
второй раз за этот день пожалела, что
приехала в гости к тетке.
— А вы, Курт,
родились в Мюнхене? — спросила Нонна,
отгоняя неприятные мысли.
— Нет. В
Италии. Я жил там четырнадцать лет. А
потом приехал в Мюнхен.
— Вы — немец?
— Да.
— А вы могли бы жить, скажем,
в Америке или в Англии?
— О да, конечно.
Если это было бы удобно мне.
— Удобно
— и только? — изумилась Нонна.
—
Удобно во всех отношениях.
Курт снова
увидел, что разговор неприятен фрау
Татьяне. Он налил вина в три рюмки, поднял
свою и сказал по-немецки:
— За прекрасную
русскую девушку! За вашу судьбу. Она
должна быть блестящей, как судьба вашей
знаменитой бабушки.
«Она не будет
такой, как у бабушки, не будет, если даже
хватило бы таланта. Счастливая звезда
восходит слишком редко!..» — подумала
Нонна и грустно улыбнулась Курту.
Чокаться в этой стране не полагалось.
Тетя Таня вдруг поспешно налила еще
вина в рюмки и заговорила горячо, с
волнением:
— А теперь вот за что
выпьем: Курт обещал узнать насчет фильма
«Марфа Миронова». Если это подтвердится,
мы сейчас же сообщим о том, что у Марфы
Мироновой есть внучка-актриса, и потребуем
ей роль. Из Германии ты прямо перекочуешь
во Францию и прямо, Нонночка, в кинозвезды!
Нонна опустила глаза и молча, без
улыбки выпила свое вино. Опять ей стало
не по себе в обществе Курта и тети Тани.
И опять она утешила себя: «Я приехала
развлечься. Не буду разгадывать их
мысли, не буду ни о чем думать, буду
смотреть, смотреть и веселиться».
И
она стала изучать Курта — прямо,
беззастенчиво, как это делают дети. Она
отметила, что его румяные щеки были
великоваты для его лица. Так же великоваты
были и его руки, покрытые легким рыжеватым
пушком. Они, эти большие руки, были
слишком уж подвижными, цепкими. Его
светлые, с чуть заметной рыжинкой волосы
красивыми волнами шли кверху, закрывая
четко намечающуюся лысину. Ее Нонна
разглядела еще в машине, когда тетя Таня
сидела рядом с Куртом на переднем
сиденье. Она разглядела эту лысину и с
непонятным ей самой торжеством усмехнулась
так громко, что тетя Таня обернулась.
— Курт, а к какой партии принадлежите
вы? — спросила Нонна.
— Я не принадлежу
ни к какой партии,— ответил он.
«Состоять
в партии, вероятно, для вас было бы
неудобно в некоторых отношениях?» —
чуть не сорвался с губ Нонны ехидный
вопрос, но она вовремя удержалась.
Затем
она стала рассматривать тетю Таню.
Прежде всего Нонну удивило то, что
тетя Таня жадно и много ела. «А завтрак
и ужин дома были такими легкими, —
подумала Нонна.—Нет, не такой уж плохой
у нее аппетит».
Вчера тетя Таня
нравилась Нонне больше. Вчера, неожиданно
для себя, Нонна почувствовала в ней
человека близкого по крови. Особенно
когда она так кстати появилась в Кёльне
у поезда. Сегодня это чувство прошло.
Перед Нонной был совершенно чужой
человек, непонятный и неприятный. Только
большое сходство с отцом примиряло
Нонну с ней. То же худощавое, моложавое
лицо, те же зоркие глаза неопределенного
цвета и (это она знала, правда, по
рассказам) такие же веснушки, как у отца,
густо покрывающие лицо, шею и руки.
Тетя
Таня выглядела для своего возраста
вполне хорошо. Она следила за своими
короткими, выкрашенными светлой краской
и отлично уложенными волосами, одевалась
изящно, со вкусом.
Нонну так и подмывало
спросить: «Неужели в ФРГ нет средств
против веснушек?» Она была уверена, что
тетя Таня не сводит веснушек просто
потому, что хочет иметь свои особые
приметы и чем-то отличаться от других.
Бабушкина компаньонка уверяла, что
Татьяна вышла замуж за немца и уехала
в Германию не потому, что полюбила
Вейсенбергера, а лишь потому, что это
было необычным, экстравагантным шагом.
Она и теперь любила все необычное.
Вероятно, и о Нонне поэтому вспомнила
и пригласила ее в Мюнхен. Курт рассказывал
Нонне, что фрау Татьяна известна в
Мюнхене своим салоном, где собираются
необычные люди. Таким образом и началось
ее знакомство с секретаршей Гитлера.
— Курт, у вас есть семья? — спросила
Нонна.
— Я... как бы это сказать? — он
обратился за помощью к тете Тане.
—
Он...—Тетя Таня замялась, она забыла
русское слово «холост». — Он не имеет
семьи.
— Я — жених, Нонна, —
многозначительно сказал Курт.
— Курт
очень завидный жених, — так же
многозначительно сказала тетя Таня. —
Он богат, красив, умен и, несмотря на
молодость, практичен. Что же еще надо?
Многие девушки были бы осчастливлены
его предложением. Но он что-то уж очень
долго выбирает подругу жизни. Право,
Курт, что-то уж очень долго!
— Да, очень
долго! —засмеялся Курт.— Не хотел... как
это по-русски... по расчету не хотел.
Хотел по любви. А полюбить не получалось...
Курт посмотрел на Нонну так, что без
слов стал ясен конец фразы. «А теперь,
мол, пришла любовь».
Нонна вспыхнула
и потупилась. «Что за чушь,—подумала
она, — разве можно влюбиться так быстро?»
Но ей вспомнилось, как Пушкин писал о
первой встрече Татьяны с Онегиным: «Она
сказала — это он». Да, видимо, бывает
любовь с первого взгляда, и очень может
быть, что холостой Курт влюбился в Нонну.
«Будет о чем порассказать друзьям:
капиталист влюбился в комсомолку!»
—
А я комсомолка, Курт, — сказала Нонна с
улыбкой, — и скоро вступлю в партию.
—
В какую? — спросила тетя Таня.
Сперва
Нонна не поняла вопроса.
— В партию,
— повторила она.
— Я понимаю...—сказала
тетя Таня.— Разве у вас по-прежнему одна
партия?
Нонна засмеялась. Таким смешным
ей показался вопрос тети Тани. «Уважаемая
тетушка, вы совсем онемечились», —
хотелось ответить ей, но Нонна серьезно
сказала:
— В Коммунистическую партию.
Курт и тетя Таня перекинулись какими-то
немецкими фразами.
А Нонна стала
рассматривать посетителей ресторана.
Ее внимание привлекли двое: он и она,
видимо — индусы. Она, задрапированная
в легкую тунику, с распущенными
иссиня-черными волосами и с огромными,
лежащими на плечах круглыми серьгами,
была удивительно хороша. Нонна заметила,
что Курт, с первого взгляда влюбившийся
в русскую девушку, все же довольно часто
поглядывал на соседний стол.
Спутник
этой красавицы был тоже хорош собой.
Его черная борода и баки, причудливо
закрученные на какое-то специальное
приспособление, уходили под чалму. Он
глядел на свою соседку с тем же выражением
жгучих глаз, как и Курт при взгляде на
Нонну.
Круг ресторана чуть уловимо
двигался и двигался, развертывая панораму
красивого старинного города, прозванного
маленьким Парижем.
Курт рассчитался
с официантом. Тетя Таня первая поднялась
из-за стола, улыбнулась и сказала:
—
Ну а теперь, Нонночка, в Нюрнберг! — И
обратилась к Курту: — Отдадим свое
золотое время моей милой племяннице.
— О! Я отдал бы ей жизнь, если бы она
захотела! — многозначительно перевела
тетя Таня фразу, сказанную Куртом
по-немецки.
Нонна вспыхнула. Поспешные
объяснения Курта в любви, в присутствии
тети Тани, казались ей странными и даже
циничными.
12
Ночью Нонна долго
не могла заснуть, перебирая впечатления
минувшего дня — первого дня в Мюнхене.
Вспоминался неуютный Нюрнберг. Дворец
юстиции, который она представляла себе
совсем иным, гораздо более величественным.
Зал, где в 1946 году судили главных военных
преступников... Скамья подсудимых, на
которой провели последние часы своей
жизни Геринг, Риббентроп, Кейтель,
Розенберг... Те, чьи имена навеки стали
символом кровавой, звериной жестокости.
— Это сохранилось с тех самых пор, —
сказал заместитель прокурора,
сопровождавший Нонну, фрау Татьяну и
Курта. Он указал на небольшой поднос с
графином, стаканом, пузырьками из-под
валерьяновых капель и нашатырного
спирта. Он показал маленькую дверь из
особого коридора, ведущую прямо к скамье
подсудимых.
— Им объявили приговор...
каждому в отдельности.
Эта дверь
открывалась. Вводили преступника. Он
стоял в свете прожекторов и слушал:
«Смерть через повешение».
...Вспомнился
Нонне страшный, запущенный стадион
Партейленде, где Гитлер принимал парады
своих войск.
Фюрер приказал построить
этот стадион так, чтобы он, подобно
Колизею в Риме, стоял тысячелетия,
напоминая миру о величии гитлеровской
эпохи. Но бомбы наступающих американских
войск повредили стадион. Он был запущен
и напоминал не о величии, а о безумии
человека, вовлекшего свой народ и весь
мир в величайшую катастрофу.
И почему
она, Нонна, не задумывалась над всем
этим? И почему редко говорят об этом ее
молодые друзья? А когда старшие напоминают
об ужасах войны, о героизме отцов, о
великой силе русского духа,— она и ее
сверстники иной раз даже и отмахиваются
от этих разговоров, как от чего-то
наскучившего, надоевшего, уныло-воспитательного
...
Потом вспомнился Алеша, и ей стало
грустно, безысходно грустно, как это
всегда случалось, когда она думала о
нем.
«Не любит?! Пусть! А вот Курт
влюбился. Буду крутить с Куртом, назло
Алеше. Я ничем ему не обязана. А Курт —
это экзотика! Советская комсомолка и
капиталист из ФРГ!»
Нонне стало смешно.
Она легла на живот, повернула голову
назад, насколько это было возможно,
оглядела себя в роскошном розовом
пеньюаре тети Тани, обхватила руками
подушку, уткнулась в нее, чтобы заглушить
собственный смех, и вскоре уснула.
А
Курт Браун не мог уснуть в эту ночь почти
до рассвета.
Он тоже жил на вилле под
Мюнхеном. Его хозяйством управляла
красивая незамужняя экономка средних
лет.
Когда-то Курт был женат. Но жена
его умерла вскоре после брака, и он не
особенно горевал, потому что женился
на ней исключительно по расчету.
Трехлетнюю дочь забрала к себе теща и
увезла в Веймар. Первое время Курт ездил
в ГДР, навещал дочь, а в последние годы
ограничивался материальной помощью.
Фрау Татьяна Вейсенбергер — компаньонка
Курта — не раз говорила о том, что у нее
на всем белом свете есть один родной
человек — племянница, сирота, которая
живет в Советском Союзе. Фрау Татьяна
вначале намекала Курту, а однажды прямо
сказала, что не плохо было бы ему
познакомиться с ее племянницей. Если
она человек стоящий, тетка могла бы
завещать ей свое состояние, а Курт нашел
бы во всех отношениях выгодную невесту.
В принципе соглашаясь на эту сделку,
он все же сказал фрау Татьяне:
— При
одном условии: если эта девушка не
оставит равнодушным мое сердце...
Оба,
конечно, не сомневались, что от состояния
тетки и от завидного жениха девушка
отказаться не сможет.
С первой же
встречи Нонна не только не оставила
равнодушным сердце Курта, но заставила
это сердце волноваться так, как оно не
волновалось уже давно — с далекой юной
поры...
Экономка Марта, в своем
национальном баварском костюме —
пестрый лиф, зашнурованный поверх белой
кофточки, клетчатая широкая юбка,
прикрытая спереди вышитым белым
передником, — постлала Курту постель,
взбила подушки, придвинула к тахте
ночной столик с мягко горящей лампой
и, взглянув на хозяина преданными
глазами, спросила тихо:
— Не надо ли
чего еще?
— Можете идти,— ответил
Курт.
Он полулежал на высоких подушках
и курил сигарету за сигаретой. Он
удивлялся себе. Он влюбился. И в душу
его закрались сомнения: сможет ли
полюбить его Нонна, а если и полюбит, то
останется ли она здесь? Еще с тех пор,
когда находился в плену, он хорошо знал,
что русские многим готовы пожертвовать
рада своей родины.
Он понимал, что не
случайно эта умная девушка спрашивала
его, мог ли бы он жить в Америке или в
Англии... Она-то, наверно, не сумеет жить
вдали от своей страны.
Не случайно
сообщила она и о том, что комсомолка и
собирается вступить в Коммунистическую
партию.
Но если бы она полюбила! Любовь,
только любовь могла бы изменить ее
убеждения!..
Курту казалось, что наконец
он встретил ту, которую искал всю жизнь.
Ту удивительную, которую не купить даже
миллионами. И он отчаивался.
Не сразу
заснула и фрау Татьяна. Она тоже думала
о Нонне, которая с первого взгляда
пришлась ей по душе, всколыхнула
неудовлетворенные материнские чувства
бездетной женщины, разбудила воспоминания
о юности и о родине...
Если бы удалось
уговорить племянницу остаться в Мюнхене
— не было бы у нее одинокой старости.
Она завещала бы Нонне все свое состояние.
А взамен хотела бы лишь одного — тепла
и внимания, заботы, когда будет стара и
немощна.
Ну, а жениха лучше Курта и
желать не приходится. Может быть, Нонну
не привлекут капиталы и завещание... Что
ж, тогда должен подействовать французский
фильм о Марфе Мироновой. Какая актриса
не пожелает стать кинозвездой? Это могло
оказаться сильнее денег!
Этот план
фрау Татьяны был известен Курту. Они
оба решили, что, если понадобится,
уговорят какого-нибудь французского
режиссера в самом деле поставить такую
картину. Да, они уговорят словами... и
деньгами. Вдруг Нонна окажется талантливой
и станет кинозвездой!..
13
Но пока
что «кинозвездой» становилась Люся.
Она приехала в Москву из маленького
сибирского городка. Родителей своих
Люся не знала. Потом ей стало известно,
что кто-то изредка звонит в детский дом,
интересуется ею... Но кто это? Кто?..
Однажды Люся спросила об этом маму...
Мамой, как и все воспитанники, она
называла директора детского дома.
Ласково сдвигая пальцами набок Люсину
челку и открывая ее большой, умный лоб,
мама сказала:
— Об этом поговорим,
когда ты станешь взрослее.— И со вздохом
добавила: — А челка тебе не идет...
Мама,
замученная делами, умела уделять ласковое
внимание каждому своему воспитаннику.
Маленьких она таскала на руках, сажала
на колени, целовала, гладила... Старшим
была задушевным другом. Когда воспитанники
ее становились взрослыми и покидали
детский дом, они начинали понимать, что
значила в их жизни эта необыкновенная
женщина, сумевшая возвратить им детство,
спасти их души от тоскливой и озлобленной
сиротской надломленности.
Актерские
способности проявились у Люси рано.
Однажды летом детей привели в городской
сад. В центре его на столбе висел большой
громкоговоритель, из него по саду
разносилась танцевальная музыка.
И
вдруг маленькая Люся отделилась от
подружек, вышла на асфальтовую площадку
и начала танцевать. Она стащила с головы
белую панамку, зажала ее в руке, попеременно
поднимала то одну, то другую ножку,
взмахивала руками, улыбалась, бегала
на носочках, подбоченивалась — и все
это в такт музыке, увлеченно, самозабвенно.
Люди, сидевшие на скамейках и гулявшие
в тенистых аллеях, стали собираться
вокруг ребенка. А Люся, никого не замечая,
танцевала в кольце изумленных зрителей
до тех пор, пока не кончилась музыка и
не раздались дружные, напугавшие ее
аплодисменты. Она огляделась и заплакала.
С первого класса Люся начала танцевать
на утренниках в школе и в детдоме. Потом
она пела на городских олимпиадах. А
когда была в седьмом классе, записалась
в школьный драматический кружок и
поняла, что это ее призвание.
В жизни
каждого человека бывают значительные
дни, которым суждено остаться в памяти
навсегда. Таким днем был для Люси
выпускной вечер в школе. Эту школу она
окончила год назад, поступила в
педагогический институт, но по старой
памяти руководила там драматическим
кружком.
После торжественной части
шел спектакль, в котором играла Люся.
Со сцены она увидела, как в зале,
чуть-чуть опоздав, появились мама и
какой-то незнакомый мужчина. Они вместе
сели в последнем ряду.
После спектакля
школьники сдвинули скамьи к стенам
зала, и начались танцы.
Люся сняла
вазелином грим, надела свое скромное
выходное платье и вышла в зал.
Люся
заметила, что мама взволнована. Но так
бывало всегда, когда Люся играла в
спектаклях.
— Люся... Вот познакомься...
Это Владимир Павлович...
Фамилию Люся
уже не слушала. Она узнала его! Это был
известный кинорежиссер.
Люся смутилась
до слез, покраснела.
«И он видел меня
на сцене!» — с ужасом подумала она. Ей
захотелось провалиться сквозь землю.
— Я оставлю вас,— торопливо сказала
мама.
Люся заметила, что она тоже
смущена, и подумала: «Стыдится моего
выступления. Зачем же этот знаменитый
человек здесь, на школьном выпускном
вечере?»
А он словно подслушал ее
мысли. И сказал:
— Я учился в этой
школе, Люся. Давным-давно, больше
пятидесяти лет назад. — Он помолчал и
добавил с грустным волнением: — У нас
тоже был выпускной вечер. Вот в этом
самом зале. И я танцевал со своей
одноклассницей. Ее звали Наташей. Моя
первая, незабываемая любовь.
Люся
вдруг перестала волноваться. Знаменитый
режиссер сразу стал в один ряд со всеми
людьми.
— Ну, я пойду, — сказала мама.
Она пожала руку Владимиру Павловичу,
поцеловала Люсю и, как-то многозначительно
взглянув на нее, ушла.
— Давайте, Люся,
сядем, поговорим, — предложил Владимир
Павлович. — Пойдемте в мой класс, вот
этот — направо.
Они вошли в класс,
заставленный партами. Он был плохо
освещен. Мимо открытой двери проносились
танцующие пары.
— Я сидел вот здесь,—
сказал он, с трудом усаживаясь за парту.—
Парта, конечно, была другая. Но стояла
здесь же, у окна. И окно то же...— Он
дотронулся пальцем до стекла, до
подоконника, заставленного цветами. —
Цветов не было... Очень грустно, Люся,
по-хорошему грустно...
Он замолчал. А
она неподвижно стояла посреди класса,
боясь нарушить его воспоминания.
—
Да вы садитесь,— вдруг спохватился он.
— Садитесь. Нам есть о чем поговорить.
Люся взяла стул, стоящий около
учительского столика, придвинула его
к парте, за которой сидел Владимир
Павлович, и села, недоумевая, о чем
собирается он говорить с ней.
— Наталья
Николаевна сказала мне, что вы учитесь
в педагогическом институте. Вы довольны
своей будущей профессией? Вы мечтали о
ней?
Она помолчала и сказала с
волнением-.
— Нет. Мечты мои остались
мечтами. Им не суждено осуществиться.
У меня не было другого выхода... Я...
—
Да вы не волнуйтесь, — сказал Владимир
Павлович. — Впрочем, я и сам-то волнуюсь.
Такой уж сегодня вечер... Так вот, Люся,
я хочу внести решительную поправку в
ваши планы, переменить вашу путевку в
жизнь. Я видел сегодня вас в школьном
спектакле, и мне кажется, что ваша судьба
— театр... Вы можете стать актрисой. И
должны. Я в этом убежден. Вы верите мне?
— Он улыбнулся какой-то неожиданной
улыбкой, по-детски, от души. — Предлагаю
вам послезавтра отправиться вместе со
мной в Москву.
Люся растерянно поднялась
со стула, толком не понимая, о чем говорит
он. Схватилась руками за пылающие щеки,
затем прикрыла ладонями глаза... Все
получилось так неожиданно, что она не
могла в это поверить. И не могла ничего
ответить ему.
Он первым нарушил
молчание:
— Ну, решено? — И протянул
Люсе руку.
— Решено... — шепотом
ответила Люся.
— Вы успокойтесь. А я
отправлюсь в мир прошлого... Хочу кое-что
вспомнить, восстановить в памяти.
Обязательно успокойтесь, впереди у нас
с вами еще один разговор. И он тоже
заставит вас волноваться.
И оба они
погрузились в свои мысли.
...Он вспоминал
себя девятиклассником. Был он секретарем
комсомольской организации школы. Любил
литературу, историю, а с точными науками
жил не в ладу.
В полутемном классе, за
учительским столиком, словно переступив
рубежи времени, возникла Анастасия
Ивановна — преподавательница литературы.
Это она научила его любить книги. Он
вспомнил об одной литературной
дискуссии... Он делал доклад о Достоевском.
На перемене к нему подошла Наташа из
соседнего девятого класса и тихо
спросила: «Правда, я похожа на Неточку
Незванову?» — «Да...» — ответил он. И
погиб...
Сейчас в глубине класса перед
ним возник тот некогда любимый образ...
Наташа смотрела на него чистыми
синими-синими глазами и улыбалась
значительно и победоносно. «Знаю,—
говорила ее улыбка,— и радость, и боль
я дала тебе на всю жизнь. Никогда меня
не забудешь».
— И действительно не
забыл, — сказал он вслух удивленной
Люсе и смутился.
А Люся так и не пришла
в себя. Все тот же нестройный вихрь
мыслей захлестывал ее. Вихрь мыслей и
пугливой радости.
— Люся, — сказал
Владимир Павлович, — а ведь на протяжении
всей вашей жизни я за вами слежу...
Так
вот кто он — этот таинственный незнакомец,
интересующийся Люсиной судьбой!
Люсе
вспомнилось, как года три назад подружка
из детского дома случайно подслушала
телефонный разговор мамы: она сообщала
кому-то о Люсе. Но почему же, почему его
интересовала судьба девчонки из детского
дома?
— Слушайте, Люся, грустную и
романтическую историю...
Как-то однажды
я приехал в родной город. В честь моего
приезда у брата собрались гости. Я пришел
с опозданием, прямо из театра.
Была
осень. По-сибирски холодная. Падал снег
вперемешку с дождем. К ночи лужи
подернулись легким ледком.
Я вошел в
полутемный холодный подъезд и стал было
подниматься по лестнице, но вдруг
вздрогнул. Мне показалось, что кто-то
прячется в темном углу лестничной
площадки. Я пригляделся и увидел совсем
молодую девушку со свертком в руках.
«Вы что?» — невольно спросил я ее.
«Так... Греюсь»,— сказала она.
Я
усмехнулся:
«Греетесь в холодном
подъезде?»
И стал подниматься вверх.
Меня ждали. Вся компания была в сборе.
Мои земляки встретили меня шумной
радостью. Мы сели за стол. Брат произнес
цветистый тост за мое здравие, и мы
подняли рюмки. Но в это мгновение в
дверях комнаты появилась перепуганная
домашняя работница. Она держала в пеленке
крошечную девочку, посиневшую от плача
и холода.
«Подбросили... В одной
простынке лежала... на каменном полу».
«Зачем он мне это рассказывает? —
думала Люся. — Зачем?»
— А ребенок
заливался плачем,— продолжал Владимир
Павлович. — Мы все страшно разволновались,
растерялись и вначале не знали, что
делать. Потом завернули девочку в одеяло.
Накормить было нечем. Ей, вероятно, не
было еще и месяца. Долго совещались, что
предпринять, и сошлись на таком решении:
отнести девочку в Дом ребенка.
Люся
побледнела и встала. Она все поняла.
—
Мы сами дали ей имя: Людмила Бояркина.
Сперва за ребенком... то есть за вами,
следили все мои приятели, которые жили
здесь. А после они разъехались кто куда
и, может быть, забыли о вас...
А мне
запомнился этот случай. И, приезжая
сюда, а иногда даже из Москвы, я справлялся
о Люсе Бояркиной. То есть о вас...
— А
та... моя мать... на лестнице... Какая она?
Вы не помните?
— Не помню. Теперь мне
кажется, что вы на нее похожи. Но это,
вероятно, фантазия. Разве я мог в темноте,
за одно мгновение разглядеть ее? Конечно,
фантазия!
...Вот так Люся все и узнала.
Так получила путевку в жизнь.
И теперь
все тот же Владимир Павлович пригласил
ее на роль Неточки Незвановой. Это было
его давней мечтой: снять о ней фильм.
Люся так переволновалась в период
проб, что, когда начались съемки, наступил
резкий спад. Она почувствовала усталое
умиротворение. И это ее напугало.
«Покой
для актера страшнее всего»,— подумала
она. Но покой этот, к счастью, исчез при
первой же встрече с кинокамерой.
На
съемки до студии ее провожал Антон. Он
готов был, поджидая ее, просидеть до
ночи в коридоре студии или гулять все
это время на улице. Но Люся строго
запретила ждать, и он, пожелав ей: «Ни
пуха!..» —поплелся к троллейбусу.
На
крыльце проходной будки она оглянулась,
посмотрела ему вслед. Он шел съежившись,
подняв воротник пальто, затолкав руки
в карманы. Издали он казался совсем
маленьким и смешно загребал правой
ногой.
«И все же я не очень люблю
его...— подумала она.— Во всяком случае,
сцена, экран — они мне дороже!»
Люся
шагнула через порог, словно в другой
мир. И сразу же Антон стал ненужным,
обременяющим, затерялся где-то вдали.
Она была один на один с миром искусства
— счастливая, неподкупная, неожиданно
строгая к себе и к другим.
В час ночи,
истерзанный до предела нервным
напряжением, Владимир Павлович полулежал
в кресле в комнате отдыха киностудии.
Напротив него лежал такой же истерзанный
оператор.
— Это чудо! Маленькое чудо!
— с трудом ворочая губами, восторгался
режиссер. — Знал ли я восемнадцать лет
назад, в ту осеннюю ночь, что держу на
руках, в пеленках, такое чудо?..
— Стало
быть, крестный отец во всех смыслах! —
ухмыльнулся оператор.
— Стало быть!
А как же она доберется ночью до общежития?
Транспорт-то уже не ходит! — вдруг
всполошился Владимир Павлович. — Надо
было на дежурной машине...
А маленькое
чудо, забыв на студии шарф и перчатки,
шагало в эти минуты по ночной притихшей
и безлюдной Москве. Может быть, она шла
даже не в ту сторону... Она была сейчас
Неточкой Незвановой и, забыв обо всем
на свете, тащилась по узким переулкам
старого Петербурга.
14
Утром, когда
Нонна встала, повторилось вчерашнее:
тети Тани не было. Тот же скромный завтрак
стоял на столе, а рядом лежала записка.
Тетя Таня сообщала о том, что в 12 часов
Курт заедет за Нонной. Они втроем
пообедают, а потом отправятся в магазины,
где тетя Таня собирается кое-чем ее
побаловать.
Это было приятно! Нонна
очень любила подарки. И не видела ничего
предосудительного в том, что богатая
тетка немного поистратится на племянницу.
А приодеться ей не мешало. Студенческих
средств на наряды не хватало. Денег у
бабушки просить не хотелось. Сама же
она не замечала нужд внучки, да и то, что
иногда предназначалось для Нонны,
уплывало в руки хитрой, предприимчивой
компаньонки.
В десять часов позвонил
Курт.
— Доброе утро, Нонна,— услышала
она в трубке его жизнерадостный
тенорок.—Как вы спали?
— Гутен морген,
Курт! — весело ответила Нонна. — Отлично
спала. А вы как?
— Я не спал, Нонна, я
думал о вас. Оказалось, что я очень люблю
вас. Поверьте мне.
— Курт! Вы так гладко
говорите по-русски, сознайтесь: перед
вами лежит русско-немецкий словарь...
Или кто-то написал вам эту речь?
—
Нонна, вы злая девушка, — упавшим голосом
сказал Курт. — Хотя я все равно люблю
вас.
Нонна удобно уселась в кресле
возле телефонного столика и, покачивая
босой ногой, с удовольствием занялась
разговором:
— Курт, я не верю, чтобы
мужчина в сорок пять лет влюбился так,
сразу... в девушку, которую совсем не
знает. Это случается только в плохих
кинокартинах.
— Я буду доказать вам!
Скажите, как? — страстно протестовал
Курт.
— Я подумаю...
— Хорошо. В
двенадцать часов я приеду за вами. Я
буду очень счастлив. До свидания, Нонна.
— Ауфвидерзейн, Курт!
Нонна влезла
в домашние туфли, прихватила рукой шлейф
пеньюара и, пританцовывая, стала кружить
по мягкому полу. Движения ее были гордыми,
самоуверенными...
Она развеселилась,
сбросила туфли, перевязала пеньюар в
талии чулком, поддернула его выше колен
и, напевая, с увлечением принялась
отплясывать русскую. Этот танец на
занятиях в училище особенно удавался
ей. На экзамене она получила за него
пятерку.
А теперь... О, если бы теперь
кафедра видела, с каким темпераментом
танцевала она в доме мюнхенской
миллионерши! В ее пляске был широкий
размах, искристое озорство и дерзкий
вызов и этому дому и вообще всему
незнакомому, чужому, что окружало ее.
Она так увлеклась, что не услышала
настойчивых звонков... Опомнилась же
только тогда, когда в дверях гостиной
увидела Курта.
Не смея шагнуть вперед,
он восторженно протянул к ней руки и,
задыхаясь, сказал:
— Богиня! Это —
гений!
— Вы?! Вон!.. Вон из комнаты!
Она, разгоряченная танцем, гневно
топала босой ногой.
Курт мгновенно
исчез. Нонна слышала, как он смущенно
оправдывался за дверью, в коридоре.
Оказывается, он много раз нажимал на
кнопку звонка, а потом испугался, не
случилось ли чего с Нонной, и открыл
дверь ключом фрау Татьяны. Она дала ему
ключ на всякий случай: вдруг Нонна уйдет
гулять...
В машине Нонна делала вид,
что сердится на Курта. Тот оправдывался,
но только для вида. В душе он прекрасно
понимал: его восторг, вызванный танцем,
не может быть неприятен актрисе.
Он
и в самом деле был изумлен! Он поверил
в ее талант. Нет, нельзя больше повторять
эту выдумку про фильм, посвященный Марфе
Мироновой. Надо любой ценой заставить
какого-нибудь режиссера действительно
снять фильм с участием Нонны. Он решил,
что это нужно сделать сейчас же,
немедленно, пока эта удивительная
девушка из Москвы — здесь, в Мюнхене.
Это — единственный путь к ней!
На
автомобильной стоянке площади Одеонсплац
Курт остановил машину.
— Нонна, я хочу
разговаривать с вами, когда фрау Татьяны
нет. Я не смею, Нонна, нет, я удивляюсь!
Мне плакать хочется. Я люблю вас. Вы
удивились. «Так сразу — с первого
взгляда?» Жизнь разная. Все по-разному.
У каждого. Я не мальчик. Я не развлекаюсь.
Это очень серьезно, Нонна. Я плохо говорю.
Вы не смейтесь. Это очень серьезно.
Нонна верила Курту: чувствовала, что
он говорит правду. И ей стало жалко его.
— Пока не будем говорить об этом,
Курт. Слишком мало вы меня знаете. Я
пробуду здесь еще долго. У вас есть
возможность проверить свои чувства.—
И, взглянув на круглые часы машины, она
всполошилась: — Едемте! Мы же опаздываем.
Тетя Таня — деловой человек. У нее не
только часы — у нее минуты рассчитаны.
Слова Нонны приободрили Курта: он
уловил в них какую-то надежду, посмотрел
на нее с благодарностью и снова взялся
за руль.
Втроем они пообедали в
небольшом, ничем не примечательном
ресторанчике и поехали в универсальный
магазин.
Тетя Таня стремительно шла
мимо столов с разноцветными горами
шерстяных и синтетических кофточек,
мимо витрин со шляпами, выставок платьев,
костюмов и цветных капроновых халатов.
Нонна с любопытством разглядывала
товары, отставала от тети Тани,
наталкивалась на посетителей магазина.
А Курт сразу исчез. Чувство такта не
позволило ему присутствовать при покупке
вещей. Это — женское дело...
Тетя Таня
остановилась возле застекленных шкафов
с меховыми шубами. Показывая на Нонну,
она объяснила продавщице, что нужна
элегантная шубка из натурального меха.
Хрупкая продавщица в изящном черном
платье, с белым рюшем на воротнике и
обшлагах, окинула Нонну профессиональным
взглядом и отодвинула стеклянную
дверь... У Нонны разбегались глаза: перед
ней были шубы из разноцветной норки,
черные — из натурального котика и
каракуля, коричневые соболиные, белые
из горностая.
— Ну, что же ты, Нонночка?
Выбирай! — сказала тетя Таня.
Нонна
была в замешательстве. Во-первых, тетя
Таня даже не поинтересовалась, что
именно хотела бы она купить в этом
магазине, а во-вторых, ее поразила цена
этих шубок. Она тихо сказала:
— Но это
же очень дорого...
Продавщица достала
белую шубку из горностая, проворно
надела на девушку, застегнула пуговицы
из черных хвостиков, что-то подправила,
отряхнула и подвела Нонну к зеркалу.
Странная мысль мелькнула у Нонны:
«Если бы меня сейчас увидел Алеша!» Она
залюбовалась собой...
— А вот эту? —
Тетя Таня указала продавщице на другую
шубку. И обратилась к Нонне: — Белая
слишком...— Она хотела сказать: «маркая»,
но не нашла этого слова. — Примерьте
вон ту!..
Продавщица молниеносно сняла
с Нонны горностаевую шубку, и не успела
та опомниться, как увидела себя в шубке
из голубой норки.
— По-моему, очень
славно! — воскликнула тетя Таня.
—
Зер гут! — подтвердила продавщица,
ласково проводя рукой по меху.
Нонна
растерянно глядела в зеркало и не знала,
что ответить тетке.
— Ну, что же ты
молчишь? Не нравится? — спросила та
улыбаясь.
— Очень нравится, но..
—
Ну, если нравится — берем! — твердо
сказала тетя Таня, словно бы не расслышав
тихого «но».
Продавщица выписала чек
на сумму, от которой у Нонны зарябило в
глазах.
Потом купили шапочку, сапоги,
перчатки и сумку — все под цвет шубы.
— На сегодня хватит,— сказала тетя
Таня.—Я ужасно устаю от магазинов. И
поэтому стараюсь за один прием закупить
себе нужное на весь сезон.
Нагруженные
покупками, они вышли на улицу. У тети
Тани был усталый, но довольный и гордый
вид, а Нонна шла молчаливая, подавленная
обилием голубых вещей, которые обошлись
ее экономной тетке в несколько тысяч
марок.
Курт сидел в автомобиле,
задумчиво облокотившись на руль. Он
увидел фрау Татьяну и Нонну, выскочил,
открыл дверцу и сразу же заметил, что
девушка чем-то расстроена. Он не стал
ни о чем расспрашивать.
Фрау Татьяну
Курт завез в ее книжный магазин, а Нонну
помчал на виллу.
— Нонна, ваше настроение
плохое? — спросил Курт. — Почему?
—
Мне неприятно, что тетя Таня истратила
на меня такие большие деньги, —
чистосердечно и жалобно сказала Нонна.
Курт пожал плечами и метнул на нее
короткий изумленный взгляд.
«Необыкновенная
девушка!» — подумал он и свернул с шоссе
на дорогу, ведущую к вилле.
Нонна не
хотела оставаться с Куртом в доме
наедине. Она сказала:
— У меня болит
голова. Я хочу отдохнуть.
— О! Вы будете
сейчас отдыхать. Я не побеспокою вас. Я
только отнесу ваши покупки! И все...
Он
остановил автомобиль у подъезда, внес
коробки с покупками в коридор. Потом
медленно, церемонно поцеловал руку
Нонны и покорно пошел к дверям. Остановился
и тихо сказал:
— Я тоже хочу подарить
вам мюнхенский сувенир. На память. Вы
сердиться не будете?
— Не буду,—
сказала Нонна и взяла небольшую коробочку
из его рук. — Благодарю вас. До вечера!
— До вечера в ресторане «Романов», —
ответил Курт и вышел.
Она постояла у
двери, прислушалась. Слышно было, как
Курт включил мотор и машина стремительно
отошла от дома, точно сорвалась с места.
Курт водил машину с особым шиком.
Нонна
теперь знала, что у Курта есть ключ от
двери, и это ее беспокоило.
Прежде
всего она, конечно, распаковала покупки,
надела на себя роскошную голубоватую
шубку, высокую шапочку, длинные, до
колен, сапожки с широкими носками и
тисненым рисунком на боках голенищ,
натянула замшевые перчатки.
Исполнив
перед зеркалом роль мюнхенской
капиталистки, она еще раз пожалела о
том, что ее не видит Алеша. Потом она
вспомнила о сувенире Курта и раскрыла
красную коробочку. В ней лежал браслет.
Нонна повертела его в руках. Ничего
особенного — серебряная змейка, жалящая
себя в хвост, усыпанная белыми и красными
камушками. Может быть, это какая-то
мюнхенская эмблема? «Не дорог подарок
— дорого внимание»,— подумала Нонна и
закрыла коробку.
Она была рада, что
Курт преподнес ей недорогую вещь: иначе
ей было бы стыдно. Тетя Таня — другое
дело... Почему, в конце концов, богатая
тетка не может побаловать родную
племянницу?.. Что тут особенного?
И
все же в душе у Нонны возникало какое-то
неприятное ощущение. Она не могла до
конца разобраться в нем. Но оно мешало
радоваться роскошным новым вещам...
Тетя Таня застала племянницу у зеркала.
Нонна смотрела в него без всякого
торжества, даже грустно, разочарованно.
Но тетя Таня не заметила этого взгляда.
— Прекрасно! — сказала она. — Ты не
можешь расстаться с подарками. Это меня
радует! Но теперь собирайся: Курт уже
поехал в ресторан заказать столик.
Нонна ушла в свою комнату и переоделась.
Когда она вернулась в гостиную, взгляд
тети Тани сразу остановился на змейке,
цепко охватившей запястье девушки.
—
О! Какая роскошь!
Она взяла ее руку и
долго разглядывала браслет.
— Это
сувенир Курта,— краснея, сказала Нонна.
— О! — снова воскликнула тетя Таня.
— Курт не пожалел денег!
Нонна поспешно
сняла браслет.
— А что в нем особенного?
— растерянно спросила она. — Серебро
и какие-то стекляшки! Форма, правда,
своеобразная.
— Эх ты, дурочка моя! —
воскликнула тетя Таня, надевая очки.—Это
не серебро, а платина. Она, как тебе
известно, дороже золота. И не стекляшки
рассыпаны по ней, а драгоценные камни:
сапфиры, алмазы. А вот тут, видишь, — она
близко к лицу поднесла браслет, — глаза
змейки сделаны из каких-то зеленоватых
камешков. Не знаю, что это за камни, но
уверяю тебя — тоже драгоценные!
—
Тогда я верну Курту этот подарок! —
решительно сказала Нонна, отыскивая на
низком полированном столике, заваленном
пакетами и коробками, красный футляр
от браслета. — Я не давала Курту повода
дарить мне дорогие вещи. Вы — моя родная
тетка. От вас я принимаю эти дорогие
подарки. А от него не хочу!
Тетя Таня
расстегнула шубу, откинула ее с плеч,
опустилась на диван, достала
зажигалку-пистолет и закурила, указывая
Нонне место возле себя и протягивая ей
сигареты.
Нонна тоже закурила.
—
Ты пойми, Нонночка: каждый человек делает
подарок по своим средствам. Ты —
студентка, получаешь стипендию и на эти
средства живешь. Естественно, что ты
привезла мне в подарок очаровательные
русские рюмочки, которые смогла купить
на свои деньги. И я очень благодарна
тебе. Эти рюмочки гораздо дороже мне
вон того чертика из яшмы с золотом...—
Тетя Таня кивнула на горку с сувенирами.
— Я дарю тебе такой подарок,— тетя Таня
дотронулась до голубой шубки, — потому
что имею деньги. Курт — богатый человек,
и он всегда всем делает подарки по своим
средствам. А в тебя он влюблен. Разве ты
не видишь? Зачем же обижать его? Зачем?
Я не могу понять!
Тетя Таня достала
из коробочки браслет и надела его на
руку Нонны.
«В самом деле, зачем я буду
обижать Курта? — подумала Нонна. — Если
он действительно влюбился в меня, его
и так ждет немало разочарований. Поношу
этот браслет, а потом оставлю его у тети
Тани и попрошу отдать Курту».
Вопрос
был решен мирно и быстро. Нонна, ни на
минуту не забывая о том, что ее одежда
стоит тысячи марок, торжественно и
неторопливо спустилась с крыльца и села
в автомобиль.
— Тетя Таня! Меня тут у
вас никто не украдет? Уж очень я дорогая!
Тетя Таня расхохоталась.
15
Они помчались по дороге,
которую выхватывали из темноты, чуть
рассвеченной тусклыми фонарями, фары
автомобиля.
Но вот машина ворвалась
в город и, потушив фары, сбавив скорость,
влилась в поток других машин. Вскоре
она свернула в узкую, почти не освещенную
улицу и остановилась.
На невысоком
крыльце мрачноватого дома их ждал Курт.
Его блестящие глаза и румяное от легкого
морозца лицо были неприятны Нонне. А
браслет, цепко обхвативший запястье
левой руки, показался ей вдруг холодным.
«Зачем я послушалась тетю Таню и не
сняла этот его подарок?» — с досадой
подумала Нонна, поднимаясь на крыльцо.
Курт окинул пристальным взглядом ее
новую одежду, но ничего не сказал, и
Нонна была благодарна ему за это.
С
краю, около входной двери, было написано:
«ROMANOFF».
Они вошли в маленький вестибюль,
и девушка в великорусском наряде приняла
их шубы.
В дверях появился толстый, с
лоснящимся лицом хозяин ресторана.
—
Здравствуйте! Добрый день, — сказал он,
кланяясь Нонне. Сказал с трудом, потому
что не знал русского языка и еще потому,
что его мучила одышка.
Хозяин сам
провел Нонну, Курта и тетю Таню в
небольшой, полутемный и полупустой зал,
посадил на полированные лавки за
небольшой, тоже полированный, узкий
стол: Нонну с Куртом рядом, а тетю Таню
напротив.
Нонна огляделась. Откуда-то
сверху доносилась старая-престарая
мелодия: квартет играл песню «По улице
ходила большая крокодила». Над головой,
по потолку, несколько пар ног чечеточно,
негромко выбивали ритм песни.
Зал
освещался робким, неуверенным светом
керосиновых ламп. Длинные тени играли
на прибитых к стенам медвежьих шкурах,
оленьих рогах, на огромном медном
самоваре, начищенном до такого
ослепительного сияния, что даже в
полумраке глазам становилось больно
смотреть на него.
На окнах, высоких и
узких, как в древних светелках, стояли
расписные матрешки разной величины.
Хозяин принес меню, протянул его
Нонне.
— Это по-русски, Нонна,— сказал
Курт.
Она раскрыла меню.
Скрипки
уже играли романс «Ах, эти черные глаза»
— томно и замедленно, и ноги выбивали
чечеткой ритм романса где-то вверху, на
потолке.
Тетя Таня кружевной пеной
платочка вытирала глаза, видимо вспоминая
далекую юность.
Нонна читала меню:
«Закуски:
Лососина под сметанным
хреном с блинами.
Яйца по-русски с
винегретом.
Салат «Романов».
Она
перечитала еще раз, не удержалась и
фыркнула. Тетя Таня заглянула через ее
плечо и тоже развеселилась.
— «Биф
тетер с яйцом,— продолжала читать Нонна
уже вслух,— бульон куриный с сибирскими
пельменями. Бифштекс «Распутин».
Она
снова фыркнула.
И опять «Филе «Романов».
Бедный император! Знал бы он, что его
именем будут называться мясные блюда...
«Сибирская тайна на две персоны», —
с интересом прочитала Нонна. Это что-то
стоящее, загадочное. «Надо заказать,—решила
она.—А потом расскажу сибиряку Антону,
что это была за сибирская тайна на две
персоны под музыку старинных романсов
в окружении капиталистов».
Сибирская
тайна стоила очень дорого: 14 марок!
Нонна вспомнила, что тетя Таня, по ее
собственному признанию, тратит в день
на питание не более 6 марок.
«Сибирская
тайна» осталась неразгаданной: Нонна
взяла «пельмени по-сибирски» и «десерт
«Романов». Пельмени оказались треугольными,
а десерт — невкусным мороженым.
—
Тетя Таня, вы помните, какое вкусное
мороженое в Москве? — спросила Нонна.
Тетя Таня расчувствовалась и снова
поднесла платок к глазам.
— Я ел
московское мороженое в Берлине, в ГДР,—
по-немецки сказал Курт и попросил тетю
Таню перевести. — Я приехал в Берлин —
и вижу: на улице в продуктовый магазин
стоит очередь. Я удивился. В магазинах
я никогда не видел очередей. Оказывается,
продавали московское мороженое. Я встал
в очередь и купил две порции. Но пока ел
первую, вторая растаяла и испачкала мне
костюм. Пришлось ее выбросить. Я очень
жалел, потому что мороженое было
действительно необыкновенно вкусным.
Рассказывая все это, Курт с удовольствием
поглядывал на свой подарок.
— Что
будем пить? — спросил он.
— Русскую
водку, — ответила Нонна.
— Русскую
водку! — почти прорыдала фрау Татьяна.
И скрипки тоже почти рыдали: «Белой
акации гроздья душистые вновь аромата
полны».
За соседним столиком сидел
лысый грузный старик с утиным носом,
маленькими отекшими глазами и выпяченным
вперед крошечным ртом. Он сидел один на
лавке, откинувшись на полированную
бревенчатую стену. Пил водку медленно,
смакуя, не закусывая. Отрываясь от рюмки,
он складывал руки на круглом, высоком
животе, закрывал глаза и слушал музыку.
А потом вновь прикасался к рюмке, делал
глоточек и снова принимал ту же позу.
Некоторое время он прислушивался к
разговору за соседним столом. Потом
резко встал, со звоном отодвинул кружку
с квасом, опустил на стол недопитую
рюмку водки и решительно направился к
Нонне, Курту и тете Тане.
— Извините.
Я услышал родную речь. Я — русский
эмигрант. Разрешите?..
Курт вопросительно
взглянул на Нонну, на фрау Татьяну.
—
О, конечно, конечно! Мы всегда рады
соотечественникам! — приветливо сказала
тетя Таня, указывая незнакомцу место
рядом с собой.
— Крутилин, Иван
Борисович,— отрекомендовался он, с
трудом протискивая живот между столом
и лавкой.— С кем имею честь?
— Татьяна
Тимофеевна Вейсенбергер... Это — моя
племянница Нонна Соловьева из Москвы.
В гости приехала... А это — господин Курт
Браун.
— Из Москвы... — мечтательно
произнес Иван Борисович.
А в это время
небольшой зал заполнился шипением
заигранной пластинки. Хозяин включил
старинный граммофон, и сквозь шипение
можно было разобрать стихотворные
строки. Их читал, по-видимому, русский,
давно покинувший свою страну, или немец,
хорошо владеющий русским языком.
Неизвестный чтец, давным-давно
записанный на пластинку, очень волновался.
Это чувствовалось в каждой строке:
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.
Нонна оцепенела... Здесь, в
ресторане «Романов», любимое стихотворение
звучало, как зов родной земли... И она
внезапно ощутила острую тоску по этой
земле. И вспомнила всех, кто был там —
далеко, далеко... Все эти люди казались
ей сейчас прекрасными, милыми, добрыми.
Скорей бы увидеть их всех! Скорей бы!
Тетя Таня прикрыла глаза платком.
Слезы текли по щекам Крутилина.
Маленький ротик его, обиженно вытянувшись
вперед, произнес:
— «И тихо плачет он
в пустыне...» Вот и я плачу, барышня! —
воскликнул Крутилин.— Этот стишок
господина Лермонтова для меня здесь, в
Мюнхене, — кусочек далекой родины. Вот
я и плачу... Прииски у меня были в Сибири.
С благородным металлом имел дело, по
родительской дорожке пошел. Ну, а как
«товарищи» пришли, — через Владивосток
и в Америку... Золотишко прихватил.
Выручало оно в первые годы. А теперь вот
старостой в православной церкви... И не
то обидно, что старостой, — другого
места мне тут нет. Кто я им?
Он обвел
рукой ресторан. Помолчал немного и
спросил тетю Таню, кивая в сторону Курта:
— А господин понимает по-русски?
—
Понимает хорошо, а говорит плохо,—
поспешно ответила та, опасаясь, чтобы
Иван Борисович неосторожным словом не
оскорбил национальные чувства Курта.
— Старик я стал,— продолжал Крутилин,—
немощен, слаб... Но зато мудрость пришла.
Вижу то, чего молодые не понимают. И
думаю глубже, яснее думаю... Если бы снова
начал жизнь — с родной земли не ушел
бы. Хоть какая, а родина! Немцы боятся
России. Правда, господин, боятся? — Он
злорадно посмотрел на Курта. И, не
дождавшись ответа, продолжал: — Великая
держава! И прежде была великая, и теперь.
А просторы какие! Боже ты мой, какие
просторы! Вы не представляете себе,
господин. От Бреста до Владивостока —
двенадцать суток в поезде. Верно, барышня?
— Не знаю, — чистосердечно призналась
Нонна.— Наверное, не меньше.
Хор
наверху пел «Катюшу». Молодой официант
в красной косоворотке и плисовых
шароварах обслуживал посетителей,
неслышно ступая мягкими коричневыми
сапогами. На подносе он принес чай,
налитый из самовара.
Принимая блюдце
с чашкой, Крутилин по-немецки спросил
о чем-то официанта. И кивнул в угол
полутемного зала. Официант, наклонившись,
стал долго и горячо о чем-то рассказывать
старику. А когда он отошел к другому
столу, Крутилин обратился к Нонне:
—
Знаете, барышня, что сказал этот официант?
Он сказал, что русский эмигрант, который
всегда сидел вон там... за тем столиком,
в темном углу, и любил слушать русскую
музыку, позавчера утопился. И я утоплюсь.
В Изаре! Ночью... Вот вы, барышня, здесь
недавно. Ну еще месяц будет вам любопытно...
А потом затоскуете. Потянет на родину.
Какая бы она ни была, а родина! Я —
дезертировал... А что человек без родины?
Сирота! Круглая сирота... Вот она знает!
— Он кивнул на тетю Таню.—Тянет на
родину. Тянет. Это не просто тоска. Это
— болезнь смертельная. Вот ведь как,
барышня. Неизлечимая это болезнь!
Он
помолчал, пошмыгал носом. И вновь
обратился к Нонне:
— А в Сибири сейчас
морозы под пятьдесят, наверное... Кедрачи
стоят в белом куржаке. Снега по пояс.
Метели февральские. Эх, взглянуть бы
разок — и умереть... Человек! Эй, человек!
— Крутилин резко поднял руку с
растопыренными пальцами.—Водки на
всех!
— Так есть же водка, — сказала
тетя Таня, подавая Крутилину бутылку.
— Я угощаю. Я!.. — уже совсем пьяным
голосом кричал тот.
Официант принес
бутылку. Крутилин налил Нонне, тете
Тане, себе.
— Выпьем за нашу родину!
Он приблизил бутылку к рюмке Курта.
— Господин выпьет за нашу родину?
—
Пожалуйста! — с наигранной веселостью
ответил Курт.
По русскому обычаю все
чокнулись и выпили.
Курту было не по
себе. Он что-то шепнул тете Тане, потом
позвал официанта и стал расплачиваться.
— Спасибо за компанию,— сказала тетя
Таня Крутилину.
Он встал, пошатываясь.
С трудом протиснул свой живот между
столом и лавкой и, кряхтя, в пояс поклонился
Нонне, рукой коснувшись пола.
Нонна
растерялась.
— Это я не вам, барышня.
Это я родине... Такой вот поклон от ее
блудного сына. Низкий поклон. Какая бы
ни была, а мать!
На Курта он не взглянул.
Выходя из ресторана, Нонна вспомнила
свой разговор с Куртом и стала мысленно
полемизировать с ним: «Ну вот, а вы
говорите, все равно, где жить, лишь бы
было удобно во всех отношениях! Может,
вы говорите это потому, что не испытали
такой вот разлуки... А уедете на чужбину
и вот так же, как этот русский эмигрант,
будете кланяться в пояс своей далекой
родине, считать себя дезертиром, и
плакать?..»
Она взглянула на Курта. Он
и в темноте казался самоуверенным. Она
подумала: «А может, вы и не будете плакать.
Есть же ведь и такие, которым все
безразлично, кроме своего благополучия,
у которых нет ничего святого...»
Дома
Нонна спросила тетю Таню:
— Отчего
вы плакали за столом?
— Молодость
вспомнилась, — ответила тетя Таня. — А
ее ведь всегда оплакиваешь...
— И у
вас нет такого... ну, такого состояния,
как у того эмигранта, что вы — дезертир?
— осмелившись, спросила Нонна.
—
Откуда же у меня может быть такое чувство?
Я не бежала. Я полюбила иностранца, и
меня отпустили сюда, на его родину. Я
долгое время оставалась русской
подданной. Скучала в первые годы. А потом
привыкла. А теперь вообще стирается это
понятие: родина. Все страны активно
общаются между собой. Вот ты приехала
ко мне, в капиталистическую страну. А я
могу приехать к тебе, в социалистическую...
Скажем, если бы ты жила в Мюнхене, ты
могла бы ежегодно ездить к себе... в
Москву.
Нонна уловила какую-то
значительную интонацию в последней
фразе тети Тани.
— Я не могла бы жить
здесь, — сказала она. — Я здесь три
дня... всего только три, и вы ко мне так
внимательны, а меня уже тянет обратно.
Не обижайтесь!.. Но я, наверное, не смогу
прожить здесь еще двадцать дней... Я уеду
раньше...
— Что ты, девочка! Что ты! Я
не отпущу тебя раньше срока! С тобой я
забыла, что такое одиночество! — с
искренним волнением воскликнула тетя
Таня.
Нонна представила себе, как тетя
Таня останется одна в своей большой
вилле. Будет Курт, будут необычные люди
в ее салоне — и ни одной русской души!
Разве что встретится она с тоскующими
по родине эмигрантами в ресторане
«Романов»...
Жизнь тетки в Мюнхене, ее
работа, салон — все казалось Нонне
совершенно бессмысленным.
Ей стало
жаль тетю Таню. «Лучше бы она уехала
обратно на родину», — наивно подумала
Нонна и мысленно перенеслась в Москву,
по количеству километров совсем не
далекую, но из этого другого мира
кажущуюся отдаленной непомерным
расстоянием.
16
А в Москве начиналась
весна. Москвичам не хотелось замечать
тающих грязных сугробов, мокрых панелей
и луж на дорогах — глаза невольно
поднимались навстречу веселому солнцу.
Алеша шел по улице, задрав голову и
улыбаясь солнцу. По этой же улице и по
той же стороне шел Антон и улыбался
сказочным орнаментам тающих сосулек,
украшающих крыши домов.
Зазевавшиеся
молодые люди столкнулись, извинились
было, но, взглянув друг на друга,
рассмеялись и остановились.
— Денек-то
какой! — восторженно сказал Алеша.
Антон, как всегда при встречах с этим
красивым юношей, восхищенно глазел на
его великолепную осанку, на его открытое
лицо, обрамленное легкой шелковистой
бородкой, и с сожалением думал: «Какая
фактура пропадает зря!»
— Ну, а Нонна
на пути к Москве? — поинтересовался
Антон.
— Ничего подобного! Она любуется
сосульками на крышах особняков мюнхенских
капиталистов.
— Хочешь, покажу макет
декорации нашего спектакля ? — спросил
Антон.
— Того самого?
— Того самого.
Пойдем вот сюда.
Чтобы не мешать
прохожим, он шагнул под арку, ведущую
во двор, прислонился к кирпичной стене.
Приподняв ногу, согнутую в колене,
положил на нее портфель...
Но вдруг
страшный крик вырвался из его груди. В
нем были и боль и отчаяние... Антон
отбросил портфель, странно рванулся
вперед, точно пытаясь спастись от чего-то
ужасного, неизбежного, судорожно
изогнулся весь и тотчас же упал навзничь,
тяжело ударившись головой об асфальт.
Глаза его были закрыты, лицо покрылось
мертвенной бледностью, посиневшие губы
были стиснуты. Судорога со страшной
силой гнула его тело.
От изумления и
неожиданности Алеша несколько секунд
оставался недвижим. Потом он сбросил с
себя пальто, затолкал его под голову
Антону. Торопливо пошарил в кармане
пиджака, вытащил платок, обмотал им
карандаш. Опустившись на колени, он с
трудом разжал зубы Антона и втиснул
между ними карандаш. Судорога постепенно
переходила в мелкую дрожь.
Почти над
ухом Алеши раздался нетерпеливый
продолжительный гудок машины с подъемным
краном, въезжавшей во двор. Крановщик
остановил машину и выпрыгнул из кабины
с руганью:
— Нализались, гады, с утра!
Оттащи его в сторону!
— У него припадок,
— тихо сказал Алеша. — Это скоро кончится.
Подожди.
А под аркой уже собирались
любопытные. Какая-то сердобольная
старуха притащила из дома оранжевую
куртку и набросила ее на плечи Алеше:
— Озябнешь, сынок, простынешь!
—
Надо вызвать «скорую помощь»! — сказал
кто-то.
Алеша поднял голову:
— Нет,
не нужно. Это пройдет...
Действительно,
вскоре Антон затих, открыл глаза, обвел
удивленным взглядом толпу и только
тогда понял, что произошло с ним и где
он находится.
Сердобольная старушка
сейчас же подняла пальто, лежавшее на
асфальте, встряхнула его, подала Алеше
и забрала свою оранжевую куртку.
Алеша
помог Антону подняться. Но тот едва
передвигал ноги.
— Отведи его ко мне
в подъезд, — сказала пожилая лифтерша.
— Там диван для ночной, пущай отлежится.
Алеша поднял портфель, взял его под
мышку, другой рукой обнял Антона и повел
его вслед за лифтершей.
Толпа стала
расходиться. Машина с подъемным краном
въехала во двор.
В подъезде Антон сам
лег на старый скрипучий диван, сказал
«спасибо» и закрыл глаза. С его губ
сходила синева...
— А ты, паренек,
садись на стул...—Лифтерша уступила
Алеше свое место.
Он послушно,
механически сел, но сразу же вскочил:
— Нет, что вы... Я вот тут...
Он присел
на диван, у ног Антона.
Алеша боялся,
что лифтерша начнет сочувствовать,
напоминать о припадке. А по трепещущим
ресницам Антона он видел, что тот не
спит. Но лифтерша сидела молча и вязала
чулок. Изредка она взглядывала то на
Антона, то на Алешу, и весеннее солнце,
прорываясь сквозь дверное стекло, играло
на металлических спицах.
Антон
отлежался, поблагодарил лифтершу, и они
с Алешей вышли на улицу.
— Болит голова
и почему-то уши... там, внутри...— пожаловался
Антон. — Ушиб, наверно.
Они остановились.
Алеша снял с Антона шапку и осторожно
ощупал голову.
— Внешних травм нет.
Они снова двинулись по улице. Но Антон
не мог идти, тихо стонал и все время
хватался за уши.
Алеша остановил такси
и повез его в ближайшую поликлинику.
—
Вы ведь знаете, что это железнодорожная
поликлиника. Зачем же везти больного с
травмой сюда? Надо было бы к Склифосовскому,
— сказала Алеше молодая, хорошенькая
докторша, натягивая на лоб блестящий
обруч с круглым зеркальцем.
Она не
предложила Алеше сесть, и тот стоял у
дверей кабинета, сложив руки на груди.
С каждой минутой он становился все
мрачней и мрачней.
— С моей стороны
претензий нет,— осмотрев Антона,
заключила она.
— Ушиб был очень
сильный. Может быть, трещина. Необходим
рентген, — сказал Алеша.
— Ну, это уж
ваше дело, — ответила докторша.—
Поезжайте к Склифосовскому. Наша клиника
особого назначения.
Алеша взял Антона
под руку и молча вывел его из кабинета.
— Посиди минутку, я сейчас, — сказал
он, подставляя ему стул, а сам возвратился
в кабинет ларинголога.
Он даже не
постучал, не спросил, можно ли войти.
Остановился все там же, у дверей. Его
глаза горели негодованием, лицо было
бледным.
— Через четыре месяца я сдам
государственные экзамены, — сказал он
прерывающимся от волнения голосом,— и
тоже буду врачом. Думаю, что и вы не так
давно покинули студенческую скамью.
Стало быть, не с годами, не от усталости
успели вы приобрести эту черствость и
отсутствие жалости к пациенту. Значит,
таковы черты вашего характера? Какое
же право имеете вы находиться в этом
доме с вывеской «ПОЛИКЛИНИКА», для кого
бы она ни была построена? Или вам не
известно, что первый и единственный
принцип врачебного искусства —
милосердие, милосердие и милосердие?
Молодая женщина в белом халате,
испуганно глядя на Алешу, поднялась со
стула. Она молча слушала его, и ее
смазливое личико медленно покрывалось
бледностью.
— Вам не врачом быть...
Вам... вам... — Нет, Алеша не мог найти ей
подходящего места в жизни. Махнул рукой
и вернулся к Антону.
Остаток дня Алеша
занимался больным. Рентген не показал
никаких изменений, и к вечеру Антон
чувствовал себя почти как обычно.
Вечером они сидели вдвоем в комнате
Алеши, и Антон впервые в жизни подробно
рассказывал о том, как он шестнадцати
лет внезапно заболел эпилепсией. Тогда
он жил в родном бурятском улусе и учился
в школе. Новые друзья по училищу об этой
болезни его ничего не знают. Последнее
время припадки участились, но ни разу
они не настигали его ни в училище, ни в
общежитии.
Антон не просил сохранить
его тайну. Такая просьба была неуместной;
он верил Алеше.
А тот перевел разговор
на другие темы. Обсудили новые фильмы,
спектакли в театрах. И вдруг, застенчиво
прикрывая рукой глаза, Антон сказал:
—
Знаешь, Алеша, я люблю Люсю.
— Знаю, —
удивился этому неожиданному признанию
Алеша.
— Знаешь? Откуда? — изумился
Антон.
— Так... Догадывался...
— А ты
Нонну, да, Алеша? Ведь правда?
Алеша
повернулся к Антону, заложил руки за
спину и молча, строго глядя на него, так
стоял некоторое время.
— Знаешь что,
Антон...— Он подошел к шкафчику, распахнул,
достал небольшую бутыль с темной
жидкостью.— Это — настойка свет-травы.
— Свет-травы? Не понимаю.
— Твоя
любовь... Люся дала мне в руки это
лекарство. В Западной Сибири этой травой
издавна лечат эпилепсию. Я еще не проверял
ее ни на ком. Хочешь быть первым?
Антон
не верил ни в какие травы, но для Алеши
он готов был на любые жертвы.
— Конечно!
Хочу! Делай меня подопытным кроликом!
— В этой траве, в числе других
компонентов, есть люминал, которым тебя
лечат. Собственно говоря, не лечат, а
так... поддерживают. Тут же есть возможность
полного излечения. А вреда никакого.
Травка очанка. Витамин. Известна с
древних времен. Попробуем, а?
—
Попробуем. Я же сказал, что согласен. Но
почему то очанка, то свет-трава?
— Это
одно и то же.
— Ну лечи, лечи. Мне-то
что? Хуже не будет.
Алеша просиял:
—
Мне бы найти хоть нескольких больных.
Проверить.
— Ну проверяй, проверяй!
— бодро согласился Антон и потянулся
к бутылке. — Пить из горлышка, что ли?
Алеша отстранил его, налил настойку
в маленький пузырек, заткнул его пробкой
и, подавая Антону, сказал строгим голосом:
— Начнешь с одной капли. Три раза в
день.
— Помилуй, Алеша, что же может
совершить одна капля? Ну давай хотя по
пять!
— Я сказал: по одной.
— Сколько
же надо платить гомеопату? — с улыбкой
спросил Антон, принимая лекарство.
—
Если я тебя вылечу, — усмехнулся Алеша,
— то уверяю — нет на свете таких денег,
которыми ты мог бы рассчитаться со
мной... А потому пусть будет бесплатно.
Тем более что лечу я в соавторстве с
Люсей.
— А насчет Нонны ты все же мне
не ответил...— сказал Антон, стоя уже в
дверях в пальто и в меховой шапке.
—
Нонна потом. Сейчас свет-трава...
Закрыв
за Антоном дверь, он вернулся в комнату,
хотел поставить на место бутыль с травой,
но остановился, задумался...
—...Нонна
потом, сначала свет-трава, — вслух
повторил он. — Нонна потом, сначала
практика... Нонна потом, сначала экзамены...
и так всегда...
Он почувствовал, что
соскучился по ней. Представил себе ее
большие лучистые глаза, с откровенным
обожанием глядящие на него.
— Я
соскучился по тебе, слышишь? Соскучился!
— сказал он вполголоса, с чувством,
глядя в темное окно с мелькающими
красными огнями подфарников машин,
бегущих по улице.
17
— Я слышу
тебя, Алеша. Я чувствую: ты наконец
оторвался от своих медицинских грез,
вспомнил обо мне и соскучился. Да?
Соскучился? Я тоже, — шептала Нонна,
полулежа на диване, мечтательно глядя
в потолок и рассеянно слушая лирическую
музыку радиоприемника, помещенного в
шкафу, вделанном в стену. — Хотя каждый
день мой занят интересными развлечениями:
Курт и тетя Таня точно соревнуются друг
с другом, стараясь угодить мне. Они возят
меня обедать и ужинать каждый раз в
новые рестораны, пивные бары, за город
— любоваться природой Баварии.
Позвонила
тетя Таня:
— Нонночка, ужинать будем
вдвоем. Я приеду за тобой. Курт на два
дня выехал из Мюнхена.
— Куда же уехал
Курт? — удивленно спросила Нонна. Она
привыкла к своему поклоннику.
—
Он...—тетя Таня на мгновенье запнулась,
— он уехал в Австрию.
Нонна вспомнила,
что в Австрии у Курта дача, вспомнила и
то, что они условились съездить туда
вместе. «Видимо, Курт хочет приготовиться
к этой совместной поездке», — подумала
она. И тут же решила, что без тети Тани
ни за что туда не поедет.
Вечером,
после ужина в загородном ресторане,
тетя Таня повезла Нонну в знаменитый
мюнхенский пивной бар.
О! Это было
внушительное зрелище! Длиннющий зал
напоминал улицу. Вдоль него стояли ничем
не покрытые столы и скамьи. Посреди зала
духовой квартет исполнял национальную
немецкую музыку. За столами сидели
представители всех профессий и возрастов.
Все пили баварское пиво из больших
расписных кружек. Пили не закусывая.
Медные трубы, смех, песни, клубы
табачного дыма, терпкий пивной запах,
которого Нонна не переносила, — все это
произвело на нее неприятное впечатление.
Она заткнула ладонями уши и умоляюще
посмотрела на тетю Таню. Та засмеялась
и пошла к выходу. Нонна устремилась за
ней.
Но на пути у них возникла полная,
разгоряченная пивом женщина.
— Фрау
Татьяна! — сказала она по-русски, но с
акцентом, выдающим немецкое происхождение.
Тетя Таня приветливо поздоровалась,
представила Нонну и отрекомендовала
свою знакомую: фрау Анхен Краузе —
преподавательница кафедры русского
языка Мюнхенского института переводчиков.
Они стали договариваться о каких-то
деловых встречах. Нонна рассеянно
слушала и разглядывала полки с кружками,
на ручках которых висели номерки. Это
были персональные кружки завсегдатаев
пивного бара.
— Да, я слышала: ваш
компаньон уехал в Париж? — сказала Анхен
Краузе.—Надолго?
— Он уехал по делам...
всего на два дня,— ответила тетя Таня.
Нонна сделала вид, что не расслышала,
но ей стало не по себе. Тетя Таня обманула
ее. Зачем? Не все ли равно ей, Нонне, куда
отправился Курт: в Париж или в Австрию?
Пусть он уедет даже в Нью-Йорк или в
Буэнос-Айрес!
Фрау Анхен Краузе
обратилась к Нонне:
— Фрейлейн Нонна,
вы давно из Москвы?
— Уже две недели,
— сказала Нонна. И подумала: «Всего две
недели! В Москве этот срок был бы совсем
незаметен. А тут?.. Мне кажется, что я уже
целую вечность не видела Алешу, бабушку,
Люсю, Антона. И даже по бабушкиной
компаньонке соскучилась...»
— Видели
достопримечательности нашего Мюнхена?
— Еще, наверно, не все. Но много
интересного видела.
— Были в оперном
театре?
— Да, слушала «Риголетто».
—
Посетили Дахау?
— Нет. Тетя Таня, мы
поедем в Дахау?
— Если хочешь — поедем.
Но это страшное зрелище. Надо ли?
—
Конечно, надо,—сказала Анхен Краузе
—Русские всегда посещают Дахау.
Вечером
Нонна обратилась к тете Тане с просьбой:
нельзя ли позвонить в Москву?
—
Пожалуйста. Я сейчас же попрошу соединить
с Москвой.
Нонна назвала Алешин номер.
— Друг по училищу? Это любовь? —
настороженно спросила тетя Таня.
—
Нет, не любовь. Просто товарищ...
И вот
она услышала голос Алеши, близкий и
четкий, словно из другой комнаты. Наверно,
бежал к телефону: было слышно, что он с
трудом переводит дыхание.
— Алеша,
это я... Я так хорошо тебя слышу! А ты?
—
Я тоже хорошо... Когда ты приедешь? Мне
кажется, прошли годы с тех пор, как я
пытался догнать твой поезд.
— Алеша...—
Нонна прикрыла трубку рукой, потому что
ей послышался шорох по ту сторону двери.
— Ты что-нибудь хотел сказать мне тогда,
на вокзале?
— А я сказал... Разве я не
сказал, когда бежал за твоим поездом?
— Я не поняла, Алеша. Повтори... Прошу
тебя: повтори !
— Я повторил бы сейчас,
но мой лопоухий брат стоит рядом и не
спускает с меня своих любознательных
глаз. Скажи: тебе интересно, весело?
—
Мне интересно... Но не весело. Зайди,
пожалуйста, к нам. Передай привет моей
бабушке от меня и от тети Тани. До скорого
свидания!
Нонна положила трубку и
вышла в коридор. В конце его поспешно
сворачивала в кухню тетя Таня.
— Я
передала от вас привет бабушке. Не
возражаете? — воскликнула Нонна и
поцеловала ее в щеку.
Тетя Таня
растроганно обняла племянницу.
Они
сумерничали в гостиной. Сидели в креслах
и дымили сигаретами.
Долго молчали.
Нонна обдумывала каждое Алешино слово,
сказанное по телефону. Что он хотел и
не мог повторить? Что?.. Тетя Таня думала
о чем-то своем. Потом она заговорила об
одиночестве.
— Вот если бы ты навсегда
осталась со мной!
— А вы вернитесь на
родину. Там у вас будет целая куча
родственников! Старых друзей разыщете...
— Найдутся и друзья,— задумчиво
сказала тетя Таня.—Но вернуться уже
невозможно. Стара я для того, чтобы
сызнова начинать свою жизнь. Стара. Мне
немного осталось. Да и напрасно ты
думаешь, что родина с распростертыми
объятиями примет свою блудную дочь!
Тетя Таня отошла к окну, долго смотрела
на чернеющие в сумерках весенние
проталины, на контуры голых кустов.
Она
курила, молчала и набиралась смелости,
чтобы наконец высказать племяннице
свою сокровенную мечту.
— Слушай,
Нонночка. Ты уже не ребенок. Слушай
внимательно и вдумайся в каждое мое
слово.
Она напряженно подалась вперед.
В ее звенящем голосе чувствовалось
волнение.
— Я одинока. После моей
смерти останется немалое наследство,
которое, естественно, перейдет к тебе.
Ты будешь богата. Но на родине твоей
нельзя быть богатой. Вряд ли тебе удастся
вывезти то, что я оставлю тебе... Слушай,
девочка, оставайся здесь. Нет, нет, я не
предлагаю тебе быть дезертиром. Ты
можешь выйти замуж за Курта, и тебе дадут
официальное разрешение переехать сюда,
как это было когда-то со мной... А Курт
безумно влюблен в тебя. Ты же видишь...
Вряд ли такой жених еще когда-нибудь
попадется тебе.
— Тетя Таня, что вы
говорите! — воскликнула Нонна.—Я просто
не понимаю, что вы говорите!
— Нонночка,
ты и не отвечай мне сейчас, — умоляюще
произнесла тетя Таня, делая шаг вперед.
— Это слишком серьезно. Ты разберись
во всем трезво. Подумай. У нас еще есть
время.
Она поспешно вышла из комнаты.
В нерешительности постояла в прихожей.
Потом захлопнулась входная дверь,
заскрипели ворота гаража, и вскоре
зашуршала колесами по асфальту отъезжающая
машина.
Нонна недвижимо сидела в
кресле, облокотившись на низкий столик
и обхватив руками голову. Она даже ни о
чем, совершенно ни о чем не думала. Просто
после слов тети Тани ее охватил такой
страх, какого она еще никогда не
испытывала. Ледяными стали руки и ноги,
незнакомо стучало и замирало сердце.
Потом она очнулась. Зажгла сигарету.
Увидела на спинке дивана свою шерстяную
кофточку и завернулась в нее, чтобы
согреться.
«Слушай, девочка, оставайся
здесь,— вновь услышала она слова тети
Тани. — Ты будешь богата. Ты можешь выйти
замуж за Курта. Вряд ли такой жених еще
когда-нибудь попадется тебе...»
И вдруг
Нонне стало смешно. Она засмеялась
сначала тихонько, потом громче и громче.
Она хотела сдержать смех, но не смогла.
А потом он перешел в рыдание. Она поняла,
что это истерика, вскочила, выбежала в
ванную, открыла шкафчик с лекарствами...
Но названия были ей непонятны.
Она
пошла в свою комнату, легла на диван,
укрылась, закрыла глаза и представила
себя в том положении, которое рисовала
тетя Таня.
...Такая же вилла под Мюнхеном.
Возле нее маленький сад. Гараж, в котором
стоит роскошный светло-шоколадный
«мерседес». Курт — ее муж. Он выдает ей
6 марок в день на продукты. Она экономит
каждый пфенниг, покупает полуфабрикаты.
Готовит завтрак, обед и ужин. Моет посуду
и стирает белье в больших круглых
машинах, стоящих на кухне. Муж даже не
может по-русски объясниться в любви.
Она прекрасно одета, потому что тряпки
в Мюнхене дешевы, ими завалены магазины.
Заниматься любимым делом невозможно.
Нет времени. Да и зачем Мюнхену русская
актриса?
Ни одной близкой души вокруг.
Тетя Таня? Она уже давно не русская. Вот
разве тот эмигрант... Она ездит в ресторан
«Романов», слушает допотопную музыку,
смотрит, как плачут русские эмигранты,
и плачет сама по родной земле, которую
от Бреста до Владивостока не проедешь
поездом и в десять суток! Плачет о Москве,
о сцене... об Алеше, о загубленной своей
жизни.
Нонна опять засмеялась, но уже
обычным смехом. Она совершенно успокоилась
и теперь даже удивлялась своему недавнему
волнению.
— Дураки! Ох какие же дураки!
— вслух сказала она, потягиваясь и
сбрасывая плед. Этим словом она наградила
и Курта и тетю Таню.
Эту фразу сказала
она с той самой улыбкой, с той самой
интонацией, с которой говорила ее на
репетиции самостоятельного спектакля,
адресованную по тексту пьесы незадачливым
поклонникам. Вспомнилось училище.
Показалось удивительно давним прощание
на вокзале, Алеша... Люся... Антон... И она
подумала о том, как расстроен, наверное,
Антон тем, что в связи с ее отъездом
пришлось прекратить репетиции.
18
Антон действительно был расстроен.
Из-за отъезда Нонны репетиции
«самостоятельного» спектакля прекратились.
Люся снималась в фильме «Неточка
Незванова», Алеша трудился над дипломом.
Один Антон был не у дел. Он мог бы провести
каникулы в родном улусе, у родителей,
которые так скучали о нем, так его ждали.
Но он и дня не мог прожить без Люси. Вот
если бы побывать в родных краях вместе
с ней!
Он родился и вырос в маленьком
улусе, поблизости от знаменитого
бурятского курорта Аршан. Вероятно, это
было одно из самых примечательных мест
Восточной Сибири. Антон часто слышал
от путешественников, привыкших восхищаться
южной природой, что подобного великолепия
они еще не встречали.
Антон с детства
изумлялся красотой Аршана и никак не
мог привыкнуть к ней, не замечать ее.
Его поражали Аршанские горы —
скалистые, остроконечные. Они цепью
поднимались ввысь одна за другой, как
гигантские древние курганы, протыкали
вершинами небо и, как тот, воспетый
поэтом, утес, ласкали на могучей груди
своей прикорнувшие тучки, которые на
закате и на восходе действительно
становились золотыми.
Антон никак не
мог насладиться неповторимой прелестью
немноговодной, юркой речушки Кынгарги,
которая с сумасшедшей быстротой неслась
куда-то, сбивая с ног любого, кто
отваживался войти в нее. Она мчалась по
совершенно белым булыжникам, устилавшим
ее дно, и цвет воды от этого был
необыкновенный: серовато-белый, днем —
с голубыми блестками от отраженного
неба, с красноватыми искрами от солнечных
лучей, с темноватыми разводами от тени
проплывающих туч. А ночью Кынгарга
длинными золотыми языками отражала
звезды и безуспешно пыталась умчать
куда-то переливчатую лунную дорожку.
Аршанские водопады сплошной стеной
срывались со скал, до блеска отполированных
водой. Раскидывая пену и брызги, с глухим
ворчанием, как сказочные чудовища,
водопады отрывались от скал, свертывались
в пенистые клубки и ожесточенно
накидывались на огромные валуны, точно
пытаясь проглотить их или унести с
собой. Но валуны веками стояли на своих
местах. Только на мгновения освобождаясь
от пены, они сверкали на солнце или при
луне своими мокрыми, тоже отполированными
боками и снова захлебывались пеной. А
водяные чудовища уже скакали по камням
дальше...
А еще ниже грозные водопады
атаковали следующую скалу, с огромной
выси срывались вниз, прямо на белые
валуны, и становились Кынгаргой —
бесноватой аршанской речкой. Со скалы
на скалу над серо-белой Кынгаргой
переброшен висячий мост.
«Постоять
бы сейчас на этом покачивающемся от
ветра легком мосточке. Полюбоваться на
горы, на речку и водопады, подышать
родным, чистым-чистым воздухом, ощутить
незабываемую прелесть Аршана, где ты
родился, вырос и почувствовал эту вечную
нежность к родным местам, еще с детства
взявшим тебя в полон, с детства и на всю
жизнь!»
Так думал Антон, от безделья
лежа в постели в комнате общежития,
опустевшего на время каникул. В руках
он держал письмо от отца. Отец служил
милиционером на Аршане. Служил уже
двадцать лет.
Антон представлял себе
отца в милицейской форме, на мотоцикле.
Он был чистокровным бурятом. Антон
походил на отца, но русская мать внесла
некоторые коррективы во внешность сына.
Она наградила его узким овалом лица,
сгладила желтоватую смуглость кожи и
черноту волос.
А вот от кого из родителей
унаследовал Антон любовь к театру и
актерское дарование?
Антон, смеясь,
говорил, что этот дар, вероятно, пришел
к нему от двоюродного деда — прославленного
шамана, который всю жизнь играл роль
посланца высшей силы на грешную землю.
Дикой пляской, ударами в бубен кулаками
и звоном металлических украшений он
доводил себя до исступления и в этом
состоянии вещал народу о будущем,
заговаривал болезни, изгонял злых духов.
Антон не застал деда в живых, но в
фамильном альбоме хранилась его
фотография, и Антон часто с любопытством
рассматривал пляшущего старика, одетого
в шкуры, украшенного хвостами животных
и побрякушками, с перьями на голове, с
бубном, перевитым разноцветными
лоскутьями.
Антону, ученику советской
школы, был непонятен смысл шаманства,
и деда своего он с детских лет воспринимал
только как актера. Не случайно, когда
однажды в школе был устроен карнавал,
Антон явился на него в костюме шамана,
в точности скопированном с фотографии
деда. И даже, к восторгу зрителей, исполнил
импровизированную шаманскую пляску,
за что и получил первый приз.
Но,
вспоминая всю свою небольшую жизнь,
Антон думал и о том, что в выборе его
будущего, в формировании вкуса и
наклонностей имела огромное значение
красота природы Аршана: удивительные
горы, неповторимые водопады и необыкновенная
Кынгарга, своим сумасшедшим бегом
зовущая куда-то вперед, в неизведанное.
Окончив десятый класс, Антон помчался
в это неизведанное, отвергнув все
увещевания и предупреждения о том, что
в театральное училище простым смертным
дорога заказана.
Но мечта сбылась, и
он был счастлив. А теперь вот это
затишье...
«Скорее бы Нонна кончала
свои заграничные развлечения»,—думал
Антон.
19
А Нонна еще развлекалась.
Шофер тети Тани привез ее обедать в
пивной бар, в тот самый, в котором в 1939
году было разыграно покушение на Гитлера.
Тетя Таня встретила племянницу не
одна. Нонна так и предполагала. Она уже
достаточно пригляделась к характеру
своей тетки и знала, что сегодня та будет
избегать разговора наедине.
Тетя Таня
представила Нонне совсем юного Карла
Розенберга, студента богословского
факультета. Карл с нескрываемым
любопытством во все глаза глядел на
девушку из Москвы.
Нонна тоже с
интересом рассматривала высокого
широкоплечего блондина с густыми
вьющимися волосами, с правильными
чертами лица и таким цветом кожи, которому
позавидовала бы любая модница.
Карл
Розенберг не имел никакого понятия о
русском языке и о том, что собой
представляет Советский Союз.
Тетя
Таня перевела Нонне его вопрос:
—
Скажите, пожалуйста, с какого возраста
ваших детей отбирают у родителей в
интернат?
Нонна вначале не поняла
вопроса, а потом принялась так безудержно
хохотать, что будущий священнослужитель
и без ответа ее понял, что информация
мюнхенской прессы не всегда бывает
верной.
Тетя Таня сочла поведение
племянницы не вполне приличным. И в то
же время смех Нонны немного ее обнадежил:
смеется — значит, на душе хорошо... Может
быть, Германия стала ей нравиться? И
быть может, она все-таки решила остаться?
— Я знаю в Москве один интернат, в
котором живут дети тех, кто временно
уехал работать за границу, — сказала
Нонна. — Я слышала, что есть интернаты
при сельских школах — для тех детей,
которые живут далеко от школы, ну,
например, дети бакенщиков, лесников,
начальников маленьких пристаней.
И
Нонна опять со смехом обратилась к тете
Тане и махнула рукой с зажатым в ней
платочком:
— Он все равно не поймет!
Он же совсем не представляет нашу
страну...
Сердце у тети Тани опять
защемило: «Нет, не останется Нонна в
Мюнхене».
Карл постепенно оправился
от смущения и задал новый вопрос:
—
А правда ли, что служители религиозного
культа в Советском Союзе подвергаются
страшному гонению, все церкви закрыты
и служба проходит в уцелевших кое-где
часовнях?
Нонна ответила, что религией
она не интересуется, но знает, что церквей
в Москве много.
— А однажды я видела,
как в Кремль въезжала «Чайка»...
—
Влетала, — тихонько поправила ее тетя
Таня.
— Нет, именно въезжала: это —
марка автомашины. Рядом с шофером сидел
молодой священник в высокой черной
шапке, а сзади я увидела старца в такой
же высокой шапке, но только белой... Мне
сказали, что это был патриарх Всея Руси
— Алексий.
— Они ехали в Кремль? —
недоверчиво переспросил Карл.
— Да,
на правительственный прием.
— Их туда
пригласили?
Нонна нетерпеливо взмахнула
рукой:
— Ну, что делать, если вы мне
не верите?!
Тетя Таня с удовольствием
еще раз увидела блеснувший на запястье
браслет. «Кого не прельстят такие
подарки,— мелькнуло у нее в голове.—
Конечно, останется и выйдет замуж за
Курта, вон какая она сегодня веселая».
После обеда тетя Таня и Карл повели
Нонну в тот зал, где произошло покушение
на Гитлера. Зал был длинный и мрачный,
почти не освещенный, беспорядочно
заставленный стульями. Небольшая
запущенная сцена, по бокам перила, как
бы огораживающие воображаемые или
когда-то бывшие ложи.
Нонна окинула
зал равнодушным взглядом, так и не поняв
теперешнего его назначения. Здесь,
совершенно очевидно, пиво не пили. Столов
не было. Похоже было, что и теперь здесь
проходили собрания или слушались лекции.
Нонна не знала того события, которое
разыгралось здесь в 1939 году. Покушение
на Гитлера, подстроенное его кликой с
полного одобрения самого фюрера, было
использовано нацистами в целях упрочения
его власти в Германии:
Усаживаясь в
машину, тетя Таня сказала:
— Тебе,
Нонночка, хотелось побывать в Дахау?
Вот для этого я и познакомила тебя с
Карлом. На территории бывшего лагеря
есть монастырь кармелиток. Называется
он «На святой крови». Всего лишь три
года тому назад наши немецкие женщины
организовали его. Они замаливают страшные
грехи, совершенные фашистами в Дахау.
И не случайно монастырь стоит в этом
ужасном месте. Кармелитки обрекли себя
на те же условия, в которых жили заключенные
лагеря. Сами, по своей собственной воле!
Ты представляешь? Карл, через своего
влиятельного родственника, устроит нам
встречу с настоятельницей монастыря.
Это тебе интересно?
— Очень! Поблагодарите
Карла, он вполне заменяет Курта в его
отсутствие.
«Может быть, тетя Таня
решила переменить мне жениха?» — подумала
Нонна. Она игриво осведомилась:
— А
Карл имеет право жениться?
Тетя Таня
улыбнулась и перевела Карлу ее вопрос.
Тот вспыхнул, опустил глаза и ответил
тихо, но утвердительно.
— А на иностранке
может? — не унималась Нонна, уже с трудом
сдерживая смех.
— Тебе что, он по душе
пришелся? — спросила тетя Таня, испытующе
глядя на Нонну.—Больше, чем Курт?
—
Что вы! — воскликнула Нонна. — Разве я
могу кого-нибудь предпочесть Курту? Вы
же сами говорили, что нет на свете жениха
завиднее, чем он.
«Ну ясно, решилась!»
— мысленно ликовала тетя Таня и чуть
не двинула машину на красный свет.
Нонна
шутила, но тревога не покидала ее. «Может,
уехать домой до срока? Или досмотреть
этот приключенческий фильм до конца?»
Вечер провели вдвоем.
Обе понимали,
что наступил решающий момент объяснения.
Обе волновались. Нонна решила сначала
поесть. Она всегда так делала: сперва
ела, а потом приступала к неприятным
делам. Тетя Таня последовала ее примеру.
Допивая кофе, Нонна сказала:
— Тетя
Таня! Неужели хоть на одну минуту вы
поверили, что я сделаю, как вы хотите!
У тети Тани задрожала рука, которой
она держала чашку, и, чтобы не выдать
своего волнения и не слышать Дребезжащий
звон ложки, она проворно поставила чашку
на стол.
— Да, я вполне допускала это.
Потому что это разумно. А человеком
должен управлять рассудок. Ты же
поддаешься эмоциям, и они подведут тебя.
Еще раз прошу: подумай! Там...— она махнула
рукой, — у тебя нет ни отца, ни матери,
ни мужа.
— Но у меня есть родина, тетя
Таня. В это понятие — Родина — входит
все: и друзья, и дом, и бабушка моя —
гордость русского народа, и мое училище,
и мое будущее на сцене, и мечты мои с
детских лет. Все, все... И моя
Москва-красавица... А вы...— Нонна встала,
— вы взамен всего этого предлагаете
мне наследство, богатого жениха и чужую
страну!
Тетя Таня тоже поднялась.
«Значит, деньгами ее не купишь. Курт
ее тоже не взволновал. Будем пробовать
другую приманку», — подумала она и,
чуть-чуть успокаиваясь, сказала:
—
Как хочешь, девочка! Я так полюбила тебя
за эти дни. Совсем забыла о своем
одиночестве. Вот и посмела мечтать об
этом. Как хочешь! Но на каникулы ты ведь
будешь приезжать ко мне? Будешь, не
правда ли?
Она жалобно взглянула на
племянницу. Нонне опять стало жаль ее.
— Постараюсь, тетя Таня. — И добавила
твердо: — Только больше не просите меня
остаться. Обещаете?
20
На другой
день вечером в салоне тети Тани собралось
небольшое общество: Курт, возвратившийся
«из Австрии», Нонна и только что прибывший
из Парижа мосье Жорж Мортье, которого
тетя Таня представила Нонне как
выдающегося режиссера и киносценариста.
Расположились на втором этаже в
небольшой комнате рядом с кабинетом
тети Тани. На первом этаже был книжный
магазин. На ужин к традиционной пшенной
каше и салату был добавлен картофель,
сваренный в мундире. На столе стояли
зажженные свечи. Нонна поняла, что сейчас
речь пойдет о кинокартине «Марфа
Миронова», о которой говорил Курт.
Конечно же Курт ездил именно в Париж, а
не в Австрию и вот привез режиссера для
встречи с нею — внучкой Марфы Мироновой.
«Видимо, в самом деле Курт серьезно
влюбился в меня», — подумала Нонна и
приласкала его благодарным взглядом.
Он ответил возбужденной улыбкой, легким
прикосновением локтя и каким-то тихо
сказанным немецким словом.
Режиссер
был человеком восторженным. Он выражал
бурную радость по поводу того, что Марфа
Миронова еще жива. В Париже ее считали
умершей лет тридцать назад. Значит,
можно будет связаться с ней, получить
ценный материал, даже показать ее на
экране, на мгновение, но крупным планом.
Это будет сенсацией. А внучка Мироновой,
играющая роль своей бабушки,—это уже
просто событие!
За фильм режиссеру
была предложена крупная сумма и обещана
«пресса» не только во Франции, но и в
Западной Германии.
Картины Жоржа
Мортье особенного успеха никогда не
имели. Так было всю жизнь... А теперь ему
уже перевалило за семьдесят. Густая
грива волос стала редкой и совершенно
седой, щеки запали. Сильная и бесстрастная
рука времени словно бы сжала его лицо
— и оно стало маленьким и морщинистым.
Только и красят его роскошные белые
зубы, но все же видят, что они не
натуральные. Да еще голос оставался
властным и сильным. Непонятно даже, как
жил этот голос в таком небольшом,
сухоньком теле.
Режиссер придирчивым
профессиональным взглядом рассматривал
Нонну, даже нарочно уронил на пол платок,
чтобы под столом получше разглядеть ее
ноги.
Он сразу понял, что на роль Марфы
она не подходит. Изящества нет. Актриса
явно характерная. Какая же из нее
балерина?
Но он хорошо помнил, как
Курт, вручая ему конверт с авансом,
сказал:
— Прежде всего немедленно
сговоритесь с внучкой об ее участии в
фильме: иначе она уедет на родину!
—
Но надо же еще написать сценарий, надо
придумать для нее роль. Хорошо, если она
потянет на Марфу Миронову, а если нет?
— сказал режиссер.
— Должна «потянуть»!
Нонна волновалась. Щеки ее горели.
Моментами она переставала понимать,
что происходит вокруг нее.
Старый
режиссер говорил, поблескивая роскошными
зубами. Он произносил фразу своим низким
красивым голосом и замолкал. Курт
переводил на немецкий язык, а тетя Таня
— на русский. Этот «сложный» разговор
у всех вызывал улыбку.
Жорж Мортье
объяснил Нонне, что французы были
страстными поклонниками таланта Марфы
Мироновой. Он сам не раз видел ее на
парижской сцене. И вот решили создать
картину... Никому и в голову не приходило,
что Марфа еще жива. Это должно быть
призванием Нонны: подарить бабушке на
экране вторую жизнь!
— Думаю, что вы
не откажетесь сыграть главную роль! Вы
не можете отказаться... Я прошу вас
немедленно выехать в Париж на кинопробы.
— Конечно... Это очень заманчиво. Но
у нас в училище полагается ставить в
известность художественного руководителя
и ректора о ролях, которые нам предлагают
в кино. Немедленно выехать в Париж без
ведома моей страны я тоже не могу...
Тетя
Таня многозначительно переглянулась
с Куртом.
Нонна замолчала. Ответила
она французу очень решительно, но в душе
было смятение: отказаться от фильма...
Легко ли? С кем посоветоваться? Что
предпринять? Звонить? Телеграфировать?
Куда и кому?
— Не можете ли вы...
несколько дней подождать? — в отчаянии
спросила она мосье Мортье.
— Не более
трех дней, — деловито ответил он.
—
Хорошо. Через три дня я вам отвечу. —
Нонне показалось, что три дня — это
огромный срок: она успеет все выяснить,
все решить, — и, успокоившись, стала
расспрашивать режиссера о сценарии.
По его сбивчивым ответам в мысли ее
закрались сомнения: есть ли сценарий?
Если его еще нет — зачем же гак срочно
устраивать кинопробу?
— А если я для
балерины окажусь слишком... ну, что ли,
громоздкой? — спросила она с беспокойством.
— Мы и это предусмотрели, — бойко
ответил француз. — У нас припасена на
всякий случай еще одна роль. Очаровательная.
Маши-эмигрантки!
— Эмигрантки?
—
Не волнуйтесь. Это глубоко положительный
образ.
Нонне очень хотелось сыграть
в этом фильме: поехать в Париж, выдержать
«пробы». Быть может, это судьба? Та самая
счастливая звезда, которую ждет каждый
актер? Что же делать?
— Тетя Таня, а
где находится наше посольство ? —
спросила она.
— В Бонне. Вернее, около
Бонна. Ты хочешь поехать гуда? Правильно,
девочка! Там тебе помогут выехать в
Париж и договорятся с твоим училищем.
Они, конечно, пойдут навстречу. Ведь не
каждой русской актрисе предлагают
сниматься во французской картине!..
Тетя Таня тут же все разъяснила Курту.
В раздумье наморщив лоб, она сказала:
— На завтра мы договорились с Карлом
о Дахау. А послезавтра ты съездишь в
посольство. Путь не близкий, примерно
такой, как до Кёльна. Да я сама с тобой
съезжу! Согласна?
— Договорились! —
оживленно воскликнула Нонна. Ей стало
не только спокойно, но даже весело.
Посольство поможет ей во всем. Это ясно!
Она съездит в Париж на «пробу». Ее возьмут
сниматься. Она чувствует, что возьмут
обязательно! Затем она уедет домой в
Москву, к Алеше, к бабушке. Придет в
училище... Всем обо всем расскажет! А
потом — снова в Париж, на съемки. Это же
счастье! И все это сделал Курт...
Нонна
опять с благодарностью поглядела на
него и протянула ему руку. Он несколько
раз поцеловал ее чуть повыше драгоценной
серебристой змейки.
Тетя Таня
торжествовала: «Вот уж против этого
девочка не устоит! А потом благодарность
к Курту, может быть, переродится... в
любовь. Так часто бывает...»
21
Курт и тетя Таня вновь
пожертвовали ради Нонны своим рабочим
днем. С утра все трое отправились в
Дахау. По дороге заехали за Карлом.
Из
окна машины Нонна с удивлением наблюдала,
как спешащие на работу мюнхенцы, студенты,
дети с ранцами за плечами останавливались
и подолгу стояли на тротуарах перед
пустой дорогой только потому, что на
противоположной стороне изображение
шагающего человека было красным.
—
У нас бы не выдержали, побежали! — сказала
Нонна.
— О! Это же немцы... Железная
дисциплина,— ответила тетя Таня,
поворачивая машину к улице, где находился
знаменитый мюнхенский пивной бар.
Внезапно Курт схватился за руль. Нонна
разобрала быстро произнесенные слова
«Наин! Наин!» и залп еще каких-то фраз.
Тетя Таня стала разворачивать машину,
и Нонна увидела, что здание пивного бара
окружено полицией, а улица забита
неспокойной толпой.
— Что там случилось?
— спросила Нонна.
С таким же вопросом
тетя Таня обратилась к Курту и, выслушав
его, перевела Нонне:
— Пивной бар
сняли неонацисты для своего собрания...
Вокруг собрались противники, хотят
помещать им. Ну, а полиция, как обычно,
блюдет порядок...
Нонна никак не могла
уяснить, что из себя представляют
различные партии ФРГ, но понимала, что
неонацисты — самая агрессивная, самая
страшная партия, идущая по стопам
фашистов. Она помнила, как однажды Курт
сказал: «Если правительство даст
возможность неонацистам укрепиться —
они повернут ФРГ к гитлеровскому режиму».
— Зачем же правительство разрешает
неонацистам снимать пивные бары и
проводить там свои собрания? — спросила
Нонна. — Значит, правительство все же
этого желает?
— Все правительства
ведут двойную игру,— уклончиво ответил
Курт.
Карл уже стоял на тротуаре,
издали приветствуя подъезжающий
автомобиль. Его рука была выброшена
вперед так решительно, что казалось, он
вот-вот крикнет «Хайль!».
И Нонна
подумала: «Не из таких ли молодчиков
состоит НДП ?»
Большой Карл влез в
машину, и в ней сразу же стало тесно. Он
с таким же интересом, как и в первый раз,
рассматривал представительницу чуждого
ему мира, попутно балагурил с Куртом, о
чем-то расспрашивал тетю Таню.
Город
Дахау был совсем близко от Мюнхена. И
когда машина остановилась около длинного
забора, окружавшего бывший лагерь, Нонна
вспомнила слова женщины, работавшей
когда-то секретаршей у Гитлера, о том,
что она не знала о существовании лагерей
и была уверена, что ее фюрер тоже не знал
об этом.
Нонна усмехнулась наивности
этого заявления. Смешно, чтобы кто-то в
Мюнхене не знал о концентрационном
лагере, находившемся рядом с главным
городом Баварии. Этот лагерь был хорошо
виден. Курт показывал Нонне его из окна
ресторана. Смешно, чтобы кто-то в Берлине
не знал о лагере Заксенхаузен или в
Веймаре о Бухенвальде. Кто в это поверит?!
Они вошли на территорию бывшего лагеря
и стали беспорядочно осматривать его
без путеводителя и без экскурсовода.
Сначала шли по бесконечной Лагерной
улице, совершенно пустой, с кое-где
уцелевшими одинокими деревьями от
тополевой рощи, посаженной арестантами.
Располагавшиеся раньше вдоль этой улицы
жилые и больничные бараки теперь были
снесены. Огромные мертвые пустыри
молчаливо лежали по ту и другую стороны
Лагерной улицы. Аккуратно прочерченные
полосы сообщали о том, что когда-то здесь
стояли бараки, в которых жили, страдали
и умирали люди...
Тетя Таня сказала
Нонне, что через эту страшную, мертвую
пустыню прошло 206000 заключенных.
Лагерная
улица заканчивалась католической
часовней. Она называлась часовней
«Предсмертного страха Христа» и была
построена уже после войны. Это странное,
аляповатое сооружение, выложенное
галькой, напоминало широкую трубу,
врытую в землю. Почти четверть диаметра
этой трубы, вырезанное сверху и донизу,
служило дверью. И в эту широкую дверь
виден был висящий на проволоке огромный
белый крест. Под крестом, на круге, к
которому вели широкие ступени, поднимался
четырехугольный пьедестал, сооруженный
из какого-то ноздреватого материала.
На нем возвышалось распятие, освещенное
горящими свечами. С улицы в незакрывающуюся
дверь был виден круглый, опускающийся
к центру потолок часовни.
С крыши
свешивался гигантский терновый венец
из железа. Это было оригинально. Но ничто
оригинальное и необычное не могло
произвести здесь впечатления. Сердце
было охвачено ужасом.
Над входом в
лагерь было написано: «Работа освобождает».
Слова о свободе в Дахау! Нонна
почувствовала озноб.
— А в Бухенвальде
еще страшнее надпись,— сказал Курт. —
Там написано: «Каждому свое».
Это была
экскурсия в мир кошмаров. Прошлое словно
бы оживало на фотографиях Дахауского
музея.
«Баня»... Здесь эсэсовцы умывались
человеческой кровью.
«Лаборатории»...
Здесь подопытным материалом, обреченным
на медленную мучительную гибель, были
люди...
Нонна вышла из выставочного
зала притихшая, потрясенная... Послушно,
не говоря ни слова, пошла туда, куда
повели ее Курт, тетя Таня и Карл.
—
Это крематорий, — сказала тетя Таня. —
Газовая камера была замаскирована под
баню. А в печи мертвых привозили на
вагонетках.
Они вошли было в крематорий,
но около него стоял памятник, возле
которого нельзя было не задержаться.
На постаменте стоял изможденный
человек. Стоял просто, засунув руки в
жалкое рубище, напоминающее пальто. На
ногах его были страшные бухалы наподобие
не то валенок, не то ботинок.
Подняв
исхудавшую, стриженую голову, устремил
вдаль невидящие сухие глаза, разучившиеся
плакать...
Всхлипнув и уже не пытаясь
сдерживать слезы, Нонна прикоснулась
пальцами к словам, высеченным на
постаменте.
— «В память погибших и в
назидание живым!» — прочитала тетя
Таня.
— «В назидание живым!» — шепотом
повторила Нонна. — «В назидание живым!»
И вспомнила мюнхенский пивной бар,
оцепленный полицией, улицу, забитую
толпами людей, и слова Курта, сказанные
небрежно:
«Если правительство даст
возможность неонацистам укрепиться —
они повернут ФРГ к гитлеровскому режиму».
«Вот к этому»,— с ужасом думает Нонна,
окидывая взглядом крематорий, памятник
и мертвые кровавые пустыри лагеря.
Вдруг рядом с ней кто-то закричал. Она
вздрогнула от неожиданности, побледнела,
со страхом взглянула на маленького,
подвижного человечка, который внезапно
появился возле памятника. Он кричал,
размахивал руками, обращаясь к
присутствующим. По щекам его катились
слезы. Он стыдился их и жалкой, вымученной
улыбкой пытался отвлечь взгляды людей
от своих глаз...
— Он говорит, что был
два года в этих лагерях,— быстро и нервно
переводила тетя Таня. Курт, обеспокоенный
бледностью Нонны, держал ее под руку.—
Это — англичанин. Он приехал из Англии,—
объяснила тетя Таня.— Специально
приехал, чтобы пройти по этой страшной
земле и вспомнить все.
Нонне показалось,
что лицо англичанина похоже на лицо
человека, стоявшего на пьедестале возле
крематория. Он плакал, но черты его все
равно сохраняли ту же страшную, тупую
неподвижность. Концентрационный лагерь
оставлял свою печать навсегда.
Англичанин
показывал дрожащими растопыренными
пальцами на крематорий и говорил, что
он был построен в 1942 году, потому что
старый крематорий не справлялся уже с
сожжением мертвецов.
— А там —
стрельбище,— показал он дрожащей рукой
вправо от крематория,— там было уничтожено
шесть тысяч русских.
Он кинулся в
сторону, и все последовали за ним.
—
Здесь было заграждение из колючей
проволоки, по ней пропускали электрический
ток... ночами лагерная стена была освещена.
Если кто-нибудь приближался к ней —
часовые на вышках стреляли без
предупреждения... Видите, там...—На лице
его появилось изумление. — Я не знаю
этих построек. Их не было прежде.
—
Это — монастырь кармелиток «На святой
крови», — сказал Карл.
— А! — воскликнул
англичанин. — Так за этим монастырем
было кладбище... Там погребено семь тысяч
пятьсот арестантов всех европейских
национальностей. А налево, за монастырем,
лесное кладбище города Дахау. Там
похоронены последние узники лагеря...
совсем накануне освобождения...
Он
бросился на колени. Неистово поклонился
в сторону кладбища, подполз на коленях
к входу в крематорий и поцеловал землю.
— «В память погибших и в назидание
живым»! — сказал он, рукавом вытирая
лицо.—А живые забывают... Некоторые
забыли о той войне, забыли, сколько здесь
пролилось крови. Боже мой! Боже мой!
Какая короткая память!
— Ну, успокойся...
— на плохом немецком языке сказала
скромно одетая, статная и еще довольно
молодая женщина, прикасаясь рукой в
пуховой белой перчатке к плечу англичанина.
— Я из Чехословакии приехала. Отец в ту
войну без вести пропал... Были слухи, что
в германский лагерь его заключили. Ищу
вот по спискам. В архивах, где позволяли,
искала. Была в Бухенвальде. А теперь
здесь... Ты не встречал случайно Яна
Ржигу? Такой был высокий, широкоплечий.
— Здесь были тысячи узников,—
поднимаясь с земли, сказал англичанин.
— Под номерами. Имен не было. Зачем имена
обреченным на смерть? Может быть, я и
встречал твоего отца... Может быть, вместе
стояли под холодным дождем в строю на
аппельплаце. А может, это он убежал... и
его застрелили по ту сторону рва. Штрафной
аппель тогда длился целые сутки. Целые
сутки! Была глубокая осень. Стояли
холода. И сутки ни на минуту не прекращался
дождь. Ни на минуту! После этого аппеля
в каждом бараке умирали заключенные от
крупозного воспаления легких... Может
быть, умер тогда и Ян Ржига? Не знаю! Не
знаю... Я был номером 7777. Только потому,
что я носил эту магическую цифру,
повторенную четыре раза, я снова стал
человеком. Но с этим номером я сойду в
могилу. Вот!
Он сбросил пальто. Засучил
рукав замшевой куртки, и все увидели на
его левой руке синие цифры: 7777.
— Он,
наверное, сумасшедший! — прошептала
Нонна. — Тетя Таня, я не пойду в крематорий.
Мне как-то нехорошо. Я посижу в машине.
А вы идите...
Тетя Таня и Карл пошли в
крематорий, а Курт медленно повел Нонну
к выходу. Он молчал, делая вид, что не
замечает ее покрасневших глаз...
В
машине они тоже сидели молча. И Нонна
была благодарна за это молчание.
Вскоре
пришли тетя Таня и Карл.
Тетя Таня
участливо поглядела на Нонну и сказала:
— Не надо было тебя сюда возить.
«Обязательно надо было, — подумала
Нонна. Но вслух ничего не сказала. —
Всем нужно увидеть этот лагерь... Всем!
И пусть все люди прочувствуют слова: «В
память погибших и в назидание живым».
— Ну что же, теперь в монастырь! —
сказал Карл, довольно потирая руки.
Нонна через силу вышла из машины,
ощущая гнетущую усталость.
Монастырь
кармелиток «На святой крови» был обнесен
простым деревянным забором, покрашенным
белой краской. Через решетчатую дверь,
в точности скопированную с дверью
арестантских камер, вышли в маленький
чистый дворик, заглянули в небольшую
кирху с деревян-ными скамьями и
спускающимися с деревянного потолка
черными светильниками в стиле модерн.
Здесь было пусто, неуютно и холодно.
За кирхой размешались кельи кармелиток,
видны были их однообразные острые крыши.
Настоятельница монастыря приняла
посетителей в комнате, надвое разделенной
деревянной решеткой. Это напоминало
арестантскую камеру, но решетки, двери
и скамьи — единственное убранство
комнаты — были отполированы.
Игуменья
и еще одна монашка оставались за решеткой.
Они сели на табуреты. Гости разместились
по другую сторону решетки, на скамьях.
Игуменья принялась рассказывать...
Речь
шла о монастыре. Он был открыт три года
назад. В монахини постриглись женщины
— врачи, учителя, инженеры. Они ушли из
мира, чтобы здесь, на земле, пропитанной
невинной кровью, замаливать грехи своих
соотечественников.
У настоятельницы
монастыря, женщины лет шестидесяти,
полнолицей и румяной, передние зубы
были слишком длинны, и казалось, что она
все время улыбается. Улыбающийся человек
в Дахау выглядел странно... И все,
встретившись с ней взглядами, отводили
глаза. Иногда в беседу вступала другая
монахиня, еще молодая, красивая, с матовым
цветом лица и грозными, трепещущими
бровями. Ее черные, чуть удлиненные
глаза все время то расширялись, то
прищуривались: то ли это была привычка,
то ли игра. Она говорила тихо, но страстно
и четко, вскидывая вверх правую руку.
Она отводила ее чуть-чуть в сторону, и
черный широкий рукав взмывал вверх, как
крыло вещей птицы, обнажая белоснежный
манжет.
Нонне вспомнилась суриковская
«Боярыня Морозова». Ее везут в заточение.
Она сидит в санях, вскинув вверх руки,
как бы осеняя двумя перстами все вокруг.
Глядит на провожающий ее народ безумными
глазами фанатички. Немецкая монахиня,
заточившая себя в монастыре на кровавой
земле Дахау, была чем-то похожа на
боярыню-фанатичку.
Нонна почему-то
подумала, что, когда настоятельница
уйдет из этого мира, ее место непременно
займет монахиня, напоминавшая красивую
хищную птицу.
И таким же непонятным
и страшным, как весь лагерь Дахау,
показался ей и монастырь кармелиток.
Так же, как около крематория, она
почувствовала себя нехорошо. Но теперь
было невозможно уйти. Она сидела со
всеми на деревянной полированной скамье
и через деревянную полированную решетку
смотрела на страшную монахиню. Смотрела
как зачарованная. Не могла оторвать от
нее взгляда. Иногда глаза Нонны и глаза
красавицы кармелитки встречались, и у
Нонны захватывало дыхание. Она боялась
смотреть в эти глаза. Ей казалось, что
они загипнотизируют ее и она подчинится
их любому приказу.
Поднимаясь и
удерживая привычный жест благословения,
настоятельница спросила с улыбкой: не
хотят ли посетители еще что-нибудь
спросить у нее?
— Русская фрейлейн
спрашивает, — указала тетя Таня глазами
на Нонну,—прощаете ли вы тех, кто совершил
эти преступления в Дахау? Молитесь ли
вы за них?
— Да, фрейлейн, мы за них
молимся,— с тихой улыбкой сказала
настоятельница монастыря, глядя на
Нонну большими кроткими глазами, — но
простить мы их не можем.
— Их может
простить только господь бог! — страстно
воскликнула молодая монахиня, снова
воздев руку с указующими перстами.
—
Вряд ли он их простит,— тихо сказала
Нонна, и в ее памяти опять промелькнул
пивной бар, окруженный полицией, шумные
толпы людей, пытающихся сорвать
неонацистское сборище.
«Нет, монастырями
и молитвами их не остановить!» — подумала
она, взглядом провожая монахинь, которые
поклонились посетителям и пошли в
маленькую низкую дверь привычной,
смиренной походкой, прижимая к груди
сложенные руки.
Эту ночь Нонна почти
не спала. То она вспоминала Жоржа Мортье
с львиной седой гривой и роскошными
вставными зубами... Вскакивала, садилась
на постели и, обхватив руками голову,
думала о его предложении. Она решила
ехать в советское посольство утром. Она
была уверена, что там ей помогут
разобраться во всем. Так, успокаивая
себя, она ненадолго засыпала. Просыпалась
оттого, что над ухом своим слышала крик
англичанина: «В память погибших и в
назидание живым!» Она открывала глаза,
видела где-то там, в темноте, страшный
памятник, воздвигнутый у крематория. И
опять погружалась в тревожный сон.
Потом ей приснилось, что сидит она на
диване в гостиной тети Тани, а напротив
в кресле разместилась огромная черная
птица. Она то широко раскрывает, то
прищуривает злые горящие глаза, широко
раскрывает и прищуривает. Взмахивает
иссиня-черным крылом, похожим на рукав
монашеской рясы. Голосом тети Тани
черная птица убеждает Нонну остаться
в Мюнхене навсегда.
Черная птица
закуривает сигарету, цепко держит ее в
когтистых пальцах и, прищурив глаза,
предлагает другое: уйти в монастырь
кармелиток.
«Тебе очень пойдет черная
ряса, — говорит птица, — вот примерь!»
Нонна кричит, отбивается, а черная
птица пытается натянуть на нее монашеское
одеяние.
— Нонночка, что с тобой? —
слышит она знакомый голос, но не сразу
узнает, чей он.
Около кровати в длинной
ночной сорочке стояла тетя Таня. В
комнате горела ночная лампа.
— Ты так
кричала...— Тетя Таня провела рукой по
ее спутанным волосам.
— Я видела
страшный сон, — с трудом отозвалась
Нонна.
— Насмотрелась страхов в Дахау,
вот и не спится... Актрисы так впечатлительны.
Спи, деточка, еще рано...
Она поцеловала
племянницу, подняла с пола сбившееся
одеяло, укрыла ее, погасила светильник
и ушла, бесшумно ступая по мягкому полу,
тихо прикрыв за собой дверь...
Нонна
сейчас же уснула. А фрау Татьяна вошла
в свою холодную спальню (здесь считали
полезным спать в нетопленых комнатах),
легла на широкую двуспальную кровать
и, закинув руки за голову, до утра
пролежала с открытыми глазами.
Она
думала о том, что с появлением Нонны все
чаще и чаще вспоминает Москву и свою
далекую юность. Тоска по родине, так
тревожившая ее прежде, стала донимать
снова. Она расспрашивала Нонну о
подробностях московской жизни, даже о
мелочах, и о людях, которых еще помнила.
Она со страхом думала о том, что будет,
если, несмотря на все ухищрения ее и
Курта, придется все же расстаться с
Нонной.
Она надеялась, что в советском
посольстве продлят Нонне визу и разрешат
выехать из Мюнхена в Париж. А там светская
жизнь увлечет девушку, как когда-то она
увлекла молодую Татьяну Соловьеву... И
она забыла свою страну. Забыла ли?
Оказывается, нет.
Фрау Татьяна закрывает
глаза, и в памяти ее возникает мощенная
крупным старинным булыжником Красная
площадь... Она, молодая девушка, весенними
сумерками идет по площади. Рядом юноша
с мягким девичьим профилем... Ее первая
любовь. Потом он стал известным хирургом.
Она несколько раз слышала о нем по радио,
давно слышала... Она не спросила о нем
племянницу. Боялась: а вдруг его уже
нет... Время идет, идет — и все меньше
остается тех, с кем была связана ее
юность.
Из родных теперь осталась
только Нонна. И страшно отпустить ее,
снова остаться одной...
22
Занятому
человеку, такому, как фрау Татьяна,
нелегко терять день, но выхода нет. Она
решает утром же везти Нонну в посольство.
Кстати, и у нее есть в Бонне кое-какие
дела.
Сереньким промозглым утром они
ехали в поезде Мюнхен — Кёльн. В большом
купе с окном во всю стену они расположились
вдвоем, хотя тут было шесть глубоких
кресел с подушечками для головы.
Нонна
разглядывала пробегавшие мимо деревни
с однотипными каменными строениями.
Из-за потемневшего, осевшего снега и
мокрой земли со втоптанными в нее
прошлогодними листьями селения казались
не по-немецки запущенными.
Поезд
мчался мимо маленьких, еще только
просыпавшихся городов, улицы которых
были забиты велосипедистами, спешившими
на работу. Торговцы открывали свои
магазины. Женщины поспешно протирали
стекла витрин, дверные ручки. Швабрами
мыли асфальт возле своих магазинов.
Всю дорогу тетя Таня предавалась
воспоминаниям юности. Она говорила об
отце Нонны, о ее матери, но больше всего
— о бабушке, героине будущей кинокартины.
На одной из станций к ним в купе вошла
молодая белокурая женщина с двумя
детьми. Мальчик лет десяти нес увесистую
кошелку с продуктами. Годовалую девочку
мать держала на руках. Мальчик снял
курточку и кепку, повесил их на крючок.
Кошелку поставил в угол и, получив от
матери пирог с вареньем в целлофановой
обертке, начал есть, с любопытством
прислушиваясь к разговору на незнакомом
ему языке.
Указав на легкую курточку
мальчика, Нонна сказала:
— Я заметила,
здесь очень легко одевают детей. Смотрите:
мать в шубе, а дети почти в летних
пальтишках.
Изо рта ребенка выпала
соска. Нонна поспешно подняла ее и подала
матери.
— Данке шён! — улыбнулась
молодая женщина и сунула грязную соску
ребенку в рот.
Нонна изумленно взглянула
на тетю Таню, но та с умилением смотрела
на годовалую девочку и, казалось, ничем
не была удивлена.
— Соска-то гряз...—
не договорила Нонна, потому что белокурая
женщина вновь изумила ее.
Она не отняла
у дочери свой палец, который та с
увлечением сосала, заменив им надоевшую
соску.
— Тут есть своя теория воспитания,
— сказала тетя Таня, заметив удивление
племянницы. — Ничего стерильного!
Организм должен приучаться к борьбе с
бактериями.
— В России так было в
старое время. У бедняков... Сильный
выживал, а слабый погибал. Это слишком
жестокая теория для цивилизованного
общества, тетя Таня!
— Может быть, это
жестоко, но разумно...
Мальчик, увлекшийся
непонятным ему разговором, уронил кусок
пирога на свежевыглаженные брюки. Он
вскочил, со страхом взглянул на мать,
попробовал рукой очистить злосчастное
пятно.
Мать со злостью отняла у него
пирог и выбросила в урну для мусора. Она
сказала сыну какую-то фразу, коротко и
внушительно. Он покраснел, и даже слезы
выступили на глазах.
— Хочешь знать,
что сказала она? — спросила тетя Таня.
— Что он — неаккуратный мальчишка,
раззява... и что если бы тут не было
иностранцев, она дала бы ему затрещину.
— Ничего подобного. Она сказала, что
это уже вторая его провинность к субботе.
— А что же в субботу? — не поняла
Нонна.
— По субботам бывает порка
детей. Им припоминают все плохое, что
случилось... за всю неделю!
— И так у
всех?!
— Ну не у всех, конечно, но у
многих.
— Ничего себе! Ну, шлепнуть
под сердитую руку — это понятно. А копить
все до субботы... И заниматься потом
экзекуцией — расчетливо и спокойно!
Это ужасно.
Тетя Таня пожала плечами.
Ей это уже не казалось ужасным. Да и
детей она никогда не имела.
Нонна
ненавидящими глазами впилась в хорошенькую
молодую мать. Ах, если бы знать немецкий!
Уж она бы не промолчала. И, нарушив
правила поведения за рубежом, сказала
бы кое-что этой женщине, напоминающей
ангела.
— Знаете, тетя Таня... Все это
напоминает мне о временах Гитлера.
—
Нонночка, ты что-то уж слишком! Вашим
детям все сходит с рук. Но это тоже,
согласись, не очень педагогично.
«Вашим
детям...—мысленно отметила Нонна.— И
это говорит сестра моего отца!»
Если
бы Нонна не спешила в посольство, она
бы побродила с теткой по улицам Бонна,
заглянула в университет, где учился
Карл Маркс. Она непременно побывала бы
в затертом современными зданиями
двухэтажном домике, со скрипящими
ступенями, низкими потолками и крошечными
комнатками, в котором родился Бетховен.
Но времени не было.
На такси Нонна
с тетей Таней проехали мимо бундестага,
мимо резиденции канцлера и направились
в Роландсэк, в советское посольство,
расположенное на высоком берегу Рейна,
уже за пределами города.
Нонна думала,
что Бонн — столица Федеративной
Республики — это огромный внушительный
город, почтя как Берлин. На самом же деле
он оказался маленьким и каким-то безликим.
Она сказала об этом тете Тане.
— Бонн
сольется с несколькими близлежащими
городами — и тогда станет большим, —
объяснила она. — Ну, вот и посольство.
Твоя беседа, конечно, затянется,— я
отправляюсь по своим делам, а потом за
тобой заеду.
Так они и решили, не
предполагая, конечно, что увидеться им
никогда в жизни больше не суждено.
Посла
в Бонне не оказалось. Он на два дня улетел
в Советский Союз. Нонну попросили
дождаться советника, который должен
вот-вот приехать.
Она сидела в приемной,
расстроенная и растерянная, не зная,
что предпринять. Ей казалось, что без
посла советник не решит ее дела. А ждать
посла было невозможно. Эти два дня могли
стать для нее роковыми: опоздает на
«пробы», и фильм будут снимать без нее.
Стуча по паркету лаковыми каблучками,
несколько раз мимо Нонны пробегала
стройная, худенькая секретарша с кипами
бумаг. Она заметила растерянную девушку,
услышала ее вздохи и присела рядом.
Она
спросила что-то по-немецки.
— Я —
русская, — сказала Нонна.
Девушка
улыбнулась ей, как старой знакомой, и
спросила:
— У вас что-то случилось?
— Видите ли, у меня очень сложное
положение. Решается моя судьба, вот
сегодня же. А посол уехал. Мне нужен
совет... Я совсем одна и запуталась. Я —
студентка московского театрального
училища. Мне предлагают сниматься во
французском фильме, нужно срочно выехать
в Париж на «пробу»...
— Марина! Где вы?
Марина! — послышался голос из-за
полуоткрытой двери.
— Сейчас иду!
Она вскочила, постояла немного в
раздумье. То, что сказала Нонна, показалось
ей значительным и романтичным. Она
решила помочь соотечественнице.
—
Знаете что?..—понижая голос, сказала
она.—Не выдавайте меня... Поезжайте на
виллу посла, поговорите с его женой. Это
— умная и добрая женщина. Я убеждена,
она вам поможет. Подскажет, как быть.
—
А где эта вилла? Как мне добраться туда?
Нонна вспомнила, что даже кошелек с
марками оставила в Мюнхене, во всем
полагаясь на тетю Таню.
— Подождите
меня минутку.
Девушка, стуча каблучками,
исчезла за дверью.
Вскоре она так же
стремительно вышла и молча пальцем
поманила Нонну. Обе почти бегом спустились
по лестнице.
В вестибюле стоял мужчина
в кожаном пальто, без головного убора.
— Федя, вот эту девушку, пожалуйста,
захвати с собой на виллу посла, — сказала
Марина. — Да помоги ей пройти к...— Нонна
не расслышала имени и отчества жены
посла. — Она по-немецки не знает. Учти!
Через минуту машина мчала Нонну к
загородной вилле посла.
Жена посла
оказалась дома. Она приняла Нонну
приветливо, сразу угадав, что какие-то
исключительные обстоятельства привели
эту девушку к ней.
Она провела гостью
в просторный зал. Застекленная стена и
дверь отделяли его от веранды, каменные
ступени которой спускались прямо в
парк, большой, но по-весеннему голый.
Сначала Нонна пила кофе со свежими,
еще теплыми слоеными пирожками и
конфетами «Мишка». И через полчаса она
с девичьей непосредственностью уже
была влюблена в приветливую, гостеприимную
русскую женщину.
Нонна про себя
отметила, что жена посла хоть и не молода,
но покоряюще женственна, а ее густые
каштановые волосы одного цвета с умными,
внимательными глазами.
Хозяйка дома
заметила, что, несмотря на волнение, ее
гостья с юношеским любопытством
разглядывает все кругом.
«Девушке
нравится моя прическа,—подумала жена
посла. — И это новое платье, сшитое по
самой последней моде... Но она не
представляет себе, как трудно быть «при
параде» с утра до позднего вечера. И нет
ни одного дня отдыха от этих модных
причесок и платьев, и от чопорных, ничего
не значащих улыбок, и от бесед на приемах,
которые со стороны кажутся светскими,
пустопорожними, не требующими душевного
напряжения».
Она чувствовала
расположение к этой девушке. Улыбалась
ей, потому что хотела улыбаться, говорила
с ней, потому что ей хотелось говорить,
потому что ее интересовало, кто она, что
думает и зачем пришла к ней.
В Москве,
в университете, у нее училась дочь. Она
приезжала сюда на каникулы и только
вчера улетела вместе с отцом. Нонна
чем-то напоминала дочку, о которой мать
тосковала и беспокоилась, год за годом
неся свой трудный долг перед родиной
на чужой земле.
Она изумилась, когда
Нонна, с восхищением оглядев все вокруг,
будто прочитала ее мысли и спросила:
—
Вам тут, наверное, очень трудно?
—
Очень,— грустно созналась она.
Это
признание настроило Нонну на откровенность,
и она стала рассказывать о себе все, как
есть: обо всех невзгодах, об Алеше, о
подарке Курта, о предложении тетки
остаться в Мюнхене, об обещанном ей
наследстве. Она рассказала о будущем
фильме «Марфа Миронова» и о странном
сценарии, содержание которого не может
пересказать режиссер...
Жена посла
слушала опустив голову, чтобы взглядом
не смущать собеседницу.
Нонна замолчала
и с волнением, подавшись вперед, ждала
ответа на свою исповедь.
Ответ
последовал. Он был сказан твердо и четко.
Чем-то даже напоминал приказ:
— Вы
должны уехать домой. Думаю, что в Мюнхен
вам возвращаться незачем. Поезд утром.
Билет мы оформим. Переночуете в Бонне.
Мосье Мортье в вас заинтересован. Будьте
спокойны: он договорится и с вами, и с
вашим училищем без Курта Брауна и без
фрау Татьяны. Думаю, что сценария еще и
в помине нет. Все это только что предложил
французу Браун или ваша тетя. И надо
сказать — предложение их удачно. Пусть
будет такая картина... Это же интересно!
Они, я думаю, дали Мортье деньги. Но вы
для него и без денег клад — сенсация.
Не волнуйтесь: если фильм будет сниматься,
Мортье вас разыщет. Живая внучка
знаменитости!
Она помолчала немного,
будто рассуждая сама с собой. А потом
продолжала:
— Ваша тетка и ее компаньон
хотят, чтобы вы не вернулись на родину.
Все пущено в ход: деньги, любовь...
Испытывают и ваше тщеславие. Возможно,
что фрау Татьяной руководит ее одиночество.
А Курт Браун, я думаю, видит в вас выгодную
невесту. С вами перешли бы в его руки
все капиталы фрау Татьяны. Хотя, может
быть, одновременно он и покорен вами. В
вас ведь влюбиться совсем не трудно.
Если вы сейчас явитесь в Мюнхен и скажете,
что посольство вам отказало, будут
приняты новые меры, самые неожиданные
и, быть может, опасные.
Она встала и
пригласила Нонну следовать за собой.
Они прошли по коридору в небольшую
комнату с секретером, книжным шкафом и
креслами.
Так же молча она указала
Нонне на кресло, а сама подошла к телефону,
стоявшему на круглом столике, сняла
трубку.
— Степан Николаевич, вы у
себя? Я сейчас подъеду к вам с русской
девушкой. Она приехала в Мюнхен по
приглашению своей тетки и попала в
весьма сложное положение. Спасибо.
Она
положила трубку и сказала:
— Ну,
девочка, поехали завершать этот мюнхенский
приключенческий фильм.
Он был завершен
на следующий день утром.
Шофер дядя
Федя привез к поезду чемодан Нонны,
который был доставлен из Мюнхена. Он
вручил ей отчаянное письмо тети Тани:
«Сердце мое не зря было полно ужасных
предчувствий, когда я оставляла тебя
одну в этом посольстве. Но я не думала,
что ты будешь арестована и немедленно
выслана обратно, в Россию. Я горюю. Рыдаю!
Курт в отчаянии».
Нонна невольно
улыбнулась, читая эти высокопарные
строки.
Тревога оставила ее, как только
в поезд вошли пограничники Германской
Демократической Республики. Она залезла
на свою верхнюю полку и заснула так
крепко, как ни разу не спала в Мюнхене.
На другой день совсем исчезли усталость
и напряжение. Поезд мчался по родной
земле. В купе она была одна. Ей и хотелось
побыть одной. Она сидела у столика,
отодвинув белые занавески, смотрела и
думала, смотрела и думала...
Иногда ей
казалось, что все это было не на самом
деле, а случилось во сне. Но о том, что
это был все же не сон, а действительность,
напоминала роскошная голубая шубка,
висевшая в углу, и браслет на руке.
Вчера, когда шофер Федя привез на
вокзал чемодан и ее старую шубу в
целлофановом мешке, она решила снять с
себя подарки, положить их в целллофановый
мешок и отправить обратно в Мюнхен. Но
неожиданно ей стало жаль расставаться
с чудесными подарками... Она оставила
их.
Иногда ей становилось немного
стыдно перед собой за такой компромисс.
Но она убеждала себя, что любая девушка
поступила бы точно так же.
23
В
Москву поезд пришел утром. Нонна стояла
у окна в коридоре, в своей старой шубке
и старой шапочке. Когда поезд на полном
ходу еще проходил мимо пустых перронов
подмосковных станций, волнение охватило
Нонну: знакомые места — тут она бывала
в летние дни, отдыхала в пионерском
лагере...
Мужской голос в радиоприемнике
торжественно объявил: «Поезд подходит
к столице нашей родины — Москве». Вагон
заполнила с детства знакомая песня
«Широка страна моя родная...».
У Нонны
защипало в носу. Она с трудом удержала
слезы, которые могли размазать тушь на
ресницах, и в этот момент увидела за
окном Алешу, Соню и Антона.
Она в первый
момент удивилась, что они все такие же.
Казалось, с момента разлуки прошли
долгие годы.
Алеша принял Нонну в
объятия прямо с верхней ступеньки
вагона, вместе с чемоданом. И расцеловал
ее при всех, счастливую, раскрасневшуюся
и пораженную этой его первой нежностью.
Соня с Антоном на некоторое время
отступили, а потом тоже обрушились на
Нонну с объятиями, поцелуями и расспросами.
Антон сразу же сообщил, что Люся
снимается в роли Неточки Незвановой и
поэтому не приехала на вокзал. А на
восемь вечера он назначил репетицию
«Дня и ночи».
С вокзала вся компания
поехала к Нонне.
Бабушка наскучалась
о внучке и с нетерпением ожидала ее,
даже принарядилась к ее приезду в черное
платье с высоким воротником, отделанным
белым рюшем. Сидя в своем удобном кресле,
она подставила Нонне для поцелуя щеку.
И когда та передала ей привет от фрау
Татьяны, сказала:
— Мерси. Передай ей
сердечный привет при случае.
Компаньонка,
тоже принарядившаяся в честь возвращения
Нонны, так и вилась вокруг девушки,
ожидая подарка, о котором та совершенно
забыла, находясь в Мюнхене.
Алеша
извлек из кармана пальто бутылку
шампанского. Пробка выстрелила, к
восторгу присутствующих, ударилась в
потолок, в бокалах поднялась пена.
—
За возвращение домой! — провозгласил
Алеша.
— А могла бы и не вернуться...—сказала
Нонна, этой фразой и волнением своим
вызывая изумление друзей.
Она отодвинула
бокал и стала рассказывать обо всем,
что произошло с ней в Мюнхене, предвидя
гнев и волнение Алеши и Антона. А Соня...
Она знала, что Соня скажет или подумает:
«Ну и дура! Отказалась от наследства,
от возможности жить за границей! Форменная
дура!»
Действительно, Алеша и Антон
разволновались. Они то и дело перебивали
Нонну вопросами и восклицаниями А Соня
слушала молча, опустив голову. Нонна ее
не узнавала.
Нонна не скрыла и того,
что пожалела вернуть в Мюнхен подарки
фрау Вейсенбергер и Курта Брауна.
В
подтверждение своих слов она приподняла
рукав шерстяной кофточки, сняла браслет
и протянула его Алеше. Но тот отдернул
руку и не притронулся к драгоценной
змейке, точно она могла выпустить жало.
Антон взял браслет и с интересом
оглядел его. Подержала его и Соня,
вспомнила о своем бриллиантовом кольце
и со вздохом положила браслет на стол.
Алеша, добрый Алеша, стукнул кулаком
по столу и решительно произнес:
—
Чтобы я никогда не видел его у тебя на
руке!
— Хочешь, я сейчас же его выброшу
в форточку? — с радостью предложила
Нонна.
— Дура! — остановила ее Соня.—Ты
лучше отнеси ювелиру!
— Верно! —
согласился Антон.— А деньги пожертвуй
в фонд «Дня и ночи». Мы такие декорации
отхватим — закачаешься!..
Нонна
взглянула на Алешу.
— Как хотите, —
сказал он, — но чтобы на руке у тебя его
не было.
Нонна была счастлива. Алеша
целовал ее на вокзале, он ревновал ее к
Курту и даже к его подарку. А на подарки
фрау Татьяны не обратил никакого
внимания.
Вечером на большой сцене
шла репетиция. Алеша был в зале. Смотреть
пришли многие студенты. Они наслышались
от всезнающей нянечки Матильды (она
была прежде Матреной), тридцать лет
работающей в гардеробе училища, что
спектакль получается удачным, и сама
Александра Антоновна просидела почти
до утра на репетиции, а потом сказала,
что все идет хорошо.
24
Незаметно
пролетела весна. Началась горячая пора
экзаменов.
Алеша не знал, что судьба
его предрешена. Его оставляли при кафедре
невропатологии.
Правда, однажды ректор
его спросил:
— Увлекаетесь гомеопатией?
— Увлекаюсь, — ответил Алеша.
—
Пустяки! Романтика молодости и влияние
деда. Это пройдет. — Он усмехнулся
самоуверенной покровительственной
усмешкой старшего, никогда не ошибающегося
в своих воспитанниках.
Но на этот раз
он ошибся. Алеша отказался от «выгодного»
предложения и, ко всеобщему изумлению,
просил направить его в любое село, но
обязательно Томской области. Свое
желание он мотивировать отказался. Не
хотел раньше времени выдавать свои
мечты, связанные со свет-травой, цветущей
под сибирским солнцем и, как чудесно
говорилось в легенде, видимой только
тому, кто искал ее с чистым сердцем, с
мечтой принести человеку счастье.
Сердце Алеши было чистым, и во имя
человеческого счастья он готов был
отдать свою молодую жизнь. Потому,
вероятно, он и верил в удачу. Уверенность
его рождало еще и то, что с тех пор, как
Антон начал лечиться свет-травой,
здоровье его стало заметно улучшаться.
Алеша шел на свидание с Нонной. Он
взглянул на часы и испугался: «Наверно,
уже десять минут она ждет меня у кассы
кинотеатра».
Нонна действительно
ждала. Ждала и нервничала. Она хотела
уйти и наказать Алешу.
Она старалась
выглядеть спокойной и даже веселой.
—
Не меня ли ожидаете, девушка? — спросил
игриво молодой человек жгучего восточного
типа.
«Вот и пойду в кино с этим
красавцем!» — подумала Нонна. Но тем не
менее повернулась к нему спиной и в этот
момент увидела Алешу. Он бежал, натыкаясь
на встречных, и, наверно, видел, как
приставал к ней красивый парень.
«Это
хорошо: пусть видит!» — подумала Нонна.
Алеша остановился подле нее взволнованный
и виноватый.
— Прости...— начал он.
И
Нонна сразу простила, не сдержалась,
бросилась к нему и прошептала:
—
Милый, милый... Все равно я люблю тебя!
Всякого люблю...
Алеша растерялся.
В
это время окончился сеанс и из кинотеатра
повалил народ.
— Нашли где обниматься,
— сказала полная пожилая женщина,
сердито проходя мимо. — Ну и молодежь
пошла — ни стыда, ни совести!
После
кино, взявшись за руки, они бродили по
Москве, выбирая самые темные, самые
безлюдные переулки.
И вдруг Алеша
вспомнил, что он еще ничего не сказал
Нонне о своих планах на будущее. Он вдруг
подумал о том, что, уезжая в сибирское
село, потеряет Нонну: ей-то в селе делать
нечего...
— Ты приедешь ко мне на
каникулы. А я приеду сюда в отпуск,— так
он закончил свое признание.
— Да, я
приеду к тебе на каникулы... А ты — в
отпуск...—повторила она.—А там... Там
будет видно...— но голос ее падал и падал.
На душе становилось горько, и вечер уже
не казался ей таким радостным.
Наступил
день отъезда Алеши. Накануне, сдерживая
рыдания, Нонна обещала прийти на вокзал,
приехать к нему зимой на каникулы и в
то же время с ужасом чувствовала,
понимала, что дороги их разошлись
навсегда.
Слово она сдержала и пришла
на вокзал раньше всех. Спряталась за
колонну...
Сквозь слезы, затуманившие
глаза, она увидела его еще раз, когда
поезд медленно тронулся и пошел, набирая
скорость.
Его взгляд, напряженный,
взволнованный, блуждал по перрону. Он
искал ее... Но она не вышла из-за колонны:
она не могла с ним прощаться.
25
Незаметно прошел еще год. Незаметно...
Но сколько было пережито за это время,
сколько дел было сделано, сколько судеб
сложилось, и счастливых и горьких, за
этот год.
Осуществилась мечта Антона.
Спектакль «День и ночь» получил отличную
оценку и был принят как самостоятельный
дипломный спектакль выпускного курса.
В училище это было событием. Но Антону
оно не принесло большой радости.
Он
затевал спектакль ради Люси, но ей «День
и ночь» был уже не нужен: фильм «Неточка
Незванова» шел всюду с большим успехом.
Нонна на зимние каникулы к Алеше не
поехала. Он в это время был в Томске на
курсах по повышению квалификации. Письма
он ей писал нежные. Обещал обязательно
быть на ее первом дипломном спектакле.
Обещал, но не приехал. Впрочем, может
быть, она от волнения не разглядела его
в крошечную дырочку занавеса. Но как бы
то ни было — спектакль начался...
Занавес
дрогнул и пополз в разные стороны. За
кулисами Люся и Нонна обменялись
тревожными взглядами.
«Интересно,—
думала Люся,— у тех актеров, которые
играют по двадцать лет, вот так же перед
выходом от волнения болит живот и стучит
сердце?..»
Нонна не задавала себе
такого вопроса. Она знала, что знаменитая
Марфа Миронова перед выходом на сцену
всегда волновалась, как школьница.
Однажды, в минуту просветления, бабушка
сказала ей: «Трудную профессию выбираешь.
Вечное волнение! Всегда надо быть в
форме, хоть через силу... Ни болезни, ни
настроение здесь не в счет! А балерины...
балерины — это ломовые лошади».
После
спектакля за кулисами толкались
однокурсники. Шумно поздравляли актеров
— одни от души, другие — сквозь зубы, с
завистью. Кто-то передал Нонне письмо,
запечатанное, в ненадписанном конверте.
Она схватила его, думая, что это —
весточка из зала. От него, от Алеши...
Убежала в уборную, разорвала конверт.
Почерк был незнакомый. Подпись: Марина.
Вот что было в письме:
«Нонна! Совершенно
случайно я оказалась на вашем дипломном
спектакле. Я — та самая Марина из
советского посольства в Бонне, которая
отправила вас на виллу к жене посла.
Повидать вас после спектакля я не успею:
спешу на поезд. Отпуск закончился, и я
опять отправляюсь в Бонн.
Мне вот о
чем хочется рассказать вам...
Ваша
тетка умерла. Все ее магазины и типографии
каким-то образом перешли в руки Курта
Брауна. В Париже ни о каком фильме про
Марфу Миронову никто ничего не знает.
Видимо, после вашего отъезда создавать
этот фильм передумали. Вот и все. Вы
хорошо играли. Счастливого вам будущего!
Марина».
Не снимая грима, Нонна
сидела в уборной перед зеркалом.
Уже
давно смолк шум в зрительном зале. И за
кулисами было тихо.
Перед ней лежало
письмо Марины. Вспомнился Мюнхен, тетя
Таня, Курт, красавица монахиня, памятник
у входа в крематорий и надпись на нем.
Та самая надпись: «В память погибших и
в назидание живым!..» Потом она вспомнила
ресторан «Романов», тоскующего по родине
старого эмигранта и стихи, несущиеся
из широкой трубы старинного граммофона:
«Ночевала тучка золотая...»
Эти стихи
напомнили об Алеше, об их любви, непонятно
почему не сложившейся. Он не приехал,
не сдержал обещания...
В уборную
ворвалась Люся и увидела, что Нонна
сидит на стуле, плачет и, глядя на себя
в зеркало, полушепотом читает стихи.
—
Сумасшедшая! — закричала Люся.— Там же
директор театра, главный режиссер и
члены художественного совета. Тебя и
меня берут в театр! Скорей, они ждут! Ты
понимаешь?!
Нонна равнодушно посмотрела
на Люсю, хотела отвернуться. Но вдруг
поняла смысл ее слов — вскочила, сбросила
костюм, в котором играла, схватила
платье... И пока Люся застегивала ей
пуговицы и стаскивала с ее ног голубые
старомодные туфли, Нонна торопливо
снимала грим, расчесывала волосы.
Обе
девушки повернулись к зеркалу, окинули
себя быстрым, оценивающим взглядом,
выскочили из уборной и помчались по
коридору. Потом, стараясь сдержать стук
каблучков, гулко разносившийся по строго
притихшему зданию, они пошли медленней.
Но в каждом их шаге, в каждом движении
было острое нетерпение...
Они знали,
что сейчас вот Александра Антоновна
представит их главному режиссеру и
директору. Она скажет:
— Вот мои
выпускницы. Пожелаем им счастливой
дороги!
И когда режиссер или директор
произнесет заветную фразу о том, что
приглашает их на работу в свой театр,
нужно будет призвать на помощь все
приобретенное в этом доме актерское
искусство, чтобы не выдать своей слишком
уж бурной радости...
Май 1969 г.-февраль
1970 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





