ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


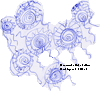
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Сельянова Алла 1987

Она ходила за нами следом, не вынимая рук из карманов. Сядет на заборчик и смотрит, как мы роем в песке пещеры или играем в колечко. А если мы начинаем в догонялки, она тоже бегает —ни за кем, просто так среди нас, только ее никто не салит, потому что она бегает, а руки опять в карманах.
Так мы с ней и не играли никогда, но все равно брали с собой — на Поле летом, на гаражи зимой; мы прыгаем сверху в снег, а она ждет, когда мы до конца вымокнем.
Игоря Мартуняна звали Пончиком — он был совсем тощий, просто кто-то придумал так и назвал, мы привыкли и иногда не могли даже фамилию вспомнить. Верка с пятого этажа была Мухой. Ленка Карташова — Крыса, она всегда плакала, когда ее так звали, потому что у нее был страшно длинный нос, как у настоящей крысы, и Ленка про это знала, но думала — вдруг со стороны незаметно, а мы попали в самую точку. У меня было самое неприличное прозвище, на которое мы только были способны, его при девицах не говорили, только между собой.
Алевтина была Алевтиной.
Мы ей кричали: «Алевтина, пересядь отсюда, здесь ворота будут!»
Мама с балкона: «Алевтина, не пора ли домой?»
Меня Алевтина за что-то любила, потому что только со мной из всех наших разговаривала, может, потому, что я никогда не пел ей сочиненное Веркой: «Алевтина, съешь картину!» — или еще что-нибудь; Верка придумала всем, и все что-то ели.
Я сам первым никогда не подходил к Алевтине и не задавал вопросов, а Алевтина ходила за мной или садилась поближе — там, где я.
В ней было много чудного — эти руки в карманах, например. Все как-то привыкли и не обращали внимания, а меня это мучило постоянно, как мучили все непонятные вещи: калейдоскоп с тысячами узоров внутри — откуда? Или Любка-дурочка из соседнего дома — сидит на своем стуле, поставленном где понравится, смотрит на всех и мычит потихоньку.
Мы все очень любили собираться у Верки — дома говорили, что идем делать уроки, потому что Верка была круглой отличницей, но дело, конечно, было не в уроках, просто Веркиных родителей днем не было дома, и у нее можно было делать все что угодно. И еще в Веркиной квартире было много интересных вещей, например пианино. Я просил, чтобы мама купила мне пианино, она отвечала, что у нас нет таких денег; тогда я нарисовал клавиши на кухонном столе и играл, когда оставался один. А у Верки на пианино никто не играл — ни она, ни родители.
Мы собирались, я и Пончик садились за пианино, он ставил ноги на одну педаль, я на другую, и, нажимая подряд на белые и черные клавиши, мы давили на педали, как шоферы. Верка никогда не злилась на этот шум, потому что сама творила бог знает что вместе с нами. Она обшила старую мамашину комбинацию желтой оконной ватой, это было вечернее платье — как настоящее, с мехом и декольте.
Верка выходила из ванной в своем платье и на шпильках, увешанная драгоценностями, наливала нам в высокие стаканы компот, и мы пили, а иногда я даже курил на кухне самодельные папиросы — просто пустые трубочки из газеты, подожженные с одного конца: газета тлела и шел настоящий дым.
К приходу родителей Верка разоблачалась, все садились за стол и открывали тетрадки.
Я собрался к Верке, но тут позвонили в дверь. Там стояла Алевтина, и опять руки в карманах. Мне представилось, что она и позвонила-то не руками, а еще чем-нибудь, но это я подумал от злости, потому что теперь к Верке не попадешь: прогнать Алевтину я не мог, а к Верке она не ходила.
Алевтина часто сидела у меня — наши двери были напротив. Когда моя мама была дома, она усаживала Алевтину на кухне и разговаривала с ней. Все взрослые почему-то очень любили Алевтину.
Если мамы не было, Алевтина садилась на табурет у окна, поджимала ноги и так долго сидела. Поначалу она мне мешала, даже если молчала, но потом я привык к сидящей у окна Алевтине, как к нашей кошке Лариске, которая вечно спала в кресле. Я, конечно, мог бы выгнать Алевтину разок — она бы никому не пожаловалась, но и не пришла бы больше никогда. Но тогда бы ей совсем некуда было ходить.
Алевтина вошла и села на свое место. Моя злость еще не прошла, и то, что Алевтина теперь будет сидеть и молчать, а у Мухи мы бы уже давно стояли на головах, вывело меня из себя.
— Алевтина, пойдем к Верке, — предложил я.
Алевтина качнула головой: нет.
— Тогда давай в лото играть. Что, так и будем сидеть, что ли?
Она опять головой: нет.
Тогда я решил никогда больше первым с ней не заговаривать, потому что так вообще невозможно с человеком, когда ему интересные вещи предлагаешь, а он даже не отвечает.
— Ты иди, а я у вас посижу, — вдруг сказала Алевтина, когда я забыл про нее, — начал сводить с открытки Волка.
— Да сиди, мне-то что, — обрадовался я. — Сиди.
Ушел и захлопнул дверь, потому что Алевтина до маминого прихода все равно с табурета не встанет.
Однажды я сам пошел к Алевтине. Мама сказала, что у нее сегодня день рождения и чтобы я поздравил и подарил что-нибудь.
У меня было своих четыре рубля семь копеек — это от завтраков и от бабушки. Но я не знал, что покупать. Верке я купил бы в нашем галантерейном перстень — не золотой, но все равно красивый — Верка каждый день бегала смотреть, разобрали или нет. Пончику я подарил бы котенка от Лариски — он очень хотел котенка, тем более что у Лариски их всегда было много, а ему родители разрешили бы, если я его принес.
Что подарить Алевтине, я совсем не знал. Да и расходовать свои деньги как-то не хотелось, потому что я копил на настоящую клюшку.
Я так ничего и не придумал, покопался в своем барахле и нашел всю почти разодранную «Муму». Я сто раз читал ее перед школой, потом еще в школе проходил, и она мне теперь была не нужна.
Алевтина сидела в своей комнате, а на столе лежали краски. Я бы никогда не подумал, что Алевтина может рисовать; я вообще не задумывался над тем, что может Алевтина: как можно все время руки в карманах держать и еще что-то делать? А тут я узнал, что Алевтина рисует так, как никто из наших никогда не нарисует — на стене много ее рисунков висело. Я хотел похвалить, но было совсем удивительно — хвалить Алевтину, и я промолчал. Положил «Муму» на стол и сказал: «Поздравляю». Остальное, чему мама научила, я так и не сказал, потому что в этот момент Алевтина поняла, что это я пришел поздравить ее с днем рождения, и испугалась, и я сам чего-то испугался.
Тут вошла Алевтинина мать, принесла нам тортик и две чашки чая. Я побыстрее съел свой кусок и ушел, потому что Алевтина молчала и я говорить не мог.
Никто из наших не поверил, что Алевтина хорошо рисует. Для них Алевтина была ничто, как будто ее и не было.
— Алевтина-дурочка, — сказала Верка так, как мы говорили «Любка-дурочка». — Нашел с кем связываться.
— Ты, Лешка, может, с ней и дружить будешь? — подвякнула Крыса, она никогда ничего своего не говорила.
Я хотел заступиться за Алевтину, но понял, что тогда перестану быть своим, потому что начало уже положено. А переспорить Верку было невозможно — она говорила правильно и спокойно, даже самую настоящую чушь. Чувствую, что чушь, а доказать не могу — тогда я кричал и обзывал Верку Мухой, а та улыбалась.
На этот раз я не стал кричать, а ушел.
Один раз я видел, как Алевтина плакала — это когда она прочитала «Муму» и принесла ее назад. Я сначала обиделся, потому что мама говорила, что отказываться от подарков некрасиво, даже если они тебе не нравятся.
Алевтина положила книжку на подоконник и сказала:
— Лучше пусть она у тебя лежит. Если я захочу, я приду и почитаю.
— Да пусть лежит! — Я не стал обижаться вслух.
И тут Алевтина заплакала — не голосом, а одними слезами. Я отвернулся и не стал ее расспрашивать, потому что было бы еще хуже — люди должны сначала выплакаться, а потом и сами все расскажут, без расспросов. Но Алевтина плакала так долго, что не заметить стало совсем неудобно:
— Алевтина, ты что?
— Зачем, зачем он ее? Он что, уйти не мог вместе с ней?! Так же нельзя: если любишь — и топить! — Алевтина просто захлебывалась в слезах.
Тут я понял, что это Герасим не должен был топить Муму — угождать капризам старой барыни. Мне самому было жалко собачонку, когда я в первый раз читал, но я так не ревел. А потом мы еще в школе наизусть почти учили «Муму» и читали по ролям: мне досталось за автора, а Пончик скулил и гавкал потихоньку, будто играл Муму — все смеялись, а Людмила Константиновна обозвала нас дураками.
Алевтина же вообще всякую живность любила — у них в доме всегда жили кошки: одна пропадет, другую заводят. Один раз она нашла мертвого воробья и грела его — думала, оживет.
И я стал успокаивать Алевтину, что это все писатель выдумал; а он мог написать, например, что Герасим выгнал барыню, а сам стал с Муму жить в хоромах. Сказал и рассмеялся, а Алевтина сказала:
— Герасим — предатель.
И все же она успокоилась, потому что я еще наврал, что напишу писателю письмо и он переделает конец.
Алевтина всему верила, что ни сочини, поэтому подшутить над ней ничего не стоило.
Зимой играем в хоккей, мороз страшный, а Алевтина висит на барьерчике, смотрит за нами до самого конца. Пончик взял и сказал ей, что у булочной дают апельсины — так просто, кто захочет, тот и берет. Алевтина слезла с барьерчика и пошла к булочной, пообещала принести сколько сможет. Ну откуда она увидела у нас апельсины, да еще чтоб бесплатно? Просто ей, наверное, очень хотелось, чтобы и правда в такой мороз прямо на улице всем раздавали апельсины. Мне кажется, она бы их и принесла, если бы я ее не остановил.
Может, Верка была права, когда так Алевтину обозвала? В ней много чудного было. Вот еще: одна она из всего двора могла разговаривать с Любкой-дурочкой. И Любка признавала одну Алевтину.
Любка была то ли старая тетка, то ли девица, но, сколько я ее помнил, она все ходила с одинаковым лицом и в гольфах, не росла и не уменьшалась. Плохого она никому ничего не делала, но мы ее боялись и никогда около ее стула не играли. А Алевтина часто сидела на своей скамеечке рядом с ней, и они были как две одинаковые дурочки, только одна большая, а другая маленькая. Они обычно вместе молчали, но иногда говорили, и мне было страшно интересно, о чем они могут говорить. Один раз я подкрался к ним сзади и немножко послушал.
— Сегодня хоронили, гроб выносили, — сказала Любка; я посмотрел на ее стеклянное лицо и вздрогнул.
— Страшно, когда хоронят, — ответила Алевтина, и ее лицо было похоже на Любкино.
— Я хотела посмотреть, меня мама не пустила, — сказала Любка, и меня потрясло, что у нее тоже есть мама.
— Мою бабушку хоронили когда, я тоже была. Бабушка все время больная была и плакала, а там лежала как здоровая, — тихо сказала Алевтина.
Я вспомнил, что ее бабушку хоронили сто лет назад, когда мы только приехали в этот дом. Алевтина, наверное, тогда только родилась, а оказывается, она все помнит.
— Покойники все спокойные. — И Любка заморгала глазами быстро-быстро, она так часто делала.
Мне вдруг стало страшно, я уполз назад в кусты, встал и побежал к подъезду, потому что уже темнело.
Весной, когда тепло было дурачиться на улице, мы к Верке уже не ходили. Девчонки сшибали ноги своими прыгалками, мы играли в футбол, а иногда с утра все вместе шли на Поле.
Наш дом стоял на самой окраине, и дальше начинались железнодорожные пути, шоссейки, канавы и другая всячина. И когда все это кончалось, начиналось Поле.
В Поле были долгий извилистый ручей, несколько глубоких оврагов, черемуховые посадки, заросли старой малины, длинный лес, а в нем — железная дорога. Пончик говорил, что эта дорога ведет прямо на юг, и мы любили сидеть на пригорке и махать рукой проходящим поездам, потому что из нас на юге побывала только Верка, а нам всем тоже очень хотелось, и даже просто помахать рукой южному поезду было приятно.
Алевтина была на Поле совершенно бесполезным человеком — с ней в догонялки не поиграешь, не поныряешь, она даже за черемухой залезть не могла. Мы брали ее сторожить одежду, когда купаемся; или про коров говорить, если вдали покажутся; или мячик принести, если он укатился далеко: она побежит за ним, а обратно ногой катит.
Один раз я собрался на Поле, но идти было не с кем — Верка опять уехала с родителями на юг, Пончик со своими на даче копался, а с Крысой я бы ни за что на свете вдвоем не пошел, потому что все говорили, что она меня любит. И мы пошли вдвоем с Алевтиной.
Мне в Алевтине нравилось, что она никогда не ныла — маленькая такая, уж нашла бы причину. А на Поле пешком идти надо было целый час, а то и больше. Обычно мы несколько раз присаживались, бегали пить к деревенским колонкам, на полпути раздевались и брызгались из ручья. А тут с Алевтиной дошли так хорошо, ни разу не остановились, только она один раз притормозила, когда через мост переходили: села на корточки и посмотрела вниз.
Я окунулся, но одному скучно плавать — и вылез. Алевтина сидела на бугорке около моей рубашки и разглядывала что-то на своем подоле. Я плюхнулся рядом на живот и увидел здоровенного кузнеца. Он сидел на ее подоле, как на травинке, ни о чем не беспокоился. Я взял его двумя пальцами и рассмотрел. У кузнеца были такие большие глаза, что в них можно было смотреться, как в зеркало или как в солнечные очки — я видел свою голову, только маленькую, а сзади небо — такое же, как на самом деле. Я повертел кузнеца в пальцах и оторвал у него одну ногу. Мы так часто делали, и я заранее знал, что без ноги кузнецы не скачут, а валятся на бок, как пьяные. Но этот был уж слишком здоровым, и я засомневался: а вдруг сможет? Алевтина не видела, как я отрывал, а увидела уже одноногого.
— Он же умрет теперь, — сказала Алевтина о кузнеце так, словно это был человек. — Его теперь кто-нибудь раздавит или птица съест.
Если бы она сказала, что у кузнеца, наверное, есть семья и что его ждут голодные дети, я бы начал хохотать, потому что точно знал, что кузнецы семьями не живут. Но Алевтина сказала другое, и я понял, что так и будет — его раздавят или склюют, и все из-за меня. Я положил кузнечика в карман, чтобы дать ему жить в цветочном горшке.
...Вернулись мы к вечеру. Я схватил кусок колбасы, погрыз и вышел на нашу скамейку. У Пончика балкон был закрыт, значит, еще не приехали.
— А-лев-ти-на! — крикнул я на весь двор. — Вы-хо-ди!
Пришла Алевтина, а за ней следом Ленка. Крыса села и уставилась на меня, будто я слепой.
Потом подъехал «Запорожец», из него вылезли Игорьковы родители; они у него такие толстющие, что если едут куда всей семьей, еле вмещаются. Пончик вылез последним и только хотел дернуть к нам, как мать схватила его за руку и заставила выгружать из багажника яблоки. Мы поняли, что Пончика сегодня нам уже не дождаться, подошли к машине и тоже стали выгружать яблоки, а мать с отцом таскали их в подвал. Мы все выгрузили вмиг, и мамаша Мартунян дала нам за это по яблоку.
Мы если на скамейку и стали щупать, как Пончик загорел; он и правда весь горел огнем — целый день на солнце возился.
— Они у тебя эксплататоры, — сказала Ленка про старших Мартунянов.
— Эксплуататоры, — поправила ее Алевтина. Ленка дернула плечом и даже не посмотрела на нее.
Я нашел на земле маленький камушек и предложил:
— Давайте играть в колечко.
— Давайте! — закричали Крыса и Пончик, потому что мы уже давно не играли в колечко, и протянули мне вместе сложенные ладони.
Алевтина тоже протянула, и я незаметно оставил камушек в ее ладонях.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





