ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
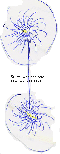
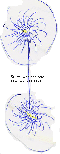
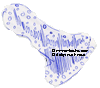
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кузнецова Алла
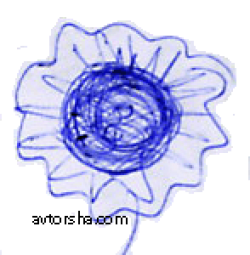
Скоро
сказка сказывается
I
Марьюшке приснился сон, будто ей в глаз попала соринка. «Надо позвать бабушку, чтоб вытащила», - подумала она и побежала к реке, куда ушла бабушка.
Внизу под горой стояла мельница. Вода, с грохотом обрушиваясь в кипящий омут и поднимая стеклянную пыль, быстро катилась через плотину. Внизу под зеленой вербой дрожал и дышал большой ком пены. Там, наклонясь к реке, бабушка полоскала белье.
— Ба-а-аба! — снова крикнула Марьюшка и побежала с горы, но вдруг что-то легко и сильно, отчего захватило дух, подняло ее над землей, высоко и стремительно понесло над золотыми полями, красным лесом и чистой синей водой, сквозь которую ясно сверкал и играл каждый камушек. А соринка все мешала и слабо покалывала в глазу. Было не больно, а досадно, что теперь вот так и придется с ней жить...
— Ба-баа! — опять вскрикнула Марьюшка, вздрогнула и проснулась.
Бабушка спала рядом, и низкая, осыпающая белый огонь звезда ласково сияла в окне. На стене шевелилась черная волшебная тень дерева и слышался отдаленный глухой гул воды.
«Мельница шумит!» — догадалась Марьюшка. Ей вдруг захотелось спросить, почему мельницу слышно только ночью, но она вспомнила, что завтра они с бабушкой собираются пойти за травой к Старым воротам на дальнюю лесную пустошь и надо рано вставать.
Тут Марьюшке привиделся большой дремучий лес. Среди деревьев, похожих на те, которые намерзают зимой на окнах, сказочно и тихо. Перед ними стоят и гниют в болоте старые ворота, черный мох нарос на перекладинах и сквозь щели видно, как в лесу наклонно и медленно течет желтый закатный свет... Марьюшка открыла глаза и стала думать. Хорошо жить! Вон и звездочка пришла в гости. Она, наверное, ночью вылетает из той темной чащи, а днем, чтобы не растаять, лежит под кустом. А почему звезда сверкает так ярко? Может быть, у нее в груди, как у кошки Заслонки, тоже прячется боязливый огонек? Когда Заслонку начинаешь гладить ночью, под рукой трещат и испуганно прыгают мелкие бледные искорки. Бабушка говорит, что это зажигается потайная кошачья кость.
...В
алом тумане блестел над травой узкий
молодой месяц. Под окном сонно кланялась
конопля, скрипел за рекой коростель, и
все также далеко и глухо шумела вода на
мельнице. Иногда слышалось, как там
кто-то хорошо и печально играет на
балалайке.
II
Утром громко воркуют голуби. В горнице от солнечного света весело и празднично, ветер с улицы доносит запахи тополя, речного ила и луговых цветов. На кухне бабушка вынимает из печи хлеб, счастливо ахая, сбрызгивает его водой и накрывает полотенцем.
Мать только что пришла с фермы, и бабушка громко рассказывает ей деревенские новости.
— Седни Палашка Мокеева наглядела, как к Сусанне в подсолнухи головешка с неба пала. Летела, говорит, из-за Ржавешного мостка, низко-низко, над самым черемошником. Летит, шипит, а искры-то так и летят во все стороны! И вдруг прямо в Сусаннин огород бахнулась. Не иначе, как ей змей опять масло носит. Ведь опять недавно она на базаре лагушку масла продала и подшалок черный с наугольником купила. Да к дочере в Тюмень ездила. А в Тюмени-то нонче Лидия Русланова поет. Обое с мужем на гастроль приехали. Он на кардеоне играет, а она пляшет да поет. Вот те и Сусання! Масло продала и Лидию Русланову высмотрела! А все клокчет, что здоровья нету.
— Не к добру, знать, все лето в шубе ходит,— отзывается мать.
— Потому что в запазухе петушиное яичко носит, крылатого змея парит, — говорит бабушка.— Опять же Палашка сказывала, что как-то, мол, прибежала она к Сусанне за ситом после захода солнца, а он сидит у ей на шестке. Глаза сверькают, и рот кра-а-ас-ныч! Увидал Палашку-то и — шмыльк в трубу! Я, говорит Палашка-то, выскочила на улицу, а он над крышей кружится и от хвоста огненные комки летят.
Марьюшка быстро спрыгивает с кровати и бежит на кухню — интересно, что еще там поведают о жутком небесном змее, который таскает Сусанне по ночам масло из-за Ржавешного мостка?
— Манюшка! — радостно встречает ее бабушка.— Беги умывайся, да будем завтракать, а потом в лес с тобой пойдем. Дорога-то до-олгая, да вот как бы гроза не накатилась...
— Баба, а кто такой змей? — спрашивает Марьюшка.
— Какой змей?
— Который к Сусанне летает.
— А это животная такая, нечистая сила,— объясняет бабушка.— Петух живет три года, а потом яичко сносит. Это яичко в запазуху кладут и все лето змея парят...
— Не змей, а звездочка! — перебивает мать и моргает бабушке.— Звездочка такая есть, с неба падает. Беги, Маня, в огород, кричи дедушку, чтоб чай шел пить.
Марьюшка выскакивает во двор. Ласточка черной молнией мелькает над ее головой, петух взлетает на прясло, косится злым янтарным глазом и трясет гребнем.
— Кыш! — машет рукой Марьюшка.— Кыш! Поди, змея снес, нечистый?
Дедушка в белой полотняной рубахе, развевая легкие седые волосы, косит на огородной лужайке траву. Шмели и мухи, соткавшись в один сияющий и дрожащий узор, гудят в утреннем воздухе. Лиловым цветом пылит картошка, голубые капустные гряды увешаны стеклянными огнями, а рядом, затмив черного урода, беспомощного, скособоченного, свесившего пустые рукава бабьего платья и с горшком на голове, ярко расходится бархатный маковый пожар.
— Дедушка! — кричит Марьюшка.— Дедушка!
Дедушка оборачивается, вытирает подолом рубахи мокрый большой лоб и ласково улыбается.
— Есть
пошли-и! — зовет Марьюшка и, увязая в
картофельных кустах, бежит по тропинке.
Величаво покачивают свои короны
подсолнухи, на кольях, сбившись в кучи,
вьется хмель.
III
Позавтракав, бабушка завязывает в чистую тряпицу хлеб и бутылку с квасом. Пес Жулик, почуяв дорогу и полную свою свободу, катается в ногах, метет кудлатым хвостом.
Солнце уже поднялось высоко. У дороги в дымных тяжких серьгах склонилась полынь, траурно поник бордовый татарник, а вон далеко на большаке брызнул пыльный фонтан и понесся сюда, стремительно подхватил и поднял ввысь сор, ветку сухого бурьяна, шумно и порывисто всколыхнул на болоте камыш.
— Баба, это чертик бежит? — испуганно оглянувшись на вихрь, спрашивает Марьюшка.
— Не-ет! Это ветерок играет.
— А откуда он взялся?
— Ветерок-от? Да из воздуха. Откуда ишо?
Дорога идет высоким и сумрачным березовым лесом. Страшно чернеет обожженный молнией ствол старого кряжистого дерева. «Пташт-птап-пташта-пта-та»,— бредит боязливая осина, и где-то в логу кукует кукушка.
— Баба, а почему осинка всегда шумит? — опять спрашивает Марьюшка.
— Осинка-то? У нее листочки ребрышком растут, вот они и не стоят на месте. Все поворачиваются туды-сюды, туды-сюды,— прислушиваясь к тоскующему кукованью, рассеянно отвечает бабушка.— А ведь Петровки скоро, совсем мало тебе горевать-то осталось, скоро ячменным зерном подавишься.
— Кто, баба, зерном подавится?
— Кукушка-то, говорю, последние дни кукует. Вишь ты, хлеб-то уж в колос тронулся, зерно завелось. Ты, Маня, не пристала?
— Не, — Марьюшка вздыхает и говорит: — Так она с голоду потом и помрет.
— Пошто помрет-то? — смеется бабушка.— Это приметка такая. С Петрова дня зарницы играть начинают— хлеба зорят. А кукушка червяков ест. Видела таких мохнатых гусельниц, они ишо на нашу Заслонку похожи? Вот кукушка их и клюет.
Марьюшка много раз наблюдала, как по лопуху, лениво перекатывая цветные волнистые меха, ползет гусеница. Как осторожно нащупывает она свой путь и с опаской поднимает драконью голову, словно принюхивается и приглядывается — не съест ли ее кто в окружающем мире?
В прошлом году кто-то начал жадно истреблять у бабушки капустную рассаду. Бабушка каждый день искала вора — то сидела в горохе и с батогом в руках ждала нашествия соседских цыплят, то бегала за воробьями и сгоняла их с тына, то поливала рассаду с распятия и, помолившись, плевала на нее через левое плечо... Ничто не спасало капусту от съедения! Однажды вечером Марьюшка побежала в огород и увидела на рассаде мохнатого угольно-черного червяка. Припаявшись к обглоданному стебельку и не догадываясь о нависшей угрозе над ее жизнью, гусеница спокойно поглощала свой ужин.
— Баба! — радостно оповестила Марьюшка.— Я вора поймала!
Бабушка схватила палку и ворвалась в огород.
— Где он, сатана этакий?
— Во-от, баба!— восторженно прошептала Марьюшка и показала на червя.
— Где? — растерялась бабушка, но, тотчас заметив вредителя, возликовала.—Ага, попался! Ах ты, сучья морда! Варнак! Целый день в крапиве дрыхнешь, а к ночи ползешь капусту у меня жрать!
И, ткнув гусеницу палкой, бабушка со счастливым злорадством вмазала ее в землю.
Впереди посветлело, и среди пестрого разнотравья Марьюшка увидела поленницы, пни, кучи хвороста.
— Ну, вот мы и пришли,—сказала бабушка.
Марьюшка огляделась по сторонам и разочарованно спросила:
— А где старые ворота?
— Вот они.
— Где?
— Тута.
Бабушка села на пень, поправила платок и принялась отдирать от чулка колючую былинку.
— Это, Маня, место так называется — Старыми воротами. Да-авно тута жил один человек, пришлый откудова-то. Говорят, из Расеи был. Дом поставил, скотину держал, коров да лошадей. Охо-хо, согрешила я грешная!
Бабушка огляделась тоже, вздохнула.
— Ишь ты, лес-от как выпластали! Трава-то на свету и кинулась в рост. Косить пора! Надо Анне говорить, чтоб отпрашивалась на ферме, Петровки скоро. Охо-хо-о-о!
— Ну, а потом? —спросила Марьюшка, тревожно поглядывая вокруг — дико и жутковато было на этой поляне, все казалось, что кто-то прячется и прыгает в высокой траве, горласто верещит в близкой чаше.
— Не бойся,— заметила ее беспокойство бабушка.— Это ястребок молодой кричит. Радостно ему, вот он и кричит. Зверей тута нет, разве заяц выскочит.
— Дак вот,— продолжила она.— Жил этот человек, жена была у него, робята. Может, жил бы и сейчас, только в один день приехал к нему цыган коня менять и приглянулась тому цыгану кобыла. Вороная была, сытая — злей воды! Смотришь, идет под седлом, как пляшет! Я хорошо помню, махонькой, вот как ты, была, а помню. Все ездил он на той лошадке в Голышманку, в лавке у купца Пряхина кышмыш брал мешками, сатинет да канифас. Ну, начал цыган просить, отдай, мол, да отдай кобылу! Известное дело — цыганы! Прильнут к человеку, дак хуже липучки. Ежели не дашь, дак украдут. Носит их лешак по свету, робить-то неохота, вот и льнут к людям. Вот и тута холера его привела. Отдашь, мол, кобылу, я тебе взамен жеребца отдам, в бабках тонкой и виноходью ходит. А сам, небось, лошадь-то свою сапожной мазью начистил, жеребец-то блестит, как хром. Да ишо, шопчет, такое тебе покажу, что богаче Гришки Пряхина станешь. Вот ведь какие они цыганы-то, наскрозь человека просмотрят. Тута и чуда-то нет никакого, просто на людях они всегда, а люди-то, Манюшка, хоть и разные, а все равно в главных своих интересах все одинаково сходятся. У всех одно на уме — любовь да богатство. «А чо ты мне покажешь-то?» — спрашивает Микодим. Вишь ты, спомнила имя-то! На днях с кумой Дарьей все имена перебрали, а спомнить не могли, как того богатея-то звали. А сейчас спомнила! Микодимом звали-то. «А вот,— повел его цыган за собой и ногой топнул.— Копай здесь! Клад тута зарыт. Ежели обманываю, чтоб глаза мои лопнули. Отдай вороную кобылу!» Тот возьми да отдай. Отмяк, вишь ты, Микодим-то, как только про клад ему сказали. Взял в ту же ночь лопатку и давай рыть. Покопал, покопал, правда, на чо-то твердое наткнулся. Стукнул лопаткой— железо! Давай глубже рыть, руками стал землю-то грести. Греб-греб, и вдруг будто холодом на него понесло. Неловко стало на душе-то, оглянулся, а за ним старичок на пеньке сидит. Волосом-то такой беленький, сморщенный, на костылек руки положил и следит за ним. «Чо же ты, говорит, робишь-то? Зачем тебе это богатство запонадобилось? Брось, беги с богом! Это беда твоя, а не клад». Микодиму бы подумать над советом и смекнуть — откудова старичок-то взялся здесь в ночное время? А он ослеп от жадности, ногами затопал, заорал: «Кто такой? Чо следишь за мной? Али тоже на богатство позарился? Делить его со мной собрался!» Ну, старичок стал с места — будто его и не было. Только слышно, как ветер один шумит в лесу. Микодим постоял, послушал и опять за лопату взялся. Выкопал чугун, начал ташшить его из земли, да крышку-то немного сдвинул. Тута ка-а-ак полыхнет ему в глаза жаром, и ослепило его! Зажегся он весь и так в огне домой прибежал. Кинулась баба его водой заливать — не берет вода. Стала простоквашей обливать — и простокваша загасить не может. А он горит, по двору бегает, постройки уж все огнем взялись. Все трешшит, падает. Так и сгорел он вместе со своим хозяйством, а баба нишшухой ходила, милостыню просила и божественное пела под окнами. Робята разъехались, а от дома одни ворота всего лишь и остались. Долго стояли. Потом уж при колхозах плужники на дрова свалили. Пахали здесь, у Журавлиного колка, снег уж пал, они и грелись этими воротами-то. Да ты, Маня, не пужайся. Это давно было, теперь уж сказкой стало. Счас никаких кладов и в помине нету. Ране сберкасс-то не было, вот и хранили деньги в земле. А нонешний народ грамотный, какой лишний рубль заведется, скорей на книжку его ташшат, кладут. ...Ну вот, нарвем травки, она счас в самом цвету. И будем жить-поживать! Я, Манюшка, всю жизнь травкой лечусь. Как тятя меня в няньки к Пряхиным отдал, у них Граня Тутохина жила, дак она мне присоветовала травкой-то лечиться. Хорошая была старушка, царство ей небесное! Феня Горушкина в Слепенине продавцом в промтоварном магазине робит, дак ее матере, Домне Фадеевне, она кость на ноге сростила. На свадьбах барыню плясала Домна-то! Вот ведь какая была лекарка! Ба-атюшки, Манька, ягод-то сколь!
У толстого пня среди курослепа жарко краснела земляника. И, сразу помолодев, забыв об усталости и летнем зное, бабушка быстро поднялась, заохала, начала жадно обирать ягоды в ладонь.
— А я, старая кочерьга, и посудины не взяла с собой. Думаю, нет ишо ягод-то. Манюшка, давай-ко квас-от пить скорее, бутылку-то надо опрастывать. В ее земляники-то и наберем.
Марьюшке пить не хочется, но она все-таки берет бутылку и делает два больших глотка. От пенного кваса першит в горле, сладко обжигает язык, и кожа на руках покрывается пупырышками. Бабушка допивает остаток, крякает, отирает рот концом платка и осторожно, чтобы не раздавить ягоды, сталкивает их в бутылку.
— А как доставать будем? — спрашивает Марьюшка.
— По дну постукаем, они сами выскочат,— отвечает бабушка.
Земляника прячется в горячей дурманной траве, особенно ее много возле валежника и муравейников. Ладони у Марьюшки мигом становятся липкими и алыми, она ползает по земле, разом успевая отгонять оводов и собирать ягоды.
Солнце палит. Смолкает в чаще крикливый ястребок, лишь слышится осиновый шорох и где-то в небе гудит пролетающий самолет. Бабушка выпрямляется, смотрит из-под руки вверх и солидно определяет:
— Трехмоторный. Из Тюмени в Омск полетел. Ишь, орет-то как! Все моторы работают — не лисапед летит.
До самого дальнего леса колышутся цветы, а глазах рябит от кашки и черноголовника, стреляет малиновым огнем иван-чай, и все кажется, что кто-то бесплотный крадется в траве, таясь, подглядывает из-за пней и поленниц, туманно взвивается по краю поляны. И вдруг на самом деле что-то поскакало, захохотало и тяжело заплескалось под ногами.
— Ба-а-ба! — не своим голосом кричит Марьюшка и с побелевшим от страха лицом бежит к бабушке.— Ба-а-аба!
— Чо ты! Чо ты, Христос с тобой! —испуганно бормочет бабушка.—Это тетерка с цыпушками. Вон она полетела, во-он! Ишь, раскудахталась! Это она нас обманывает, чтоб мы только на нее и смотрели и не видели, куда ее детушки спрятались. Они ягодки клевали, а ты их спужнула. Чо ты! Дрожишь-то как! Это курочка дикая. Ты чо, куриц не видела?
— Да-а,— плаксиво жалуется Марьюшка.— Она прямо мне в лицо порхнула...
— Ну и чо?.. Она сама тебя испужалась, с испугу и порхнула.
Бестолковый радостный Жулик проскакивает в траве, визгливо лает, разгоняет тетеревят и горделиво оглядывается на бабушку — смотри, каков я!
— Дурачок ты,— ласково ругает его бабушка.— Побрякушка. Чо скачешь-то, как козел? Ловить надо, а не лаять. Где был-то? Мокрый весь, уже где-то нашел себе море-окиян, утаскался в грязи.
Вот уж и бутылка наполнена земляникой, и так счастливо смотреть на нее, так не хочется расставаться с ее красотой. Пока бабушка собирает траву на поляне, Марьюшка продолжает искать ягоды, пальцем вдавливает их в хлебный мякиш и все оглядывается на бутылку, поставленную на поленницу,— вот так бы оставить и уйти, а потом вернуться и взять!
— Охо-хо! И куды только годы-то ушли? — подходит с медовыми цветами бабушка, садится возле поленницы, разговаривает сама с собой.— Походила немного, а вся наскрозь разбита. Ноги-то мои не терпят долгой ходьбы. Стариться-то как неохота. А куды денешься? И состаришься, и помрешь.
— А ты не помирай,— просит Марьюшка.
— Дак рада бы! Дак мы разве в силах не помирать-то?
Марьюшке
непонятны слова бабушки. Как так вдруг
она возьмет и помрет, положат ее в гроб
и снесут на кладбище... А кто же потом
так сильно, так преданно будет любить
Марьюшку, и кого в ответ также станет
любить она?
IV
Отдохнув, они собираются в обратный путь. Марьюшке вдруг становится жаль уходить с пустоши, жаль улетевшую тетерку, дальнее дымное мелькание, притихшего ястребка и сиротливо горестного ропота осин.
...Как тут будет потом, когда снова взойдет над тихим миром звезда, роняя в потемневшие омута свой белый лед, и от робкого месячного сияния в высоком лесу зажгутся сумеречно-пыльные свечи? И где теперь та звезда? Спит под кустом? Но как найти ее, если она днем похожа на черный уголек?
— Баба, а мне во сне звездочка в глаз попала,— говорит Марьюшка.— А потом река снилась и песочек под водой...
— Вода — это хорошо,— отвечает бабушка. —Вода — это воля, хорошая, счастливая дорога. Матушкой-водой мы все благословлены к жизни на свете.
На выходе из леса они встречают тетку Матрену. Та сидит под березой, прислонив к стволу косу, отгоняет веткой комаров и ждет их.
— Гляжу, чисто Орина Ивановна с внучкой катят,— начинает издали Матрена.— По ягоды, поди-ко, ползали?
— А ты, поди-ко, косишь? — спрашивает бабушка.
— Кого там! Траву ходила смотреть да литовку пробовала. А надо уж начинать косить. Кого ждать-то? Некого! Дожжы пойдут, тожно ульешься, плачем с сеном-то.
— Вроде вёдро стоит. Не обешшает дожжей радиво-то? Здорово, Матрена Сергеевна!
— Драстуй, Орина Ивановна! — Матрена подвигается на земле, худым пальцем манит к себе Марьюшку.
— Ну-ко, иди ко мне, стрекоза! Что-то дам тебе! Ну-ко!
И, покопавшись в переднике, вытаскивает смятый букетик земляники.
— Сымай пробу-то! Новая новинка — старая брюшинка.
— Вона чо! Удивила,— восклицает бабушка и показывает Матрене бутылку с ягодами.— Смотри, сколь у меня внучка-то сама набрала!
— У-умница! — хвалит Марьюшку Матрена.— Сноха моя будешь. Вот Васька вырастет... Пойдешь за Ваську-то взамуж?
Голопупый сопливый Васька давно уже стал ненавистен Марьюшке, и ненавидит она его за то, что вредная баба Матрена постоянно зовет их женихом и невестой.
— Твой Васька сопляк! — сердится Марьюшка и отстраняется от Матрены подальше.
— Ничо-о!! — хохочет Матрена.— Вырастет, выправится, в армию сходит. Ишо как бегать-то за им будешь!
— Вот и бегай сама!
— Ха-ха-ха! Это ты щас говоришь, а потом побе-жи-ишь!.. Я ему шаровары новые сшила, хорошие шаровары с пуговкой на брюхе, ходит шебуршит ими — любо послушать!
— Вот и слушай! — еще больше сердится Марьюшка.— А мне он не нужен. У него и губы кислые!
— Ай да Манька! Ай да сноха! — веселится Матрена.— Боевая моя сноха-то, Орина Ивановна. Не девка, а царь-императол! Не прокиснут губы-то, не проки-и-иснут! Не дадут девки прокиснуть губам-то! А ты, Манька, наверно, взамуж-то не пойдешь? Наверно летчицей станешь! Бона, атаман какой...
— Я художником буду! — заявляет Марьюшка.
— Худо-о-ожником?..
— Отстань ты от робенка, холера тебя задави! — вступается за Марьюшку бабушка.—Вырасти ишо Ваську-то! У тебя, окромя его, ишо шестеро женихов. Травы-то ноне, гли-ко, какие стоят.
— Хорошие травы,— соглашается Матрена.— Если непогодь не помешает, наставим сенов. Ну чо, пойдем! Чо сидеть-то?
Матрена подвязывает чулки, берет косу и деревянно, словно на ходулях, ковыляет на больных, проступивших буграми и толстыми жилами, ногах.
— Целый день иду домой-от, Орина Ивановна,— стонет она.— А ползала-то всего лишь к Сенюшкину болоту. Подь ты к чомору, не человек, а пропастина. Только и осталось, что посолить да выбросить.
Начинается разговор о сенокосе, о погоде. Марьюшка устала, ей скучно идти пустой еланью по комковатой дороге, слушать жалобный плач чибисов и гонять жидкой березой комаров, тьмой скопившихся в душной предгрозовой синеве. В горячем воздухе отдаленно текут прясла и телеграфные столбы. Вот и знакомая росстань, от которой одна дорога сворачивает в переулок и уводит домой мимо пчельника и черемухи в огороде Аркаши-горбатого. Он и сейчас опять шныряет между ульями, макает в ведро с водой веник и машет им по воздуху.
Вправо от росстани будет дорога в Глухарево, куда однажды в такой же знойный летний день в казачьей форме прискакал дедушка и украл бабушку, бросив сводне-крестной в подарок голубой с набивной травкой платок и ржаной пряник. На прянике медовыми разводами была напечатана царская семья, и как-то, приковыляв в гости к бабушке, облысевшая и дряблая от старости, но не утратившая прежней радости жизни, умеющая с толком, как и в прежние годы, поесть и попить, веселая крестная баба Таля рассказывала:
— Схватила я тогды пряник-от и оммерла. Ба-атюшки, до чо докатилась — царя Миколая с царицей и дитями испекли! С какой, думаю, стороны-то мне теперь кусать его? Ежели начну наследников исть, царю-батюшке донести могут и попрут меня тогды на Сахалин за людоевство. А ежели отъем матушку-царицу Александру Федоровну, то семью осиротить могу. А мед-от на прянике уж таять начал, поплыл. Делать нечево. Спряталась я в горох и думаю, с царя начну! Съела и испужалась — что ж я натворила, ведь Расея-то теперь у нас без хозяина осталась! А потом смешно стало. Какой же ты, думаю, хозяин, ежели кажин тебя на чо попало срисовать может?
Ворованная
бабушка легко прижилась в чужой деревне,
но о Глухарево с его ветряками и ольхой
на косогорах вспоминала часто, много
рассказывала и за любой работой — полола
ли гряды, пряла лен или сидела за кроснами,
напевала одну и ту же утешительную
частушку:
Кузнецова на бугре,
надоела она мне.
Глухарева-то в логу —
наглядеться
не могу!
Но
Марьюшка не понимала, как может надоесть
ее деревня с тенистыми черемошниками
у воды, мельницей и ясным месяцем,
обронившим багряную нить до самого
материнского дома, а если посмотреть
из-за реки, с Репейных горок, откуда
видны и большак, и игрушечный элеватор
в районном центре, да и само Глухарево
кажется таким маленьким, что его можно
собрать по домику и сложить в спичечный
коробок.
А дорога налево шла в большое село Голышманово...
Большак,
возле которого росла Марьюшка, был велик
и страшен. Дедушка часто вспоминал:
— Бывало, зимой встанешь до свету, мороз клящий, птица на лету падает, а их уж гонят... Далеко слыхать по морозу, как кандалы звенят. Стоишь, слушаешь и не знаешь, куда девать себя. И забыть не забудешь, и помнить неохота. Матушка-Сибирь, кто только по тебе не хаживал!
На
большаке было ветрено, от простора его
веяло пустынной, дикой и безысходной
тоской. Здесь всегда уныло гудели
телеграфные столбы и шумела по обочинам
осока.
V
От полдневной жары, кажется, все живущее на свете погрузилось в тяжелую и долгую дрему. Жулик по пути лакнул речной воды и, шлепая грязными мокрыми лапами и волоча язык, сразу же исчез в дыре под крыльцом. В палисаднике роются куры, свинья свалилась в вязкую сизую грязь посреди дороги. Лишь одни ласточки без устали вьются в проеме хлева и шьют свой стреловидный черный узор.
Дедушка, накрыв лицо вязаной скатеркой, спит на лежанке. По оконным стеклам ползают слепни, мухи жирно облепили кусок творожной шаньги.
— Ах ты, холера тебя задави, неохота тебе было убрать хлеб-от! — ругается бабушка.— Развалился, как енерал какой! Мух напустил полон дом, пауты налетели. Неохота тебе было ставни-то закрыть! Садинки повяли, испеклись на жаре. Анна-то где? На ферме, чо ли?
— Кого? — сонно спрашивает дедушка.
— Анна-то на ферме, чо ли? — кричит бабушка.— Пестерюха глухая!
— На быке по траву уехала. Корова там у ее седни отелилась...
— А тебя бы, наверно, изломало, если бы шаньгу-то со стола убрал? Мухоты сколь в избу-то нагнал. Только вчера все углы мухомором обрызгала, а седни спять страму полно. Манька, беги за луком, окрошку делать буду. Ху ты, жарынь! Спасеньица нету!
Марьюшка снова пробирается по глухой, горячо исходящей дымным цветом картошке и, боязливо поглядывая на одноногое полоротое огородное пугало, рвет лук. Быстро и призрачно трепещет дальная молния, гремит гром. Неслышно взрывается над колхозными амбарами голубиная стая, а за рекой и согрой возникает торопливый глухой шум поезда. Протяжно гудит тепловоз, словно неизвестный трубач сказал о своем далеком шествии и ушел мимо деревни, мимо Марьюшкиного дома, ушел и простился перед скитанием по земному простору...
После обеда бабушка укладывает Марьюшку в маленькой горенке, занавешивает окно темной шалью и заботливо бормочет:
— Поспи немного, Маня. Эвона куды сходили-то с тобой... Я тоже полежу немножко, вот только мухо-ту выгоню. Скоро на покос поедем! Будешь копны-то топтать?
— Бу-уду...— шепчет Марьюшка и, засыпая, снова видит знакомую пустошь, землянику в траве, весело прыгающего Жулика.
...Пробуждается она от негромкого вкрадчивого говора. Шаль упала с окна, и сквозь вязаную шторку светится золотое вечернее небо. В глубине зеркала тает угрюмый червонный огонь, слышно, как в согре кричат журавли и позвякивает жестяное ботало на шее лошади.
—...есть такая трава, кровяной шишкой цветет, и стебель у ее гранатный крепкий. Без привычки-то и не сломишь, а только сжулькаешь,— тихо рассказывает бабушка.— Како ей названье, не знаю. Корень копают в сентябре, в ту пору, когда лист с берез начинает трогаться. Для чо, тоже не знаю. Но копала сама и домой приносила. А запах мне не пондравился — больницей пахнет. Вино настояла, тоже невкусно. Старик говорит, что за сердце шибко хватает. Травы этой у нас много растет. Листочки шершавые, а шишка колючая и, как у елочки, вся в лесенке. Цветок выскакивает мяконькой, запашистый. А старик спорит со мной, говорит, что нету никакого запаха. Ясное дело, курящий человек не сразу поймает запашок-то.
— Поди, Орина, шибко пользительный корень-от,— слышится в ответ, и Марьюшка узнает голос старухи Дарьи, бабушкиной кумы. Кума Дарья живет за рекой на бугре, у сказочного Индичишного лога, варит сладкое тягучее сусло из боярки и стряпает сдобные пряники с присыпкой из черемуховой крупы.
— Ежели копают, знамо дело, пользительный. А вот молоканы в Голышманке жили, дак сказывали, что нашей-то травы ишо корень-то не тот, он дале в Сибире растет. Это, мол, ваша трава жидкая, обман. А, вишь ты, сила все равно есть, не всяк и вино с ей выпьет.
— Охо-хо! Сила-то в кажной траве, поди, есть.
— Али вот потайница,— продолжает говорить бабушка.— Она вовсе без солнышка живет, в земле ползает и корни лесные сосет. Только и увидишь ее в апреле, когда ишо снег в ямах лежит. И то не кажному встретится. Хоть и кровопивца, а красивая! Цветок-от как раз из розового мяса слеплен. Наберет воздуха и опять притаится под землей до следующей весны. Дурной сон от человека отгоняет, от головного замутненья она. Отсосет темноту человечью и с ней в земле спит. В грачиннике ее много, под осинами.
— Ишь ты! Под чертовым деревом прячется! — вздыхает кума Дарья.— Не всякому даст и подступиться к себе. А егорьева копья ты седни не поискала? Вот лекарство-то!
— Дак ведь егорье-то копье нельзя искать, его нада врасплох увидеть, только тогда оно помогает. Хорошее лекарство! Как же — знаю! Первым делом при колотье в легких пьют, а когда пьют, страмных слов не говорят и плевать на землю тоже нельзя, иначе польза из тебя выйдет.
Марьюшка слышит, как на кухне шумит самовар, позванивает о стекло ложечка, видно, бабушка и кума Дарья пьют чай.
— Кажная травка на свой замок закрыта,— продолжает бабушка.— К одной идут со святым словом, к другой — со злобой. Глянь-ко, вербочки, васильки, богородская трава — растенья свяшшенные. Или ясен-трава. Не зря ее ясной прозвали. Растет кусточком, листики узкие, как у талинки. Цветет только на открытом месте, но цветком не особо приметна. Подойдешь ближе, спичку чиркнешь — пламя стоит. А ежели заденешь, то ожог по телу пойдет, будто железиной тебя прикалили. Воспламенение идет от нее, потому что особым паром как бы ограждает себя, берегет.
— Чу-удно!..
— А сколь, кума, лихих трав на свете! Напьется их человек и чернеть изнутри начинает, ссыхается да горит весь. Даже и трава такая растет — гориголова называется. Человек всегда ум теряет, ежели зависть его ест или тоска точит, а то полюбит кого, чо ишо хуже зависти и тоски, потому что тогда человек жаром исходит и сам себя не узнает... А разве нельзя покой-то найти? Выйди в поле, посмотри, как рожь шевелится, жар-то немного и схлынет, голова в рассудок войдет.
— А ведь много, кума и хорошей травы.
— Много. Касатик-от, поди, знаешь? Цветок его зевает и так хорошо пахнет. Он ведь когда цвести начинает, так все кажется, будто в лампе синий огонь горит. Как только купавки да ветренки распустились, так и касатик зацвел. Как раз в это время журавли танцуют, это у их игры свадебные идут. Пора веселая наступает, заря с зарей сходится, ночь с воробьиный скок, а день долгий-долгий...
— Дак это, поди, кукушкины слезки будут? — спрашивает Дарья.
Снова доносится чистый стеклянный звон, сквозь прозрачную кружевную сень яблонь-дичек медленно блекнет вечерняя позолота, и мутно-огненный костер совсем теряется в темноте зеркала.
— Не-е,— отвечает бабушка.—Касатик-от сам по себе...
— Цыля-а! Цы-ыля! — вдруг раздается за окном истошный крик.— Штоб ты сдохла! Куда почесала-то? Галька! Галька! Чо рот-от раскрыла, оглоблей ведь заедут! Корова-то на зады поперлась, в силосну яму падет... Не пушшай ее!
Трещит прясло, по лопухам шумно проносится что-то тяжелое, фыркает, топчется и ломится в палисадник.
— Цыля! — визжит другой девчоночий голос.
За окном со свистом лопается сухое дерево, видно, расторопная Галька лихо переломила о коровий хребет штакетину. И снова что-то задышало, дико потопало по крапиве и с хрустом толкнулось о прясло.
— Касейко! Касейко! — донесся дедушкин голос— Изломайте мне огород-то, изломайте, ястри вас! Кого вы ее тут крутите, гоните на зады, тама и заворотите.
Топот и голоса удаляются, и в наступившей тишине слышится из согры журавлиный крик.
— Кто это кого гоняет? — спрашивает бабушку кума Дарья.
— Касейко Куренок со своей Галькой корову загоняют,— отвечает бабушка.— С добра домой она у их не ходит, дак погоняй-ко вот этак кажин день, не только домой, в деревню-то откажешься заходить.
И, помолчав, побренчав в стакане ложечкой, бабушка продолжает:
— Кукушкины-то слезки — это башмачки будут. Разно их зовут. У нас в Глухаревой тапочками звали, а в Соломатиной лапотками. Смысл все равно един, хоть на ногу надевай.
— Это-то я знаю,— подхватывает кума Дарья.— В Индичихе растет. Я ноне вечером картошку огребала, дак и надышаться не могла! А это чо?
— Это-то? Лежебокий.
— А это? Да не это! А вона... Чо это?
— Это, что ли?
— Ага, это!
— Пьяница. Ее так прозвали за то, что сама прямо стоит, а голова завсегда с боку на бок шатается.
— Да уж! Так тебе и будет пьяница стоять прямо, то на один бок падет, то на другой. Пока домой идет, дак шея-то, как у подсолнуха, искрутится.
— Старинные люди дали имя. Ране, видать, так пили, что только голова качалась, а тулово завсегда стоймя ходило.
— А ты не знаешь, кума,— спрашивает Дарья,— есть такой цветок, нарядный, розовый, а внутри его все огонечки трясутся?
— Поскакун?
— Он самый.
— Поскакун, или душистый горошек. Во пшенице его седни наглядела. Не так, чтобы много, а по краю поля скачет, завивается.
— Послушай-ко, Орина,— таинственно, словно о чем-то сладостно-запретном и очень заманчивом, мечтательном, к чему испокон веков вожделенно стремится род людской, начинает говорить Дарья.— Ты цветок папоротника не встречала?
На кухне наступает тишина, лишь звенит в лугах боталом лошадь и снова шумит на мельнице вода.
— Дак ведь он не цветет, папоротник-то,— вдруг говорит бабушка.
— Да но?!
— Ей-богу, не цветет,— уже более уверенно продолжает бабушка.— Я с голышмановской учительницей Анной Алексеевной говорила, а она про траву-то на уроках учит, все знает, дак мне сама читала про папоротник и картинки в книжке показывала. Тама и семена, и корни обрисованы, а цветка нету.
— Во-он оно как! — вздыхает Дарья.
— Так все в книжке и прописано,— говорит бабушка.— Анна Алексеевна читала, она женщина грамотная, врать не станет...
— Нету цветка! — прерывает кума Дарья.—А кто видал, что нету? Раз не видели, то и говорить неча. Как это семена-то без цветка могут завестись? Вишь! Семена оказывает, а цветок прячет.
— А ведь и верно! — ахает бабушка.— Чо же я про это-то не спросила у Анны-то Алексеевны?
Марьюшка представляет лесную поляну на склоне Индичишного лога. Лунные бледно-зеленые лучи, расщепившись в лесных кронах и расходясь косыми туманными полосами, освещают весь лог, каждое деревцо в черном осиннике. Марьюшка идет в высокой росистой траве, сдвигает в сторону узорчатые листья папоротника и видит, как в лунных сумерках жарко светится желтый бутон. Она трогает его и видит, что цветок только что вылеплен из глины, вон и вмятины чьих-то пальцев остались на его необсохшем боку... Марьюшка оглядывается на береговой излом, под которым быстро сочится светлый ручеек. Вон и след босых ног виден, и крошечная ямка... Кто-то ходит и лепит по ночам цветы папоротника в удивительном и страшном от своих черных осин и непроглядной черемухи, где выталкиваемая наверх неведомой подземной силой зеркально пузырится родниковая вода, в Индичишном логу. Но кто? Когда Марьюшка вырастет и станет художником, она нарисует и потерявшуюся в верхушках леса луну, и того, кто, наклоняясь к ручью и чутко вздрагивая шерстистым скользким боком, ворует у ручья золотую глину, и дремучий папоротник, заливший своей чернотой весь склон лога... Ведь не зря нынешней зимой один проезжий человек, разглядывая Марьюшкины рисунки, которыми был облеплен в кухне весь передний угол, спрашивал бабушку:
— Кто это у вас так рисует, внучек или внучка?
— Внучка.
— В каком классе-то учится?
— Да ишо не учится. Нонче только в первый пойдет.
— Ай-яй-яй! До чего хорошо рисует! Только учить ее надо этому делу.
— Да где тут у нас учить-то? — тяжело вздохнула бабушка.
— В город отправьте.
— Да никого у нас в городе нет из своих-то, особо близких людей. И учить-то не на чо. Отец с нами не живет, мать дояркой робит.
— Учить надо! — вздохнул проезжий.
Человек
погрелся у печки-железянки, похвалил
добрых хозяев за чай и уехал дальше.
Только вечерняя вьюга полоскала за
окном свои мутные клочья и вилась, и
дико выла в трубе...
VI
После петрова дня собирались на сенокос. Бабушка встала до восхода солнца, пекла хлеб, варила яйца и пшеничную кашу на молоке. Потом с фермы пришла мать, и все сидели за столом и завтракали, радуясь хорошему дню и прохладе, тянувшей из-за огородов, с северной стороны, от сладковато-прелых болот.
Дедушка привел с конного двора Гнедка, и он теперь стоял на привязи у ворот и мотал гривой. Пока в телегу укладывали косы, грабли и вилы, Марьюшка заглядывала в зрачок Гнедка, видела в нем свое фиолетовое лицо, а потом принесла кусок хлеба и дала его лошади.
Езда для Марьюшки была самым большим, неописуемым счастьем. В дороге ее радовало все: тележный грохот, запах дегтя и конского пота, махорочный дым дедушкиной цигарки и особый, перекатный от дорожной тряски, говор.
— Это чо-о за цветки-и у Аркаши-горбатого-о в огороде-е расту-ут? — спрашивала мать.— Ма-ак?
— Венцелии-и... Какой-ой-то-о немски-ий со-орт... Медоно-ос,— отвечала бабушка.
Дальше ехали через ржаное поле, и Марьюшке казалось, что никогда не кончится этот тихий крадущийся шелест уже спелых сухих колосьев, шафрановые кусты пупавок и ласковый цвет васильков. А вон прячется во ржи сиротливая с ветхой дерниной на белесых стропилах и черным оконным проемом избушка, но вот подъехали ближе и оказалось, что избушка стоит не во ржи, а на большой поляне, поле лишь кольцом окружает ее. Дорога здесь мягкая, поросшая конотопом, и телега уже не гремит по комкам и рытвинам, а катится мягко, с шуршанием задевая склоненные колосья.
— Гли-ко, избушка-то первой бригады все ишо стоит! — удивляется бабушка.— Тут ведь ране-то блазнилось. Митрей Устинович, покойничек, царство ему небесное, рассказывал, как с конями тут ночевал, дак всю ночь кто-то ходил и в окошко к ему заглядывал.
— Это чо-о! — оборачивается дедушка.— Осип Захарович, кажись, ишо холостым был, до войны, покойничек, здесь сено косил да на ночь тоже остался, дак ему в избушку-то шкилет подбросили. Он начал с нар-то подыматься, до ветру захотел выйти, да о шкилет-то и запнулся... Оксинья Ефимовна с месяц его от испуга-то потом ладила, воск над головой выливала.
Тихо шумит, волнуется ржаное поле. Все может быть в нашей жизни, и сама жизнь станет всякой, многое в ней забудется, о многом никогда не вспомнишь и не пожалеешь, но это поле и неожиданный в лощине рдяный уголь дикой гвоздики, чудно названной татарским мылом, и далекая, мелькающая в золотой кисее утренней дымки темная точка — так и не поймешь, то ли кто, пригнувшись, стремительно бежит в хлебах, то ли летит грач — останется и будет с тобой всегда, и ничего потом не будет лучшего в жизни, чем счастья помнить об этом.
За рожью потянулись изумрудно-сизые овсы, все с той же яркой синей межой васильков, а вон откуда-то взялся одинокий подсолнух на краю поля, понуро склонивший свою мохнатую золотую голову, хищная птица внезапно поднялась из травы и полетела, тяжело замахала своими серыми крыльями. Еще встречается одна избушка, поодаль от нее стоит крепкий сарай с соломенной крышей, грузно осевшей на березовые, истонченные древесными жучками и червями столбы, у бревенчатой стены сарая из мощно разветвленных кустов чернобыльника и жаркой глухой крапивы проглядывает клейтон.
— В войну мы здесь хлеб веяли,— говорит мать.— С Крестиньей Кошкаровой все клевитон крутили, у ей силищи, как у быка, ручку захватит, дак весь клевитонишко ходуном ходит. Помню ишо, как пимы у ей сгорели. Уж снег был, мороза стояли. Положила она в печку пимы-то на дрова, а Утька Стрекицына поварихой была у нас, вскочила в потемках-то и разожгла печку-то. Слышим, палениной па-ахнет...
— В Прудок поедем или на угоре остановимся? — перебивает мать дедушка.
— Надо на угоре закоситься, прокоса по два пройдем, а тама в ложок спустимся,— говорит бабушка.
Дедушка, не переставая дымить махоркой, поворачивает Гнедка в сторону. Зонтичный медовый гранатник так высок, что из него виднеется одна лишь дуга над Гнедком, в воздухе гудят комары и мухи, непрерывно вьются слепни и от того, что они тучей облепили несчастного Гнедка и пьют его кровь, Марьюшка готова передавить их всех до одного и от невозможности сделать это доброе дело чуть не плачет. Наконец дедушка останавливается на меже, пока бабушка и мать уносят в тень высокой шумной березы дождевик, мешочек с едой и лагушку с квасом, дедушка выпрягает Гнедка, разламывает гнилой пень, подкладывает под него сухие ветки и поджигает. Быстрый огонек жадно облизывает хворост и растекается по сухой траве, дедушка ловко стаптывает его сапогами и, сыпнув трухой, наваливает еще одну гнилушку на костер. Огонь смиреет, глохнет и сразу же пышно поднимается бурый клуб дыма. Гнедко подходит к самому костру и сладко и утомленно начинает дремать, чутко поводя ухом и прислушиваясь к лесному шуму.
Потом Марьюшка собирает в свою маленькую плетенную из ивы корзинку ягоды, радуясь голосистому звону косы, рокоту могучих березовых вершин над собою, родниковым зеркалам в логу, похожим на небольшие пруды с ольхой и белокрыльником по берегам, отчего это место и названо Прудком. «Сшщичь-сшщичь. Сшщичь-сшщичь»,— сочно ложится под острой косой трава. «Сшиц-сшиц!» — откликается в логу озорная птичка.
— Сшить-сшить! — передразнивает Марьюшка птичку.— Литовка корове сено шьет, а ты чо сшить просишь? Платье?
В тот же вечер, когда, вернувшись с покоса и счастливо умаявшись с травой, сидели за столом и ели кашу с творогом и сметаной, вдруг прибежала Палашка Мокеева и торопливо, прямо с порога, затараторила:
— Анна, ты седни свободна? Шлюз на мельнице открыли, рыба пошла, идем поелозим неводом! Щуки ныряют, только булькоток стоит. Вот те крест, завтра метровые пироги есть будем!
— У-у! — замахала руками мать.— Ночью по реке блудить? Я днем-то воды до смерти боюсь, рубахи полощу— у меня голову обносит. Не, не пойду я! Я...
— Подь ты к холере! — сердито оборвала Палашка.— Чо она, вода-то, тигра какая? Воды боишься, а чай-то из кого сидишь пьешь?
— Не пойду! Не пойду! — заладила свое мать.— Я по переходам-то на четырках всегда ползу, не могу прямо ходить — башка кружится...
— Да ну тебя! — совсем обиделась Палашка.— Кого мне звать-то? Гутьку Кузькину, дак она ведь, коровье ботало, по всей деревне разляпает, сколь рыбы поймали, потом такое из воды вытащишь, что и в руки страмно взять будет... Василису Чернову или Дуньку-морячиху? Дак Василиса шевелится кое-как, шло сама в невод попадет, а с Дунькой я вчера в магазине разругалась. Афанасей Григорьевич, может, ты пойдешь, а?
— Как раз! — хмыкнул дедушка, выскребая из чашки кашу.— Пучкался бы ночью-то в реке с бабой!
— Польша, давай-ко я пойду! — сказала вдруг бабушка.
— И я!— подхватила Марьюшка.— Пойду! Пойду! — закричала она громче, увидев суровое лицо матери.— Ведро с рыбой буду по берегу таскать... Баба, возьмите меня, ба... а-аба!
Марьюшка всхлипнула и уронила ложку под стол.
— Ишо чо выдумала! — прикрикнула мать.— Оборваться с обрыва в омут, утонуть...
— Пойду-у!
— Ты, Манька, упрямая, как козел. Как чо вздумаешь, так все по-своему и повернешь. А вот сегодня не по-твоему будет, а по-моему...
— Пойду-у-у! — заревела Марьюшка.
— Пойдешь,— успокоила бабушка.— Чо она утонет-то? Одна, чо ли, пойдет? Со мной девка пойдет.
— Ты, Анна, сама всего на свете боишься,— вступилась Палашка,— и робенку ходу не даешь, готова в дикий камень заковать, лишь бы не пускать никуда. Пойдем, Маша, пойдем! Пимы, шубу надевай!
Марьюшка тотчас же выскользнула из-за стола и принялась собираться. Но бабы начали обсуждать план рыбной ловли. Палашка села за стол пить чай, неторопливо макала хлебом в сметану и говорила:
— Торопиться некуда, надо идти поздно ночью. Во-первых, все в деревне спать завалятся и никто не узнает, сколь мы рыбы принесем. А во-вторых, день седни был жаркий и рыба на дне дремала, от жары схоронялась. Только к утру начнет кверху подыматься и мошек ловить, потому что жрать захочет. Тут-то мы ее легче всего и захапаем. Правильно говорю, Арина Ивановна?
— Правильно, Поля!
Потом Палашка пошла домой за бреднем, а Марьюшка сидела на сундуке в бумазеевой курточке с теплым платком на шее и все спрашивала:
— Баба, скоро пойдем?
— Скоро! Скоро! — отвечала бабушка.
Над лугами и огородами пал густой теплый туман, в котором медленно потерялись изгороди и деревья, из тумана, волоча на себе что-то тяжелое и большое, выплыла вдруг Палашка Мокеева и брякнула по окну.
— Арина Ивановна! Ну чо, готова? — заглянула она в створку.
— Дак ведь внучка-то, наверно, не спит,— ответила бабушка.
— Ну и пущай идет. Жалко, чо ли?
Дедушка в подштанниках вышел из горницы, свернул цигарку и, дымя своим страшным самосадом, сел под божницу.
— Ну чо, пошли, рыбаки, ястри вас? — спросил он бабушку.
Бабушка молча перекрестилась перед иконами и проворчала:
— Ты бы, старый черт, подвинулся куда подале. Ишь, Христос нашелся! Будто не у бога помочи прошу, а у тебя, черта старого. Ишо папироску запалил, дым-от из тебя, как из паровика валит. Маня, ты где?
А Марьюшка уже была в ограде и открывала калитку, придерживая щеколду, чтобы не звякнуть железом и не разбудить деревню...
Шли под горой по тропинке, завешенной с обеих сторон мокрым бурьяном. Бабушка и Палашка тащили снасть, Марьюшка, постукивая пустым ведром о полынные кисти, шла следом.
— Роса пала,— говорили впереди.— Чо, до калинника пойдем или от Шашки Обуткина начнем?
— А ежели нам от Шарбатихи зайти?
— Можно и от Шарбатихи. Тама караси живут.
Осторожно спустившись к реке, бабушка и Палашка распутали и растащили по песку бредень и стали заходить в воду. Палашка сразу же по пояс ухнула в яму, сдержанно вскрикнула и повела бредень, стараясь как можно шире охватить заросшую осокой заводь. Багровая лунная тропа в реке плавно покачнулась и от берега к берегу прошла беспокойной дрожью, мелкая волна прокатилась в осоке и чмокнула у самых Марьюшкиных ног. Верба, задетая бабушкиной рукой, скатила холодный росистый жемчуг, на лугу где-то совсем рядом подал свой отрывистый голос погоныш.
Когда бабушка и Палашка выволакивали бредень, показалось, что они тянут целый бугор рыбы, но вот вода сбежала и остались лишь тощие клочья тины, в которых что-то шевелилось и шлепало.
— Арина Ивановна! — простонала Палашка.
— Манюшка, давай сюда ведро! — испуганно скомандовала бабушка.
Палашка, ползая на коленях, торопливо и жадно выбирала дрожащими руками перламутровых чебаков, бросала их в ведро и тоже испуганно и счастливо шептала:
— Ох, господи, в омутах, видать, за плотиной скопилась... Теперича и пошла, как шлюз-то открыли. Не зевай, не зевай! Проспал жизть-то! Ничо-ничо! На то она, жизть-то, тебе и дадена, чтоб проспать ее. Машутка, сколь тама?
— Полведра,— ответила Марьюшка.
— Карауль, а то выскочат.
— Я боюсь их...
— Вон чо!
— Не подымай ведро-то, а то пуп сорвешь,— приказала бабушка и снова быстро полезла в воду. И опять ожила и брызнула золотым огнем утонувшая в реке луна, далеко в калиннике вдруг послышался девичий смех, и красиво заиграла гармонь. Палашка подняла голову, заслушалась и проговорила:
— Гуляет молодяжник! А на гармошке-то Гришка Кузнецов играет, так и сыплет, так и сыплет, паразит! Он ведь без гармошки да без ножа никогда не ходит. И за чо только ево девки любят?
— А кому сморчки-то, Паланя, теперь нужны? Вроде гнилой картошки за войну опротивели,— ответила бабушка, тоже прислушиваясь к лихому перебору гармоники. — Это верно. Под крыльцом да с молодцом! — завистливо вздохнула Палашка.— По крайней мере есть кого обнять...
Вдруг в воде что-то мягко ударилось и пошла-пошла светлыми кольцами волна, плеснулась на песке и подкатилась к самому ведру с чебаками.
— Щука, Арина Ивановна!
— Щука, Поля!
— Веди, веди! Сужай под куст-то...
— Кажись, попала...
— Сплюнь-ко!
— Тьпу, господи бласлови!
Тяжело дыша и проваливаясь в ил, бабушка и Палашка потянули к берегу вздувшийся бредень и уже, забыв о гармонике и молодце-Гришке, гуляющем поздней лунной ночью в калиннике с девкой, принялись ласково ругать щуку, которая нещадно билась и плясала в своей ловушке.
— Нет уж, стерьва, заарестовали мы тя!
— Попа-ала, ведьма киевская!
— А не прыгала бы! Пропрыгала счастье-то свое. Как мы брать-то ее будем, Арина Ивановна?
— Как-нить возьме-о-ом!..
— Тяпнуть бы по башке-то!
— Да ты чо, Поля, по башке!.. Креста у тебя нет на вороту, чо ли? Она и так уснет, сердешная.
— Куда тама!
Щука вилась и била хвостом в бредне, расплескивая по сторонам грязь, и было жутко видеть ее длинную хищную пасть и змеиный извив спины, блестящий тускло и холодно в лунном свете.
— Порвет она снасть-то нашу, Арина Ивановна! Надо чо-то делать.
— Подождем, пока задремлет.
Марьюшка не могла отвести от щуки глаз и больше всего боялась ее убиения, вот сейчас бабушка с Палашкой возьмут камень или палку и начнут колотить страшную рыбину, и сами в эту минуту станут также страшными...
— Отпустите ее! — закричала она.
— Вона!.. Чо выдумала!— удивилась Палашка.— Отпу...
— Чебак-от у тебя из ведра выпрыгнул,— вдруг крикнула бабушка.— Лови чебака-то! Ускачет в крапиву, погинет тама. Лови его скорей!
— Где? — испуганно оглянулась Марьюшка.
— В крапиву поскакал, беги за им! Пропадет ведь!
Пока Марьюшка растерянно оглядывалась вокруг, не понимая, куда и на каких ногах вдруг поскакал из ведра чебак, бабушка и Палашка что-то успели сделать с рыбиной, наверное, все-таки убили и, выпутав ее из сетей, обвисшую, вздрагивающую плавниками и зловеще улыбающуюся, заговорили:
— Хороша веш!
— Хороша-а-а!
— Чо, ишо зайдем или щуку делить будем?
— Давай ишо зайдем.
Пока бабы двигались в реке и ворочали невод, Марьюшка озабоченно думала: как же они станут делить щуку? Кому достанется голова, кому хвост? Конечно, получить половину с хвостом лучше, чем костистую длинную голову и, поскольку Палашка является хозяйкой бредня, то лучшую долю возьмет себе.
Покончив с ловлей, бабы выжали подолы, забрали у Марьюшки ведро с рыбой и снова выбрались на тесную тропинку под горой, где росистая полынь совсем склонила к земле холодные белесые кисти. В той стороне, где находилась пасека и был Зимний омут, всегда казавшийся Марьюшке громадным темным стеклом, усаженным с берегов белыми лилиями и золотыми кубышками, где особенно ранней весной и поздней осенью выделялись среди безлиственного голого леса, словно черная пряжа, черемуховые чащи, где домик на пасеке казался избушкой на курьих ножках и в осиновых перелесках, куда дедушка водил Марьюшку с собой собирать грибы, терялись следы невиданных зверей, где медовая и розовая пыль стояла над полем гречихи, в той милой, так сердечно близкой стороне, что и невозможно представить, как можно жить без нее на свете человеку, Марьюшка снова увидела знакомую, перекатывающую по хрустальным граням белое пламя, утреннюю звезду. За рекой в молочном тумане не переставала кричать болотная курочка, где-то на елани пел петух, и рядом в ивняках бурлили ключи.
— А чо, Польша, Полярную-то звезду видать али нет? — спросила бабушка и, останавливаясь, посмотрела на небо.
Палашка тоже взглянула вверх.
— Ково?
— Полярную звезду, говорю, видишь?
— А кто оно такое?
— Полярной-то звезды не знаешь? — удивилась бабушка.— Да ты чо? А как же ты дорогу ночью найдешь, ежели заблудишься? Где Полярная, там и север. Она всегда на севере светит, а по праву руку восток будет, на затылке юг... Ты, гли-ко, не вижу ведь! Слабыми глаза-то совсем стали. А Сторожа эвон горят! От Сторожей-то по дуге должна быть и По... Эва! Мелькает ведь! Мелконькая, как пылинка... Дак светать уж начало.
Марьюшка тоже поглядела на небо и спросила:
— Баба, где сторожа?
— Гли-ко, ишо смотрят глаза-то. Смо-отрят!
— Ба-аба!
— Да чо те?
— Какие сторожа?
— Ззвездочки такие. Сторожами их зовут, мир они охраняют.
— Пошли, Арина Ивановна! — позвала Палашка.— Тут снасть все плечо оттянула, а она каких-то сторожей на небе углядела.
— Пошли, пошли, Паланя! Пошли, милая.
— Ба-аба, какой мир?
На косогоре им повстречался высокий парень в белой рубахе. Придерживая за плечом гармонику, он курил и сорил в предутренней мгле багряными искрами зажженной папиросы. Увидев людей, парень решил свернуть на другую сторону улицы, но Палашка остановилась и лукаво его окликнула:
— Гришка, это ты? Здорово!
— Здорово! — лениво отозвался Гришка.— Кто это с тобой? Тетка Арина? Здорово, тетка Арина!
— Здорово, Гриша.
— Рыбу загоняли?
— Да так... немножко. Промялись...
— А-а! Ну счастливо вам!
Гришка стрельнул папиросой в дорожную пыль, поправил ремень гармоники и лениво пошел дальше.
— Григорей! Товарищ Кузнецов! А, товарищ Кузнецов!— захихикала Палашка.— Рубаха-то у тебя, кажись, сзади замарана? Хи-хи-хи!..
Гришка остановился, повернул красивую голову и нагло ответил:
— Не твое дело!
В ограде под навесом на вязаном из мочала мешке бабы начали дележ рыбы. Уже совсем рассвело, край неба за рекой стал розовым и лимонным, в деревне запели петухи и где-то за огородами долгим тонким ржанием залилась лошадь.
«Как же они станут делить щуку?» — снова с тревожным любопытством подумала Марьюшка, следя, как Палашка отбрасывает то в одну, то в другую сторону красноглазых, чебаков, пузатых карасей и окуней.
— Это тебе, это — мне...
— Эта тоже тебе,— подсказывает бабушка.
— Это мне, это тебе...
— И эта тебе.
— Нет, эта тебе, а эта мне.
— Давай-ко!
— Теперь за шуругайку примемся!
— Ножик-от, на!
Крепко взявшись за щуку, Палашка ловко и жадно разрезала ее вдоль хребта, отвалила на стороны две беломясые половины и отерла со лба испарину.
— Вот и пирог! На весь стол... А вон и сглотыш в кишках!
Палашка торопливо покопалась в рыбьем брюхе, что-то достала и поднесла бабушке.
— Подь ты, опасна тебя задави! — брезгливо отмахнулась бабушка.— Ково ты мне мертвечину-то нюхать даешь?
— Сглоты-ыш. Ельчишка проглотила!
— А я думала вы пополам щуку разрежете,— удивленно сказала Марьюшка.
— Мы и так ее пополам разрезали,— ответила Палашка.
— А я думала на хвост и на голову...
— То-то ты и стояла караулила, чтоб голову захватить!— захохотала Палашка, вытирая о мокрый подол грязный окровавленный ножик.— Кто рыбью голову ест, тот песни поет хорошо. Ей-богу, Машутка!
Алый
жар на востоке растекался все шире, вот
он позолотил над головой легкие перистые
облака, зажег верхушки деревьев.
Ослепительный солнечный шпиль вспыхнул
в лесной чаще, и в темной реке сразу же
заполоскался огненный лоскут.
VII
Сегодня дедушка с бабушкой уехали на покос, а Марьюшку оставили дома стеречь цыплят. Долог пыльный и знойны июльский день. Марьюшка разбросала цыплятам рубленое яйцо, налила в глиняную грелку воды, а сама по лестнице залезла на крышу бани, улеглась в жаркой сникшей лебеде и начала наблюдать за огородом.
Сверху хорошо видать зеленые в пестрых цветочках гороховые плети, намотавшиеся на сухие палки, которые бабушка расставила по гряде, атласную зелень моркови, кусты редьки. Бабушка говорит, что до ильина дня в огород за морковкой или горохом ходить нельзя, а то поймает огородница. Она и сейчас, горбатая и длинношерстная, с кудельной бородой и красной тряпицей на голом черепе, небось, сидит в картошке и зорко следит, как бы кто не выдернул из земли похожую на желтый колоб масла гладкую репу или не стал обирать в подол бобовые стручки... Выскочит из картошки огородница, запрыгает, заухает, пойдет сивой куделей трясти да в заслонку бренчать.
Марьюшка слезла с крыши и принялась раскладывать чечки — цветастые черепки разбитой посуды, найденные в разных местах. Тут собраны и фарфоровые осколки с остатками золотых и сиреневых полос, густо-фиолетовым мраком рисованной листвы и малиновыми ягодками, и бутылочные стекла, и обломки красных и черных корчаг. «Может, к маме сходить?» — подумала Марьюшка. Мать сегодня дежурит на ферме, дает стельным коровам свежую траву и следит, чтобы не пришли ребятишки на базу зорить воробьев, не стали курить и не наделали пожара. От матери, конечно, ни на шаг не отстает маленький козленок-покормушка Егорка, просит хлеба и, наверное, скучает по Марьюшке. Марьюшка тоже сильно соскучилась по Егорке — сбегать бы, повидаться! Но вдруг в это время прилетит ястреб и разворует цыплят?
Далеко трубят проходящие поезда, визжат и кричат на реке ребятишки и все так же, как вчера и позавчера, в текучем знойном мареве дрожат дальние прясла, скворечни, роются куры и в бордовых колючих шишках стоит под забором репей.
Марьюшке становится грустно, но отчего эта грусть, ей трудно понять. Просто ей вдруг становится жаль медленно идущего дня, гудения поездов, ласточек... Ведь если дом, в котором живет Марьюшка, сгорит или сгниет, то куда потом прилетят ласточки? А куда девают к зиме козленка Егорку? А если все они: и Марьюшка, и бабушка с дедушкой, и мать — возьмут и умрут, то кто потом польет огурцы в огороде и выкосит крапиву под черемуховым кустом, побелит снизу яблони-дички и накормит цыплят? Кто потом придет сюда — в этот дом, в эту ограду, кто станет жить на этом месте...
Марьюшка
села на крыльцо и начала заворачивать
в платок свою старую тряпичную куклу,
но вдруг ее что-то насторожило и
взволновало. Из соседней ограды
послышалось тихое пение, пел хрипловатый
мужской голос, пел так горестно, так
тоскливо, что у Марьюшки часто-часто
забилось сердце, ей еще больше стало
жаль себя и всего, что пело, стрекотало,
гудело и вилось вокруг, она всхлипнула
и заплакала.
...греет солнышко, да осенью.
Цветут цветики, да не в пору.
А весной была степь желтая,
Тучки
плавали без дождика,—
пел-говорил
близкий голос, жалуясь на какое-то свое
мучительное и безысходное сердечное
одиночество.
По ночам роса где падала,
Поутру трава там сохнула.
И все пташечки-касаточки
Пели грустно так и жалобно,
Что их слушая кровь стынула,
По
душе лилась боль смертная...
И Марьюшка заплакала еще горше, заплакала о ласточках, о матери, о знойном мареве и сизой лебеде на банной крыше, жалея, что завтра уже все станет не так, как есть сегодня... А как сегодня, никогда-никогда не станет...
— Ты чо плачешь? — вдруг услышала Марьюшка над собой ласковый голос и, подняв голову, увидела Таню, маленькую, сухонькую старушку с березовым батожком в руках и мешочком за плечами.
Таня, как слышала от бабушки Марьюшка, была безродной, ходила по людям, нанимаясь полоть огороды, прясть шерсть, и постоянно жила то в одной деревне, то в другой.
— Ты чо плачешь-то, моя крошичка? — снова ласково спросила Таня и погладила Марьюшку по голове. Потом закопошилась в складках своей черной в заплатках длинной юбки и вытащила пряник.
— На-ко вот гостинец от зайчика! Я иду, а он бежит и спрашивает: «Ты, баушка, куды?» — «Да к Мане в гости»,— отвечаю... Ты чо, Маня, плачешь-то? Ты одна дома-то чо ли?
— О-одна-а... а...— еле выговорила Марьюшка.
— Баба-то на покосе?
— На... нна... п... п...
— Тебя кто напужал, чо ли?
— Не-е...
— А чо плачешь? Бабу жалко?
— Ба-абу... жалко...
— Дак она приедет скоро. А мама-то на ферме?
— На ферме...
— Тебе тоскливо одной-от?
— Не-е...
— А чо плачешь. Жалко кого стало?
— Жалко.
— Кого жалко-то?
— Не знаю...
— Ну ничо-ничо,— Таня, охая, села на крыльцо и прислушалась.— Ишь, как кто-то хорошо песню-то сказывает! Лександра Павловича голос-от! Охо-хо!
Таня тяжело вздохнула, вытерла концом платка мокрые глаза.
— Парит-от как! — немного помолчав, сказала она.— Ето перед грозой такое беспокойство на сердце находит. Чо-то начинает томить человека, чо-то болит в ем, сумлевается человек, тревожится от всего. Особо звери да дети малые ето хорошо чуют. О-хо-хо! Смертонька моя, чо же не идешь-то? Загулялась где-то, забыла обо мне, сердешная!
Марьюшка тоже вздохнула и сказала:
— А я куричьих цыпушек караулю.
— Вот и добрая деушка! — снова погладила Таня ее по голове.— Баушка-то ничо не говорит, нету ли у ей какой работы? Может, лен чесать или веники вязать надо? Не слыхала?
— Не.
Таня снова помолчала и начала собираться.
— Пойду-ко я. К вечеру, може, дойду до Глухаревой-то. Миладора Егоровна собиралась конопле трясти, дак помогу. Ты мне, Маня, матушка моя, дай-ко водички попить.
Марьюшка сбегала в сени, зачерпнула из кадки ковш квасу и подала Тане.
— Ма-атушка ты моя! — покачала та головой.— Я ведь водички просила, а ты кваску принесла. Да ладно.
Таня попила из ковшика, вытерла рукавом застиранной кофты свой морщинистый рот и сказала:
— Я водичку люблю. Студеную да чистую! Она внутре прочишшает, просветляет человека, а квас бражный, хмелен. Пойду-ко помаленьку, а то как бы гроза не накатилась.
Гроза поднялась вечером, когда бабушка с дедушкой уже приехали с покоса. Сначала на солнце надвинулся край тяжелого мутного облака и сразу же по небу разошлись косые белесые столбы, потом где-то за лесом послышался глухой зловещий гул и в черной синеве горизонта пронеслось жуткое огненное видение. И что-то с сухим треском расщепилось и развалилось вверху, судорожно пылая белыми искрами.
Бабушка принялась было растоплять печь, но тут же плеснула на загоревшиеся дрова водой и побежала закрывать ставни. И снова громовая щелкающая дрожь прокатилась по небу, от быстрой вспышки в окне мрачное лицо на иконе показалось Марьюшке костяным и мертвым, она вспомнила о матери и закричала:
— Баба, я к маме побегу!..
— Я те побегу! — гремя ведрами, отозвалась с улицы бабушка.— Смотри, страх-от какой! Захлестнет на дороге...
— Не-е-а!..
Только
Марьюшка успела выскочить за огороды
и, мелькая русой головой в душных и
странно стихших лопухах, пустилась по
тропинке к коровнику, как прямо перед
ней бросилось с неба оледенелое голубое
копье, она вскрикнула и присела, со
страхом слушая грохот разлетающихся
железных брызг.
Сбоку за еланью шумел лес, там широко и кроваво воспламенялся воздух и, дымясь седыми клочьями над стеклянно-застывшей прогалиной болотной воды, также гремело и двигалось сюда, и в перерывах между гулом было слышно, как кричали в лесу грачи и ревела на ферме скотина.
Марьюшка вскочила и снова во весь дух понеслась по тропинке. Фосфорический пласт света нагнал и облепил ее, сквозь зияющий оконный проем в черной тьме коровника в одно мгновение несколько раз подряд мраморно отпечатались деревянные решетки кормушек, низкая подпорка, веревка на гвозде...
— Ма-а-а!..
Несколько белых змеистых огней сразу переплелось вверху, и в их блеске словно выхватило из земли столб изгороди, оглушительно затрещало и что-то громадное лопнуло над головой и снова отдаленно мигнул красный глаз в лесу.
— ...а-а-а!..— где-то отозвалось в ответ.
— Ма-а-ама!
Мать выбежала навстречу, схватила в объятия Марьюшку и потащила ее в избушку.
— Сиди тут,— прошептала она и, испуганно косясь на стремительно вздрагивающее в окне белое зарево, усадила Марьюшку на топчан.
— Не лезь к окошку. Сиди... Я сейчас приду, только вот коров загоним... Доить-то уж после грозы будем. Сиди, не пужайся... Чо прибежала-то?
— Стосковалась.
— Ма-а-тушка ты моя, хозяюшка! День-деньской седни одна. Посиди, я сейчас приду. Дам чо-то!
В загоне кричали и бренчали ведрами доярки, в избушку, весело бранясь, ввалился пастух Елизар.
— Ну, брат, садит! За болотиной в пенек как торкнуло, дак мой Карько аж на коленки пал. Это Машутка, чо ли, здесь сидит?
Опять прибежала мать, вытащила из-под лавки котелок с черемухой и поставила возле Марьюшки.
— Седни коров напоила, тяжелых-то шибко нету, дак подумала, дай схожу в кусты по черемуху. Прямо за огородами Антипа Васильича и набрала. Ветки ломятся...
Близкая молния брызнула по окну и тотчас же шумно навалился ливень, где-то закапало с потолка, запахло сажей и мокрой глиной. Бросив коров, доярки тоже кинулись бежать в избушку, толкаясь в тесноте, загалдели, зазвенели подойниками.
Вдруг дверь в избушке открылась и, обливаясь багровым грозовым пламенем, на пороге, едва покачиваясь и опираясь на костыль, в черной мокрой одежде появилась Сусанна Власова. Все сразу смолкли и повернули к ней головы.
— Елизар Михайлович! — простонала Сусанна.— Корову у меня громовой стрелой убило... У Голышма-новского болота лежит, помоги мне привезти тушу-то.
— Во-он чо! — вздохнул Елизар, быстро поднялся, снял со стены конскую сбрую и вышел за Сусанной.
— Вот беда-то у бабы! — заговорили доярки.— У ее и так палочка в легких. Жить-то осталось!
Марьюшка
всегда боялась Сусанны Власовой и,
повстречав ее, отбегала далеко в сторону.
Сусанна в бараньей безрукавке и траурном
платке отрешенно смотрела на людей
своими большими черными глазами, часто
и сухо кашляла. Теперь-то Марьюшке стало
понятно, что, кашляя, Сусанна старается
вытолкнуть из горла палочку, которая
мешает ей легко дышать и быстро ходить.
VIII
Вот и август пришел. Улетели из хлева ласточки, потерялись пунцовые маки в огороде, начали ссыхаться гороховые стручки. Засветились березовые леса, а в черных и бархатных августовских ночах выломились крупные алмазные созвездия. В августе расцвели синие кувшинчики — любимые Марьюшкины цветы. Анна Алексеевна однажды ходила по деревне, что-то переписывала, была у бабушки в гостях и пила чай. Увидев кувшинчики в стакане с водой, она назвала их чуждо и непонятно — горечавка легочная.
— Баба, пошто горечавка? — с досадой спрашивала потом у бабушки Марьюшка. — Горечавка-то? Наверно, горе чавкать, жовать, чамкать, горе мыкать, мурцовку хлебать.
Управившись по двору, любила бабушка сидеть в темноте у окна, не зажигая лампу и ожидая, когда придет с фермы мать. Тогда бабушка поставит на стол глиняное блюдо с молодой, словно обсыпанной по кожуре сахаром картошкой, наложит полную тарелку приятно-скользких с прилипшими укропинками груздей, и сядут они ужинать вокруг медного самовара. А пока позванивает и тонко постукивает в самоваре хрупкий водяной колокольчик и сказочный зверек красными глазами смотрит в темноту угла и тоже тупа скребет коготком по самоварному днищу.
Бабушка, задумавшись, сидит у окна, за которым дымит и бог весть куда ведет Млечный Путь
— И куда только время девалось! — говорит бабушка сама с собой.— И в девках я была, также подымались друг за дружкой вон те три звездочки, и в войну-то ничо с ими не сделалось. Тут кровь проливали, а тама так ничо и не менялось. Все хорошо да ладно. А может, потому и хорошо, что нету тама никого? И для чо все это человеку дадено? Проживешь и глаз не успеешь поднять к небу. Только под старость и увидишь — вон оно как горит! Да чо толку-то, если помирать скоро. О-хо-хо!
Клубится, безмолвно течет светлая небесная река и, раздвоившись над самым лесом, падает за его серебристо мерцающий, черненый край.
— Баба, ты кто? Баба? — спрашивает Марьюшка.
— Кого? — сердито удивляется бабушка.— Шла бы ты, Манька, спать! Прилепилась, сидишь тут, подумать толком не дашь!
— Баба, расскажи сказочку!—просит Марьюшка.
— Ска-азочку! Вон чо! Сколь тебе их сказывать-то можно? Мешок, чо ли, у меня со сказками-то?
— Ну чо тебе, жа-алко?
— Какую-то опять сказочку! — сердится бабушка, но Марьюшка уже знает, сердиться и упорствовать ей приятно, что бабушка ждет не дождется последней внучкиной просьбы, а потом вдруг подобреет, еще минуту-другую поговорит о чем-нибудь для порядка, чтобы не подавать вида, как она радешенька сказывать сказку, и таинственно начнет: «Жили-были...»
— Какую тебе сказочку-то? — нетерпеливо спрашивает бабушка.— Сама просит сказочку, а какую надо, не говорит. Манька! Спишь, чо ли?
— Про Филю и Акулю...
— Вон чо! Сколь тебе можно ее рассказывать-то? Тыщу раз...
— Ишо расскажи!
— Охо-хо! — вздыхает бабушка, поправляет платок, половчее садится, впотьмах находит сухой стебелек герани и обламывает его.
— Надо на весну-то пересадить еранки-то. Старятся уж, вывестись могут. У Анфисьи Захаровны просила ноне отростель белой еранки, дак не дала, старая. А все равно теленок обжевал. Выставила на крылечко, полоскать водой собралась, теленок-от по ограде ходил... Чо молчишь-то?
— Филю и Акулю жду.
— Ну тогда ладно. Слушай.
ФИЛЯ
И АКУЛЯ
«Жили-были на свете Филя и Акуля. Филя был дурак, а Акуля умная. Вот жили они, жили да схотели жениться. Сыграли свадьбу, гуляли весь день, а к ночи спать легли. Проснулись утром, Акуля пошла рожь жать, а Филя пошел к тешше в гости. Вот приходит он к тешше в гости, а она дает ему яичко и говорит:
— Кати-ко, Филя, яичко-то домой, да смотри в озерко не закати!
— Ладно,— буркнул Филя, взял яичко и покатил его домой.
Вот он катил-катил да в озерко и закатил. Пришел домой, сел к окошку и задумался. Воротилась вечером с поля Акуля и спрашивает:
— Чо ты, Филя, такой грустный сидишь?
— Как мне грустному не сидеть! — говорит Филя.— Ходил я к тешше в гости, дала она мне чо-то кругленькое да беленькое, я катил его, катил, да в озерко и закатил. Вот сижу, думаю.
— Ох ты, Филя, ты Филя, дурак! — говорит Акуля.— Да ты бы пришел домой, да разгреб бы загнетку, да посадил бы яичушко в золу, вот бы те и завтрак был!
— Ладно, Акуля, в другой раз! — буркнул Филя.
Вот опять утром Акуля пошла рожь жать, а Филя пошел к тешше в гости. Приходит он, и дает ему тешша блин. Взял его Филя, пришел домой, разрыл загнетку и посадил блин в золу. Проходит время, вытащил из печки Филя свой блин, повертел в руках, пожулькал, да так с золой и съел. Опять сел к окошку и задумался.
Приходит Акуля, спрашивает:
— Чо ты, Филя, такой невеселый сидишь?
— Как мне не сидеть? Ходил я к тешше в гости и дала она мне чо-то бусенькое, мяконькое. Я посадил его в загнетку, а потом вытащил и съел. Сижу вот теперича, думаю.
— Ох ты, Филя, ты Филя, дурак! — сплеснула Акуля руками.— Да взял бы ты блинок-от, да на сковородку положил, да маслица налил, на угольки бы поставил и покушал бы, как добрый человек.
— Ладно, Акуля, в другой раз.
Опять назавтра пошла Акуля рожь жать, а Филя покатил к тешше в гости. Вот приходит он к тешше в гости, а та дает ему мерлушку. Принес мерлушку Филя домой, положил на сковородку, наложил масла, толкнул в печку, изжарил и съел. Ну чо тама, какой завтрак! Известное дело — овчина! Скоробилась она вся да ссохлась. Однако сжевал ее Филя. Опять сел к окошку и задумался. Приходит Акуля, сызнова спрашивает:
— Чо ты, Филя, опять такой грустный сидишь?
— Дак как мне не сидеть грустному? — бубнит Филя.— Вот ходил опять к тешше в гости, она дала мне кого-то... Кого, сам не знаю. С одной стороны голая, с другой мохнатая... Изжарил вон на сковородке да съел. Сижу вот теперь, думаю.
— Ах ты, Филя, ты Филя, дурак! Да ты бы взял да повешал мерлушку-то на вешальницу, вот бы к зиме мы тебе и шапочку бы сшили!
— Ладно, Акуля, в другой раз.
Вот опять утро наступает. Акуля идет рожь жать, а Филя снова подался к тешше в гости. Приходит он к тешше в гости, и дает она ему ягушку. Привел ягушку Филя домой, заколол ее, ободрал, кожу на вешальницу повесил, а мясо собакам выбросил. Сел опять к окошку и задумался.
Приходит Акуля и спрашивает:
— Ты чо, Филя, невеселый сидишь?
— Да вот ходил к тешше в гости, дала она мне опять кого-то... Тоже мохнатая, только шевелится вся. Бегает за мной да орет. Я заколол ее, мясо-то собакам выбросил, а кожа вон на вешальнице мне на шапку сохнет.
— Ох ты, Филя, ты Филя, дурак! Да чо же ты, дурак, наделал-от? Да ты бы взял ягушку-то во хлев загнал, да сенца бы дал и водички принес, вот бы у нас с тобой овечушка была!
— Ладно, Акуля, в другой раз! — бурчит Филя.
— Ну ладно, в другой так в другой.
Опять утром Акуля идет рожь жать, а Филя — к тешше в гости. Приходит он к тешше в гости, та ему и говорит:
— Поведи-ко ты, Филя, погостить к вам Акулину сестричку.
А сестричке годков семь будет. Ну чо делать? Взял Филя робенка, привел домой, загнал в пригон, сена надавал ей, пошел по воду. А она чо, разве сидеть будет? Выскочила из загородушки и убежала обратно к матере. Пришел Филя с водой, смотрит, нету девчонки в пригоне. Кого делать? Сел опять к окошку и задумался. Приходит вечером с поля Акуля и спрашивает:
— Чо ты, Филя, грустный сидишь?
— Да как мне грустному не сидеть? — отвечает ей Филя.— Ходил вот к тешше в гости, дала она мне такую, как я. Только помене меня будет. Посадил я ее в пригон, сена надавал, пока за водой ходил, она и убежала. Сижу вот, думаю.
— Эх ты, Филя, ты Филя, дурак! — заохала Акуля.— Да ты бы взял самовар поставил, да хлеба нарушил, да сметаны достал, вот бы у нас с тобой и гостюшка была.
— Ладно, Акуля, в другой раз.
Приходит утро. Акуля опять пошла рожь жать, а Филя пошел к тешше в гости. Приходит к тешше, а та дает ему поросюшку, мол, поведи на племя. Посадил Филя поросюшку в мешок, приташшил домой и давай ее чаем угошшать. Поросюшка орет, как под ножом, самовар со стола спехнула, сметану пролила, бегает по избе, визжит — хоть уши затыкай! Запряг Филя лошадь, посадил поросюшку в телегу, давай по деревне катать. Возил-возил ее, выпрыгнула поросюшка из телеги и убежала в лес. Приехал Филя домой, сел к окошку и задумался. Приходит Акуля, спрашивает:
— Чо ты, Филя, грустный сидишь?
— Да вот ходил к тешше в гости, дала она мне какую-то песельницу. Я и самовар скипятил, она все поет. В сметану залезла — поет. Начал на лошаде по деревне возить — поет и поет. Попела да выпрыгнула из телеги. Где-то теперя в лесу орет.
— Эх ты, Филя, ты Филя, дурак! Да ты бы взял да ржи бы напарил, да накормил, вот бы у нас с тобой и свинка была!
— Ладно, Акуля, в другой раз.
Вот кончила Акуля рожь жать и стала звать Филю ехать к матере в гости. То-то, по ему, растрепе да нахлебнике, стосковалась мать! Кажин день, дурак, к ей ходит, то одно дает ему она, то другое. Запрягли они лошадь в кошевку и покатили парой. Приехали в гости, день-от гуляли, а к ночи спать легли. Гости-то все легли по лавкам в горнице, а Филя с Акулей на печке в избе. Вот поспали они немного, проснулся Филя, толкает Акулю и говорит:
— Акуля, я исть хочу!
— Ну дак чо,— отвечает Акуля,— слазь с печки да ешь. Только на шостке-то пирожки, а под шестком-то котята. Дак ты котят-то не съешь!
Он пошел да котят-то и слопал. Опять залез на печку и говорит:
— Акуля, слышишь? Я их ем, а они: «Мяу! Мяу!»
— Ох ты, Филя, ты Филя, дурак! — заругалась Акуля.— Да это кого, дурак, натворил-от? Да ты ведь это котят сожрал! — совсем осердилась Акуля.— Запрягай лошадь. Пока гости не проснулись, поедем с глаз долой от страму подале».
— Баба,— спрашивает Марьюшка,— а куда они уехали?
— А холера их знает, куда они покатили? До сей поры, поди, где ездят, болтаются по белому свету,— отвечает бабушка и, подумав, продолжает: — Попадет вот этакое чучело и живи, майся с им баба! Сколько бы эту я сказку ни сказывала, все удивляюсь — и чо это Акуля живет с им, дураком?
— Баба, они и летом тоже в кошевке ездят? — снова спрашивает Марьюшка.
— Дак ведь это сказка. В сказке вон и на ковре-самолете летать можно.
— Баба, а чо они на ковре-самолете не улетели?
— Вона чо! — удивляется бабушка.— Кто-то для Фили-дурака ковер-самолет припас! Он, поди, и в телеге-то как следует сидеть не умеет, а то ишо ковер-самолет ему бласловите! Ох ты, батюшко—август уж начался! Звезд-то сколько! Последние деньки цветут наши цветики, падут иньи — все замерзнет!
— И кувшинчики замерзнут? — снова спрашивает Марьюшка.
— Какие кувшинчики? Горечавка, чо ли?
— Ага. А пошто, бабушка, горечавка?
— Откуда я знаю? Анна Алексеевна говорит так, она учительница, все знает.
— А чему учит, не знает,— вздыхает Марьюшка.
— Пошто не знает-то? — спрашивает бабушка и вдруг настороженно замирает.— Стой-ко, Манька! Кажись, доярки поют, на молоканку поехали. Счас мать придет, пойду лампу зажгу.
За
окном, далеко на краю деревни слышится
славная протяжная песня.
...Сине морюшко глубоко,
не
видать у моря дна,—
запевают
сильные женские голоса, и Марьюшка сразу
же среди них узнает родной голос матери,—
я от матушки далеко,
не
видалась года два...
Ночь
тепла и темна. Движется, скользя и
извиваясь по изломам созвездий, далекий
свет. Вспыхивает и тут же тает летучее
пламя метеора. В такую ночь горестным
томлением и тревожной болью полно наше
сердце. Высоко в черном и теплом небе
вязнут белые костры Млечного Пути.
IX
Молоканка — старый дом бывшего кулака Илюшки Прочешихина, с поганками за наличниками окошек, стоит на высоком косогоре в самом центре деревни. Сюда каждый вечер несут сдавать колхозники молоко. Лаборантка Гутька Кузькина заводит центрифугу, проверяет жирность, а потом они вместе с учетчицей Аганей таскают бидоны с молоком в ледник, который находится за домом в холодной землянке.
По вечерам на молоканку собирается весь люд деревенский. Август!.. Август... В густом заречном лесу, просверкивая между деревьями золотым лезвием, меланхолично бродит закатное пламя. В кудрявой зелени Индичишного лога, в поникших соцветьях дикого рябинника, горит костер, и на самом дне глубокого омута течение медленно покачивает тяжелое красное августовское вино.
В доме Палашки Мокеевой играет патефон, где-то скрипит колодезный журавль и стучит телега.
Пришли на молоканку и Марьюшка с бабушкой, заняли очередь у молокомера и сели на бревнышко. Учетчица Аганя грозно нахмурила молодецкие черные брови и что-то сосредоточенно пишет в тетрадке. Взглянет на веселый народ с осуждением во взгляде и снова нажимает на карандаш. Молоко принимает Гутька Кузькина. Ее муж Сашка Кузькин, в общем-то, самый тихий и стыдливый человек в деревне, сегодня по случаю пришествия светлого воскресного дня взял да попил водчонки, теперь вот гуляет по косогору и очень сильно куражится.
Палашка Мокеева притащила ведро молока, бегает и каждому рассказывает, как она сегодня на Ванихиной пустошке пестерь опенок и столько смородины нашла где-то у реки в согре, что от ягод кусты согнулись дугой.
— Дак обобрала? — завистливо спрашивают бабы.
— Куда тама! — машет рукой Палашка.— Только взялась за ветку-то, ка-а-ак из кустов кто-то выскочило и ахнуло в воду. А валы-то так и пошли, так и пошли по омуту, и ветер студе-оный подул, и лес закачался. Ей-боженьки, бабы, до самой Глухаревской елани гнала без оглядки, так, думаю, где-нибудь и кончусь на дороге.
В алой рубахе с бумагами во всех карманах важно подошел Николка Ковалев. Тракторист Роман Голубев прямо с работы мимо родного дома прочесал к молоканке, тоже сел на бревнышко, цигарку запалил и весело поглядел на Сашку. Все тут — и учительница Варвара Герасимовна с книгами в руках, и Сусанна Власова, и Касейко Куренок, и... В общем, весело на молоканке. Ходит отважный Сашка — народ тешит. Пуговку на рубахе оборвал, полено ногой пнул.
— Эй! — кричит Агане.— Ты чо там пишешь, а?
— Ну-ко, шагай отцедова! Не взвывай! — кажет ему кулак жена.
— А ты ишо кто такая?
— Я те дам, кто я такая! Я те дам...
— А ты ишо кого в кустах нашла? — вдруг строго обращается Сашка к Палашке Мокеевой.— Отвечай!
— Я? Вона чо?
Аганя поднимает голову и сердито говорит:
— И чо тут смешного? Ежели пишу, значит требуется для дела. Документы пишу, и нечего здря болони рвать!
— Ха-ха-ха-ха! — пуще прежнего «рвет болони» народ.
Медленно расходится в воде малиновое пятно, слышится мелкий летучий стук колес на железной дороге. От хлебных полей и скошенных трав исходит полынный, горьковатый медовый запах. Жемчужно и ласково светятся березняки, тонким синим шелком стелется дым заречного костра — там жгут сухое осиновое корье и пекут картошку. Никому не хочется уходить в такой благодатный час с молоканки. А вон и Андрей Кошкаров с гитарой! Андрей служит во флоте, сегодня утром приехал в отпуск. Выпил рюмочку наливки и направился с гостями к молоканке, на косогор. В своей белой матросской рубахе с синим воротником и черных клешах Андрей великолепен и красив. Мягко и несказанно-волнующе рокочут гитарные басы, над темно-русым вихром светятся косые чеканные буквы «Северный флот». Идут гости, поют страдания. Мать Андрея Василиса Терентьевна держит сына под руку с одной стороны, отец Василий Григорьевич — с другой.
Увидела Марьюшка моряка с гитарой, услышала с замиранием сердца бархатистый гул струн, побледнела и забыла обо всем на свете... Много раз она приходила с бабушкой в дом Кошкаровых и в глубине горницы рядом с тяжелыми черными часами видела этот янтарный отсвет инструмента, и всегда в круглом его колодце музыкально вздрагивало и глухо стонало эхо голосов, иногда чудилась мольба одинокой струны. Марьюшка подходила и смотрела на гитару, чутко, по-звериному, прислушиваясь к сухому веянию призрачного и отдаленно плывущего хорового сквозняка.
Ах, как гудят, как рокочут басы! Впереди, лихо выворачиваясь в плясе, идет Петро Смирнов, на ходу лупит ладонями по голенищам сапог, охаживает себя по груди и бедрам, лицо Петра серьезно, волосы взмокли. Ясное дело, «венгерка» — не топотушки, а вещь классическая. Попробуй выдай, выломи ее из себя метко и утонченно, не ошибись тактом, не споткнись да не оброни капризное пламя танца со сгибов своих локтей и колен, а потому не опозорь перед народом ни себя, ни гитариста! Гудит, гудит желтый огонь в колодце гитары, и всегда тихонькая и стыдливая девка Груня не сводит с Андрея ликующих глаз и все почему-то хохочет, как дурочка.
Сашка
Кузькин вскинул голову, задрожал
ноздрями, отчаянно, красиво шибанул
себя по штанинам, плавно завел руки за
спину, как на сцене, шевельнул одним
плечом, потом другим, двинул навстречу
компании и с особой, сдерживаемой
страстью, и томлением запел:
А вы-ы пляши-и-ите, госпо-ода-а,
По-ал не про-оло-амите,
У на-ас по-а-ад по-алом во-ада-а,
Вы-ы
не у-утони-ите-е.
Гудят,
гудят поезда за лесами, грохочут составы
по железной дороге, и есть в этом грохоте
и плач, и зов, и запойно-бесшабашная
русская тоска, и счастье от нее... Щемяще
и звонко гремят басы, красиво костенеет
на грифе темная рабочая рука Андрея,
мать платком отирает пот на его бледном
от волнения лице. А Груня-то что отколола!
Сдержанно, не то простонала, не то ойкнула
от счастья, мотнула голубой косынкой,
подбоченилась и выдала:
По те-е-ебе-е, мой ягоди-и-иночка,
Рети-и-ивое боли-и-ит,
Потому-у-у так завлека-а-ательно-о
Гита-а-ара
говори-ит.
А
с крылечка уже торопливо спускается
Гутька, распускает по плечам алый платок
и плывет к гитаристу.
Я наде-ену бело пла-а-атье,
По подо-о-олу кружева-аа-а,
Я такая боева-аа-ая
Са-шки
Кузькина жена-аа-а.
Кто-то
смело и пронзительно ввинчивает ямщицкий
свист и снова все смолкает, лишь слышится
дрожащий гитарный рокот — так и подмывает
сняться с места, словно нет у тебя ни
рук, ни ног, а есть одни крылья, уже
расходящиеся за твоей спиной с крахмальным
скрипом, сверкающие стеклом и алебастровой
пылью, да бьется в груди сердце... Василиса
Терентьевна приглаживает редкие седые
волосы, прикалывает гребенкой крысиный
хвостик косички, машет нескладной и
изуродованной в непосильной мужской
работе рукой, выходит вперед и запевает,
гордясь своей чистотой и верностью:
Я цвето-очек сорвала-а-а
Василе-очи-ик сине-е-й.
Всю войну-у тебя-а жда-ала-а,
Дорого-ой
Ва-асиле-ей.
— Ай да бабы!
— Оба!
Оба! Ты моя зазно-оба-а!..
Белым хле-е-бом, бе-елым хле-е-бо-ам
Се-одни
по-абеда-а-ю-у,—
выводит
Гутька.—
Я плясать-то-а не уме-ею,
Хо-оть
бего-ом побегаю-ю,
—
подхватывает Василиса Терентьевна.
— Хах!
— вьется, выворачивается в пляске Петро,
лихо отбрасывает с бровей мокрые волосы.
Сашка Кузькин не уступает ему, и тенор
его слышится далеко-далеко по реке.
На нас пило-о-оточки зеле-о-ны,
Гимнасте-орки узкие-е.
Не бои-имся-а никово-о-о
Мы,
ребя-ата рус-ски-е-е.
Гудят,
летят поезда по железной дороге.
Ты ма-ашина-чертовшы-ына,
Ты куу-уда торопи-ишься.
У-у тебя-а семьсо-от коле-ос,
Ты-ы
не поворотишься-а-а.
Варька Брагина, красивая статная баба, умеющая с двух-трех ударов загонять молотком гвоздь в стену и плести кружева из самой тончайшей и воздушной китайской шелковой нитки, кусая губы и поглядывая на своего муженька, тощего и длинного Касейку Куренка, на что-то долго решалась и двигала бровями. Но вдруг улыбнулась, щелкнула перстами и, пританцовывая, подкатила к бригадиру Ивану Кузьмичу. О давней и большой любви бригадира и поварихи Варьки в деревне знали все, везде их видели вместе. Давно, еще в юности, Варька ждала Ивана с войны, и когда он, блестя боевыми наградами, пришел с фронта, и уже злая брага, заведенная для скорой свадьбы, задохнувшись в бидоне, сорвала крышку и мутным потоком хлестанула по зеркалам и иконам Ивановой матери — тетки Акулины, когда подруги Варьки под «Катюшу» шили невесте свадебный наряд из старинных кружевных полотенец и сам Иван каждый день гладил раскаленным паровым утюгом свои штаны-галифе, потому что эти штаны были у него одни — днем Иван в них возил навоз на пашню, а вечером шел на свидание, когда крестная Варьки Анна Ильинична сперла из колхозной конторы кумачовую скатерть, чтобы напластать из нее лент и изукрасить конские хвосты после первой брачной ночи, Варька вдруг сбежала к замухрышке Касейке, прозванному за белые реснички и худую шею Куренком. А высокий и сильный добряк Иван остался при своем интересе. Он начал сторониться людей и, когда давал наряды на работу, все стеснительно и обиженно отводил глаза в сторону. С тех пор прошло десять лет, а грустная льдинка в глазах бригадира так и не растаяла...
Я-а на льдиночку но-о-ого-ой,
Ли-идинка выгнула-ась дугой,—
звонко и отчаянно запела Варька.
И-извини, мой милый Ваня-а,
Что
у-уве-ол меня-а ды-руго-ой.
Иван Кузьмич вздохнул, грустно улыбнулся и дрожащей рукой провел по усам. Касейко, наблюдая картину, тоже улыбаясь и краснея, вдруг шмыгнул носом, что-то проглотил, чесанул вприсядку и топнул ногой перед бригадиром.
Я-а-а пыритопыну-у но-огой
Да по ле-единочке-и другой-ой.
Па-аведи-и ие-о а-абратна-а,
Мы-ой соперник ды-арагой.
Грянул смех. Гутька не на шутку разошлась в пляске, кинула под курьи ноги Касейки алый свой плат.
— Уе-ел!
— Приз завоевал!
По-олюбила я жига-ана,
Па-арня деревенского-о.
У-уж такая ду-ура я,
Ду-урочка тюменска-ая-а.
Дремотно шевелит листвой померанцевая от низкого летнего солнца верба, и так грустно, так сладко пахнет осиновым дымом. Неужто с этим родным и самым нужным в твоей жизни придется когда-то расстаться! Расстаться, а потом каждую ночь видеть это во сне и знать, что, даже ослепнув, ты найдешь каждую щербинку на тропе, каждую извилину на коре берез вон в той роще, что, даже оглохнув, ты постоянно будешь слышать, как по-детски, беспомощно и неосторожно, звенит родниковый ручей в Индичишном логу, как гудят в душистой таволге пчелы и где-то в глубине чащи перелетает с дерева на дерево грузная птица. Но это потом, потом... Сейчас же все гораздо проще, потому что счастлив, а по-настоящему счастливым человек бывает только однажды — в детстве.
Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та — бегут поезда.
Тук-тук! Тук-тук! — бьется сердце.
И-иль проснуся сре-еди-и ночи-и,
И-иль пойду-у при бело-о-ом дне.
Ка-а-ари о-очи! Ка-ари о-очи!
Не даю-ут по-окоя мне...
X
На пасеке начали качать мед. По ночам дедушка сторожил ульи, обходил со своей берданкой лесную поляну, громко кашлял и даже изредка палил из ружья, сгоняя где-нибудь с мест сонную птаху или зайчишку. Иногда ходила с ним и Марьюшка.
— Чисто бьет! — говорил дедушка после очередного выстрела, прислушиваясь к лесному шелесту.
— Деда, а зачем ты стреляешь? — спрашивала Марьюшка.
— Стреляю-то? Жуликов отгоняю.
— А чо ты, деда, стоишь?
— Слушаю... Эк хорошо лист-то шумит!
— Деда, а чо ты ружье не заряжаешь?
— А зачем?
— А вдруг жулики?
— Да никого нет... Не бойся. Пошли-ко вон ишо ко гречихе, я в поле стрельну...
Днем на пасеку наезжало много народа. Суетился Аркаша-горбатый, весь в поту. Распахнув рубаху на мощной красной груди, крутил рукоять медогонки толстый мужик дядя Кузя. Районный ревизор с глазами, заплывшими от пчелиных укусов, и потому похожий на китайца, семенил тут же, принюхивался, что-то писал и уезжал под вечер, поставив в свой портфель большую эмалированную, крепко обвязанную тряпкой посудину. Марьюшка думала, что это его чернильница, потому что ревизор очень много писал, а для такого дела требуется наверняка немало чернил. Увозили на телеге и бидоны с медом, и по пути на склад подвода всегда останавливалась возле дома дяди Кузи, а потом делала крюк, чтобы проехать мимо Аркаши-горбатого, продавца Лидии Игнатьевны, потом заворачивала и вовсе в самый дальний конец деревни — к высоким тесовым воротам с чугунным колечком, за которыми жил лесник Федосей Данилович, и лишь после этого бидона доезжали до склада. А дедушка снова оставался караулить пустую медогонку, свежую щепу у крыльца избушки, ходил вокруг поляны и постреливал из берданки, печально слушая, как расскатывается и колется в ночном покое эхо. Утром он брал свой солдатский котелок, наполненный водой, которой споласкивал медогонку Аркаша-горбатый и, возвращаясь домой, тоже подходил ко дворам и всем показывал содержимое котелка.
— Водичку вот несу. Кха-кха!..— смущенно объяснял он.—Хорошая водичка, пользительная. Аркатей велел вылить ее на землю, да жалко. Несу вот домой, к чайку...
Бабушка встречала дедушку и сердито ругалась:
— И чо это ты у каждого дома котелок свой кажешь, будто он у тебя с золотом?
— Дак ведь подумают люди, несу что-нить...
— Чо подумают-то?
— Да что вот колхозный мед ворую... Несу в котелке...
— Так тебе Аркаша и оставил меда, открывай рот-от шире! И дурак же ты, Афанасей! Век прожил, а ума нету. Люди-то вон смеются над тобой! Аркашка с Федосейкой флягами мед-от хапают да никому не докладывают, а ты черепушку свою трясешь перед каждым.
— Ну и пущай смеются.
Потом пошли дожди. На улице стало мокро и грязно. С крыши лилась вода, шумели лопухи, и дерево за окном стояло в светлых и холодных брызгах. Марьюшка в ненастную погоду сидела дома и целыми днями рисовала цветными карандашами.
Подходила бабушка и, склоняясь над столом, любовно рассматривала картинки.
— А это у тебя кто? — спрашивала.
— Чапаев,— гордо отвечала Марьюшка.
— А-а! — бабушка кивала головой.— А чо это он держит в правой-то руке? Ведро, чо ли?
— Не ведро, а бочку,— сердито вдруг поясняла Марьюшка.
— А-а! Бо-очку? А чо в ей, в бочке-то, налито?
— Керосин.
— М-м! А в другой-то руке тоже бочка?
— Тоже.
— А в той чо будет-то?
— Бензин.
— Вона чо! И куда он, Василий-то Иванович, сто-ко горючего понес?
— Немецкий штаб поджигать!
— И-ешь ты! А это чо? — брала бабушка следующую картинку.
— Миклуха-Маклай,— отвечала Марьюшка. В прошлом году сосед Витька Звонарь читал ей книжку про умного и доброго путешественника, про жаркие страны и дикарей. Марьюшка с замирающим сердцем слушала повесть, а потом весь год иллюстрировала ее.
— А чо это он делает, Миколай-то? — допытывалась бабушка.
— С людоедом беседует,— объясняла Марьюшка.
— С людо-о-ое-едо-ом! — ахала бабушка.—Дак ведь он проглотит его, Миколая-то!
— Не Миколая, а Миклуху-Маклая,— сердилась снова Марьюшка.— И не проглотит.
— Пошто не проглотит? — не отступала бабушка.
— Потому что он белый.
— Ты это с чего, Манька, белых-то рисовать сдумала? — не на шутку тревожилась бабушка.— Нельзя их срисовывать. Белые — враги Советской власти. Сожги счас же картинку-то!
— А Витька Звонарь говорит...
— Нашла кого слушать! — возмущалась бабушка.— Он, пожалуй, назвенит!
Марьюшке жаль рвать рисунок. Уж так удачно получился на нем Миклуха, а еще лучше — людоед. Голова у него круглая, глаза красные. Сидит людоед на табуретке под елкой, на колени топор положил, а с топора кровь капает. Сидит людоед и очень внимательно слушает белого человека, который читает ему газету и делает вид, что страшного топора не замечает.
— Охо-хо, согрешила я, грешная! — вздыхает бабушка.—Ну, показывай, чо дале-то ишо есть у тебя?
— Гаданье,— бубнит Марьюшка.
— Вона чо! Какое гаданье?
— В Новый год. Вот девушка сидит перед зеркалом...
— А-а! Баская деушка-то, только глаза-то уж больно круглые. А чо она там, в зеркале-то заприметила?
— А это месяц в окошко светит,— продолжает Марьюшка.
— Ну и чо дале?
— А это черт за печкой прячется и карманным зеркальцем свет от месяца в девушкино зеркало наводит! Поняла?
— И, верно, черт! Ты сдурела совсем, Манька! Да разве можно нечистого рисовать-то? Он ведь счас от нас по леву руку стоит и тешится от радости. Нечистый тешится, а бог плачет...
— А бога нету! — вдруг заявляет Марьюшка.
— Бо-ога нету? — кричит бабушка, отшатнувшись подальше от крамольной внучки.— А землей-то кто тогда руководит?
— А земля по воздуху летает. Вот!
— Ба-а-атюшки! Вона ишо чо напридумывали-то! Да сколь живу на белом свете, земля все на одном месте стоит. И лес, и река, и согра все там же, никуда не улетели.
— А мы не видим, как они летают,— кричит и Марьюшка.— Потому что мы маленькие, как муравьи.
— Ты ково это, Манька, городишь-то? Муравьи-то вот экосинькие — с вошь будут, а мы большие и стоймя ходим. А ежели земля-то бы летала, дак мы разве устояли бы на ногах-то? Мы бы тогда и не ходили, а на четырках ползали, как муравьи.
Разгорается страстный спор. Бабушка со словами: «Пусть он позвенит ишо хоть раз у меня, фулюган!»— пускает в ход свое боевое оружие — сочный шлепок и прогоняет Марьюшку в горенку. Марьюшка, униженно рыдая от непризнаний и оскорблений, забирает свои картинки и ложится на кровать.
Дождь все льет. Развалив в стороны в тяжкой листве ветви, понуро стоят на лугу ивы. Отпал от тычины и скатался клубком мокрый хмель. Низкие серые облака плывут над землей, пенятся лужи. По дороге с блеяньем и мычаньем шумно проходит стадо. Озябший и перемокший под дождем пастух Петька Ляляхин, шурша по репьям подолом сермяги, бегает за коровами, хлещет бичом и ругается.
Успокоившись, Марьюшка снова берет чистый листок бумаги, старательно рисует избушку на кривой курьей ноге, а в избушке страшную старуху в бабушкином платке и мстительно думает: «Это ты, ведьма старая!» Потом в горенку заглядывает бабушка и мирным голосом спрашивает:
— Не
замерзла тут? Счас печу горнешную топить
буду. Айда каральки катать, я тесто
завела. Маню-ушка! Да ты никак Анфейку
Поскотину срисовала? Эвона! И платок-от
ее, Анфейкин! И нос-от долгий, как у
кулика. Так ей и надо! Вчерась гусей
своих к нам в огород запустила, а в
великоденный четверг у старой овечки
шерсть на лбу выстригла. Пошли, чо ли,
каральки-то стряпать!
XI
А дальше наступил ясный хрустальный день, и в согре среди мрачной зелени внезапно вспыхнул багряный верх осины. В такой день пришла радостная мать и положила на стол твердый аккуратный узел.
— Смотри-ко, милая дочь, чо я тебе купила-то! — сообщила она Марьюшке, развязала платок и начала показывать новенькие красочные книжки.— Скоро в школу! Вот тебе букварь, а это «Родная речь». Это арифметика. Я и платьишко тебе сшила, и атласную ленточку в косу заплетем. Слава тебе, господи, вот уж дочь до школы доростила!
Марьюшка долго смотрела в книжках картинки. Густая, такая знакомая и родная, чудная рожь с тремя великолепными соснами посреди поля, и дорога такая же, по которой Марьюшка бегает по ягоды через елань, за Талы — в шумный, плавно покачивающийся от ветра березовый лес. Только вместо сосен возле той дороги растут три больших березы. И стоят они так же, как на картинке, и ласточки так же летают над дорогой. Сколько потом будет дорог в жизни! И всегда! всегда будешь чувствовать почву только той — единственной, ведущей тебя через поле, у берез, она — та дорога, как живою водой вспоит тебя и вскормит, поставит на ноги и заставит идти, а не падать.
Или вот темный-темный лес. Двое детей, поставив к ногам корзинки с ягодами, кричат и зовут кого-то на помощь. Наверное, заблудились... Такой лес виделся и Марьюшке, когда они собирались с бабушкой к Старым воротам. Все-таки есть где-то такой лес, коли нарисовали его в книжке!
— Нива-то,
ишь какая! — сказала бабушка и вздохнула.—
Я вот все хотела в школу, а тятенька
покойный так и не пустил учиться. Чо,
говорит, милешам письма писать будешь?
А я ревела, просилась. Дак куда тама! За
прялицу посадили, а потом в няньки
отдали. Сколь горя-то хватила, все по
чужим людям жила! А грамотешку знала
бы, дак, глишь, где-нить и полегше было
в жизне-то. Счас вон заставляют учиться,
попробуй робенка не отдать в школу, в
сельсовет призовут. Учись, Марьюшка,
учись, миленькая!
ХII
Школа стояла на берегу реки, светясь тополями и жимолостью в темной, по-осеннему тихой воде. В ограде и в палисаднике полыхали желтые костры календулы, белые и розовые астры клонились целыми охапками к земле и были тяжелы от росы, еще не опаленный заморозками душистый табак вьюном взбегал по штакетнику. В классе тускло посверкивали парты, в горшках на подоконниках цвела герань.
Марьюшка в синем платьишке обмирая от внутреннего озноба и боясь шевельнуться, слушала учительницу Варвару Герасимовну, а та в длинном черном сарафане и белой, вспенившейся кружевным воротом кофте стояла с глобусом в руках возле зеркальной школьной доски, уже помеченной меловыми черточками и кружочками, и громко рассказывала.
— Глобус — модель земного шара. Зеленым цветом на нем обозначены равнины, коричневым — горы и возвышенности, а синим — моря и океаны. Глобус имеет два полушария — северное и южное. Мы с вами, дети, живем в северном полушарии. Сейчас у нас начало осени, а в южном наступает весна.
Варвара Герасимовна поставила глобус на стол, плавно подошла и указкой провела по большому красочному бумажному листу.
— А это карта нашей Родины. Обратите внимание на эту синюю ветвистую нить, которой изображена Волга. Ребята, наша Родина одна из самых могучих держав в мире. Город Москва — столица нашей Родины. Наша Родина...
Над родиной, тихо сияя, плыла алмазная паутина, и уже шумно роняли красную и золотую листву осинники, в кроваво-темных боярышниках возились сороки. О сваи моста глухо плескалась речная волна, и с глинистых сухих косогоров в горячей серебристой пыли свешивалась, обрушивала свои грозди полынь, и бабы на телегах везли в мешках картошку с полей.
— А сейчас, дети, мы пойдем в лес на экскурсию,— торжественно объявила Варвара Герасимовна.
Ребятишки повскакали с мест, загалдели, застучали крышками парт, с криком и визгом высыпали на улицу, и Марьюшка, уже без памяти влюбившись в учительницу, стараясь как можно больше попадаться ей на глаза, говорила всех громче, объясняя названия трав и цветов, волнуясь от непонятного, нежданного и великого счастья.
Едва миновали мост и, поднявшись на заречный берег, вошли в переливающийся светом, затканный паутинным вязаньем лес, сразу же увидели грибы.
— Дети! Дети! — позвала Варвара Герасимовна и наклонилась к земле.— Смотрите, вот один гриб. Один! А вот другой гриб. Один да один будет два гриба. А вон Витя Кузнецов сорвал еще грибок, Маша Ковалева, сколько будет всего грибов?
— Три гриба! — выпалила Марьюшка и залилась смущенным румянцем.
— Правильно, Машенька! — погладила ее по голове Варвара Герасимовна.— Шура Малышкин, сорви нам во-он тот листочек. Вон-вон красный...
— Это луговая герань! — снова выкрикнула счастливая Марьюшка.
— Та-ак, один листик,— не слушая ее, продолжала Варвара Герасимовна.— Сорви другой, вон тот... Это какой цвет будет, Шура?
— Зеленый! — опять громче всех радостно сказала Марьюшка.
— Зеленый! — подхватил Шура.
— Нет, Шура, не совсем зеленый. А зеленоватый с желтеньким,— пояснила учительница и тоже погладила Шурку по голове.— Каждое растение состоит из хло-ро-фил-ло-вых зе-рен. Эти зерна имеют только зеленый цвет. С наступлением осени хло-ро-филл разрушается и листва деревьев приобретает желтые и красные цвета.
Марьюшка тотчас же оборвала с березки листок и принялась внимательно его разглядывать, но никаких зерен не нашла и недоверчиво взглянула на учительницу. Варвара Герасимовна улыбнулась, кивнула ей головой и продолжила:
— Дети, хлорофилловые зерна невооруженным глазом заметить нельзя. Они очень-очень маленькие и потому их можно увидеть только в микроскоп. Но это вы будете проходить в старших классах.
Марьюшка хотела спросить, как надо смотреть в... в... мокро... скот, но не решилась, боясь, как бы ребятишки и сама Варвара Герасимовна не засмеялись над неправильно произнесенным словом.
— А теперь, дети,— сказала дальше учительница,— пусть каждый из вас наберет букет листьев, которые он нарисует дома к завтрашнему уроку.
Осенний лес был великолепен в своем багреце и золоте. В чаще светились и трепетали лимонные осины, перевесив через черные ветви красное шитье, склонялась калина, и где-то позади в солнечных прогалинах брызгало изумрудным огнем озимое поле, Марьюшка быстро набрала пламенеющий пестрый осенний букет. Тут была и рубиновая луговая герань, и бледные желтые листья вороньего глаза, и в рыжеватых подпалинках с набором твердых сизых плодов соломонова печать, и в сквозном багряном пожаре узоры таволги.
Придя домой, Марьюшка сняла платьице, бережно, как всегда учила ее бабушка обращаться с вещами, повесила его на край стула и, забыв о топленом молоке и сдобном кренделе, принялась за рисование. Она очень долго выводила на бумаге зубчатый край березового листа, малевала оранжевым карандашом прожилочки, затем желтизну подкрасила голубым. Нарисовала и осиновое дерево с черной дыркой дупла на стволе, а внизу изобразила кривой грибок.
Бабушка копала на огороде картошку, пришла в дом, сполоснула руки и похвалила рисунки.
— Пятерку завтра тебе поставят. А это чо у тебя за черточки в небе-то?
— Где? — недовольно покосилась Марьюшка, отодвигая от бабушки картинку подальше.— Это? Журавли летят.
— Правильно! Скоро, с Семенова дня уж полетят журавушки-то. А там и козарки, глишь, тронутся... Интересно, как ноне, высоко или низко, они полетят-то? Высоко козарки летят — снега будут глубокие, зима холодная. А низко — к зиме мозглой, снегу малому. Это чо, заданье вам седни такое задали, чо ли? А то, поди, надо буквы учить, а ты не сказываешь. Поди, неохота, буквы-то тебе учить, а?
— Ну да!—обиделась на такое недоверие Марьюшка.— Мы седни с Варварой Ерасимовной в лес ходили, и она велела дома нарисовать листики к завтрашнему уроку. Поняла?
— А-а! Смотри у меня! Ежели обманула, все равно узнаю. А ежели велено, то рисуй. Пятерку заробишь!
Бабушка взяла букварь, полистала страницы, вздохнула.
— Сколь у тятеньки в школу просилась, дак не пустил! А в тридцатом годе открыли у нас курсы, я походила немножко. Буквы-то вот знаю, а дале непришлось учиться. На торфяники за Свердловско поехали, в дороге-то Афанасей искурил мой букварь-то на паперески. Тоже был поперешный мужик.
Бабушка села на краешек стула и грязным узловатым в черной сетке морщин пальцем медленно повела по печатной строке:
— Ды-ы,— громко, нараспев произнесла она.— Ды-ыо-о-мы-ы-ны-ы. Хм! Ны-а-а... Ды-омыны-а-а... Домна! Ишь ты, прочитала ведь я, Манька! Дыо-мы-на... Домна!
— Где Домна? — заглянула в букварь Марьюшка.— Тут дым нарисован, а не Домна.
— Ну дак и чо? Домна печку топит,— сердито утвердила бабушка и продолжила чтение.— Хы-ы... а Хыа! Хы-а-тыы-а-а... Хы и ты... Ха-та! Хата? С чо хата-то? Избушка нарисована, не хата. Хаты-то, говорят, на Украине хохлы строят. Откуда они у нас в Сибири-то взялись? Так бы и писали — избушка. А то хата какая-то? Мы-а-ры-а-а... Мыары... Все слова-то какие-то нерусские. Может, мыра? А чо ишо за мыра? Или мир? Мы-а-ры-а... Конечно, мир! Ишь, какая баская девочка нарисована. Бантик завязан, платьицо баское. Верно! Будет мир, будет и девочка обута и одета. Чо тута непонятного-то? Знать, грамотные люди книжку-то составляли, знают чо к чему. А ты пошто не обедала-то? Давай ешь, да пошли в огород. Тама у меня тако-ой помидор сидит! Кра-асный, большой! День-от какой славный. На улице-то как в церькве!
В школу назавтра Марьюшка пришла раньше всех. Уборщица тетя Зоя мыла крыльцо и, увидев ее, сказала:
— Ты, Маша, чо так рано-то? Спала бы! Надоест еще школа-то.
— А я листики нарисовала,— ответила Марьюшка и показала тете Зое рисунки в тетради.
— Хорошие листики! — похвалила тетя Зоя.— Ишь как ты их разукрасила. Молодец!
Прибежал Шурка Малышкин, шумно дернул носом, бросил сумку под парту. Потом схватил указку, начал целиться из нее и поскакал по классу.
Пришли и остальные ребятишки. Снова загалдели, забегали, но тут в класс своей плавной походкой с рулоном бумаг и большим портфелем вошла Варвара Герасимовна, и все стихло.
— Здравствуйте, дети!—ласково сказала она.— Шурик, заправь рубашку в брюки! Маша Ковалева, ты почему сидишь? Ребята, при входе в класс учителя надо всегда вставать.
Марьюшка, залившись краской, встала и опустила голову.
— Та-ак. Садитесь, дети.—Варвара Герасимовна с шуршанием разложила на столе бумаги, вытащила из портфеля коробочку и раскрыла ее.
— Сейчас мы с вами будем считать палочки. Вася Смирнов, иди к доске! Будешь повторять за мной. Та-ак, оди-ин!
Варвара Герасимовна вытащила из коробочки палочку и показала ее всему классу.
— Оди-ин,— протянул Васька.
— А это два-а! —показала Варвара Герасимовна вторую палочку.
— А это два-а! — повторил Васька.
— А «это» не нужно. Просто два-а...
— Просто два-а...
— «Просто» тоже не надо. Просто два-а!
— Просто два-а...— снова сказал Васька.
— Вася!— строго прервала Варвара Герасимовна.— Слово «просто» произносить не нужно. Два-а-а! Повтори снова!
— Два-а! — повторил Васька.
— Очень хорошо. А это три-и-и,— вытащила Варвара Герасимовна следующую палочку.
— А это три-и...
— Вася! Садись пока на место. К доске пойдет Тая Малышкина.
Марьюшка с замиранием сердца ждала, когда Варвара Герасимовна посмотрит на нее и скажет: «А теперь Маша Ковалева покажет нам свои листочки». Как Марьюшка радостно протянет ей тетрадку с рисунками и Варвара Герасимовна, открыв ее, увидит не только листики, но и поникшие в ярком желтом соцветии березы, и перевязь калиновых ягод, и журавлей в синем-синем небе, ведь Марьюшка для того и рисовала, чтобы все это увидела любимая учительница...
— Маша Ковалева! — вздрогнув, услышала она голос Варвары Герасимовны и взглянула в ее строгие голубые глаза.
— Маша, повтори!
Маша встала за партой, неловко зацепила рукавом платья крышку.
— К одному прибавить один, сколько будет?
— Т...три,— выговорила Марьюшка.
— Один да один?
— Од... один...— промямлила Марьюшка.
— Маша, урок надо слушать внимательно, а не смотреть в окно. Садись на место! Шура Малышкин, повтори!
— К одному прибавить один получится два! — бойко выпалил Шурка Малышкин и победоносно швыркнул носом.
— Умница, Шура! — похвалила учительница.
Потом все хором повторяли:
— А-у-у! У-а-а! А-а-а! У-у-у!
Когда занятия кончились и Варвара Герасимовна отпустила всех детей домой, Марьюшка все-таки набралась храбрости, подошла к ней и тихо сказала:
— Варвара Ерасимовна, я листики нарисовала... я...
— Вот и хорошо! — прервала Варвара Герасимовна.— Только, Машенька, я не Варвара Ерасимовна, а Герасимовна. За речью своей надо следить. Беги домой, детка! Ты поняла домашнее задание?
— Д... да,— ответила Марьюшка и, собрав книги, выбежала из класса, который показался ей почему-то душным и пустым.
— Ну и чо? — встретила ее бабушка.— Как учеба-то? Чо тебе за картинки-то поставили?
— Ничо,— быстро ответила Марьюшка.— Похвалили.
И стыдясь своей лжи, бабушкиных вопросов, она побежала в огород, а потом по тропинке к матери на ферму. Мать с доярками возили на быке Кузьке сено из-за реки и складывали его под навесом, и, играя в копнах с веселым, как всегда, бестолково лающим на всех Жуликом, обедая с бабами печеной картошкой и соленым ржаным хлебом в поле у догорающих головней, а потом медленно покачиваясь на высоком возу, слушая скрип колес и шорох красных черемух, Марьюшка забыла о школе. Лишь поздно вечером, когда сквозь поредевший лес засверкал крупный медный месяц, Марьюшка вдруг вспомнила, что завтра снова надо идти в школу. «Убегу на пасеку к дедушке,— решила она, тоскливо глядя на рассыпанные далеко в полях огненно-желтые брызги.— Накопаю картошки и буду жить».
— Ма-аня-а! — позвала ее мать.— Ты где тама спряталась?
— Я не спряталась... Я на месяц гляжу.
Мать подошла к Марьюшке, нагнулась и заглянула ей в лицо.
— Ты чо, Маня, плачешь, чо ли?
— Не, не плачу.
— А чо голос вздрагивает? Замерзла? Пошли домой! Я давеча лампасеек купила. Хошь?
Мать достала из кармана телогрейки круглую жестяную баночку и подала Марьюшке.
— Пошли домой, миленькая! Стемнело уж.
По дороге домой им вдруг повстречалась Варвара Герасимовна.
— Анна Афанасьевна! — окликнула она мать.— С работы идете? Здравствуйте!
— Драстуйте, Варвара Ерасимовна! — улыбнулась мать и остановилась.— С фермы вот катим, с дочерью под ручку. Сено седни возили с Микуленских полей, зима ведь скоро, Варвара Ерасимовна!
— И Маша вам помогает?
— Помога-ает! Она у меня девка хорошая!
— Молодец, Маша! Только вот, Анна Афанасьевна, вы бы немного позанимались с ней... Девочка она хорошая, впечатлительная, живая, только рассеянная какая-то. О чем-то другом думает. Вы ее, Анна Афанасьевна, поторопились отдать нынче в школу,— продолжала говорить учительница.— Ей же шесть лет всего. Надо бы еще годик подождать. Боюсь, отставать будет.
— Да пущай уж учится,— вздохнула мать.— Она ведь, Варвара Ерасимовна, рисует у меня хорошо!
— Это, конечно, Анна Афанасьевна, неплохо.
Подходя к дому, Марьюшка вдруг сказала:
— Мама, давай я учиться не буду.
— Вон чо! Чо это так? А кого делать будешь?
— Давай я буду работать с тобой на ферме, коров доить пойду.
Мать всплеснула руками и захохотала:
— Да ты в уме, Манюшка? Коро-ов дои-ить!.. Нет уж! Ты у меня врачом станешь! Хочешь врачом-то быть? Али на инжинера выучишься! Культурной станешь, кудри навьешь, в дохе ходить будешь.
— Я художником стану! — буркнула Марьюшка.
— Ой, да никого ты ишо в жизни, Машунька, не понимаешь. Ишь, баушка печку затопила, ужин готовит.
За
столом, возле самовара, в котором звенели
и скреблись крохотные сказочные зверьки,
слушая их тонкое, едва уловимое пение,
Марьюшка ела картошку и пила чай с
молоком.
ХIII
В воскресенье пришла старушка Таня. Положив под порогом мешочек с сухарями, она долго крестилась на божницу, перевела взгляд на бабушку и сказала:
— Драствуй, Арина Ивановна! Как живешь-то, матушка моя?
— Да ничо. Живу — хлеб жую,— ответила бабушка и подвинула к столу табуретку.— Проходи, Таня! Садись лапшу хлебать.
Бабушка налила в чашку лапши, отрезала хлеба.
— Садись, Таня, поешь. Годы нонешные, слава тебе господу, не голодные. Пшаницы нонче шашнадцать центнеров получили, меда на трудодни дали, горох завтра поедем получать. А так картошку-то бы докопали, дак в колхоз ходила я, лен рвать помогала. Погода стоит хорошая, а в дош лен-от холера бы не рвала!
Таня сняла сермягу, вытащила из кармана бумажный комок, развернула и протянула Марьюшке розового леденцового петуха.
— Спасибо!—обрадовалась Марьюшка. Она любила Таню и просиживала вечера, слушая чудные были и сказки, которые Таня рассказывала бабушке.
Пообедав и бережно собрав со стола крошки в ладонь, Таня повеселела, засуетилась и принялась штопать мешки под горох.
— Грех в воскресенье-то робить, Арина Ивановна, да ведь чо для хлеба деется, то прошшается богом. Льны-то ничо ноне?
— Хорошие льны,— сказала бабушка и тоже с длинной иглой села за штопку.— Только вот осота много.
Пришел дедушка, начал жечь в огороде картофельную ботву.
Марьюшка помогала ему, таскала в огонь гороховую мякину, огуречные плети. К вечеру дедушка зарубил курицу, с горшком сусла пришла из-за реки кума Дарья.
— Баба, а ты мне сказку седни расскажешь? — шепнула Марьюшка, когда бабушка потрошила курицу.
— Ска-азку? Вон чо! Да ты ведь теперича грамотная, сама читай сказки-то. Охо-хо! Скоро сказка сказывается... Ну-ко, Манька, не вертись тута коло меня. Курицу-то палить надо, а то печка протопится...
— Верно, скоро сказка сказывается!—вздохнула в углу Таня. Она сидела на лавке и перевязывала бечевкой семенные головки мака.— Сказка только и хороша, когда человек маленький. А вырастешь и пойдешь мучиться, изо дня в день, из года в год. А хорошо только тогда, когда ничо не понимаешь.
— Ты вот, Таня, много, наверно, людей-то видала,— подала с печки голос кума Дарья.— Разный народ-от бывает, али весь одинаков?
— Да как сказать,— Таня перекусила бечевку, повесила шумливый маковый снопик на гвоздь.— От рожденья люди все одинаковые, а тама дале, как жизть кого поведет. Разные, конечно, люди. Хороший человек живет радуясь, и вся радость от любови его. А плохой и не рад, что живет, потому что не знает, что и с жизтью своей делать. В ем и сердце малое, сухое, и кровь вялая, и жолсти много. Такой человек только собой занят. А хороший даже и в печале хороший, и свет от его идет, потому что он весь на стороны открытый...
После ужина Марьюшка сидела на лавке и, сонно клонясь головой на старый дедушкин полушубок, видела, как за окном сквозь темные оголенные деревца где-то далеко, на другом берегу, горит огонь. Вот уже и совсем истаяло, ушло в землю пламя, и во мгле остался пурпурный шнурок головешки, потом потянулись длинные тени изгородей, засеребрилась на склоне Репейных горок гладкая укатанная дорога. Марьюшке показалось, что кто-то проехал по ней, с глухим звоном тряхнулись бубенцы и где-то тихо и стройно запел хор... Та-та-та-та-та-та-та...— торопливо застучали колеса на далекой железной дороге и сквозь их стремительный лет все также слышалась далекая хоровая песня.
На тулуп прыгнула Заслонка и сказала бабушкиным голосом:
— Маня, ты бы раздевалась да шла на место...
— Да пущай пока поспит,— ответили из-за реки Таниным голосом и махнули головешкой за окном.
— Дак ведь разоспится...— продолжала Заслонка.
— Ну и чо? Перенесешь на руках,— сказала головешка.
Потом языкастый рдяной костер жадно лизнул угол огорода. В багровых сполохах и с трезубцем в руках появился дедушка, воткнул в горящее полено ручку от медогонки и начал крутить ее. Из костра шумно порснули красные осы и залетали, замельтешили над головой.
«Брысь!» — сказала Марьюшка. Она вдруг открыла глаза, увидела тускло мерцающий от лунного сияния бок самовара, голубую дымную и ветвистую тень на шторке. Из горницы, из-под закрытой двери на кухню лилась бледная огненная полоска и доносился негромкий Танин голос.
Марьюшка вздрогнула и очнулась. Ей показалось, что кто-то плачет за окном, кто-то окликает и зовет ее к себе.
И снова кто-то со стоном, жалуясь и прощаясь, далеко-далеко вскрикнул за окном. Марьюшка настороженно, с колотящимся сердцем встала с лавки, ступила на половицу и прислушалась. Нет, никто не плакал на улице, никто не звал ее...
«Крло-о-онк!» —вдруг тихо и отдаленно подал кто-то взмолившийся тоскующий и чистый голос. «Крло-о-о-о-о!»— музыкально отозвалось ему вдалеке.
Таясь, Марьюшка выбежала из дома и, облившись лунным сиянием, застыла на крыльце.
— Крло-о-онкр-ло-о-о! — окликнули ее с высоты.
Она подняла голову, отыскивая в небе того, кто звал ее. И увидела! Над тихой и прекрасной осенней родной землей, над спящей речкой, над позолотными ее ивами и белой, угрюмо искрящей стволами берез согрой, над железной дорогой и лесными, в оцепеневшей паутине, полянами, где еще запоздало цветег синяя странная трава горечавка, плавно ломаясь неровными волнистыми углами, летели журавли, и так непонятно, и так радостно и тревожно было от их горюющего, жалующегося на разлучную боль, прощального зова!
Куда они зовут? Что они знают?
Над чем рыдают они?
1977—1982 гг. д. Кузнецово
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





