ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


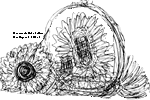
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Уварова Людмила 1978
Все-таки удалось отыскать тихое место. Тихое, безлюдное, небольшой лесок, озеро, поросшее кувшинками.
Купаться в нем, разумеется, нельзя, весь берег, куда ни глянь, в безвестных лиловых, голубых, сиреневых цветах.
Далеко на горизонте молочные, легкие облака.
— Остановимся здесь, — сказал он. — Хочешь?
— Пожалуй.
Она легла на землю, заложив руки за голову. Почему это так редко нисходит на человека такой вот всеобъемлющий покой, когда можно лежать, смотреть в небо и ни о чем не думать, решительно ни о чем, просто лежать себе и лежать, ощущая прохладную траву под головой, вдыхая ее свежий, незамутненный запах.
Он лег рядом с нею, слегка нагнув голову, серьезно, вдумчиво вглядывался в ее лицо, словно впервые увидел.
— У тебя глаза сейчас совершенно прозрачные.
— Знаю.
— Откуда знаешь? Ты же не видишь...
— Чувствую, что у меня глаза прозрачные, будто выцвели. Верно?
Он потерся щекой о ее щеку.
— Ты у меня чудак.
— Наверно!
— Не наверно, а наверняка. Самый обыкновенный, нормальный, ничем не выделяющийся чудак. Так сказать, соответствующий стандарту.
— Перестань, — сказала она. — Сколько можно ребячиться?
Она была старше его на несколько месяцев, и, должно быть, поэтому он казался ей иногда несмышленым, неразумным. И она постоянно поучала его, одергивала, а он нисколько не обижался.
Вообще-то, все у них давным-давно было договорено и решено. Дело оставалось за небольшим — за местом под крышей.
Он жил в общежитии, она вместе с родителями в одной комнате, пять в длину, три в ширину. И надеяться пока что было не на кого. А придумать что-либо, хоть голову сломай, казалось попросту невозможным.
Зимой они бродили подолгу по улицам, заходили в кино, потом снова принимались бродить, с завистью поглядывая на освещенные окна, где было, наверно, тепло, уютно, горели цветные абажуры, где на стенах мелькали тени людей, которые казались все как один необыкновенно счастливыми, преуспевающими.
Конечно, летом было куда легче. Летом он садился на свой старенький мотоцикл «Харлей-Давидсон», подаренный ему от широты душевной старшим братом, отмахавшим на этом мотоцикле за пятнадцать лет никак не менее двухсот с лишним тысяч километров; так вот, он садился на мотоцикл, а она позади, на багажник, обняв его обеими руками за талию, и они неслись по Ленинградскому шоссе, и дома мелькали друг за другом, надвигались и вновь отступали стремительные деревья, а они неслись себе, подпрыгивая и отворачивая лицо от мелких придорожных камешков, потом съезжали куда-нибудь по тропинке в лес.
Однажды она спросила его:
— Почему у нас так получается?
— Как?
— Вот так. Ведь нам нужно совсем немного, ну пять, даже четыре квадратных метра.
— Я же тебе все время говорю, — сказал он. — Чудак человек, почему не хочешь приходить к нам в общежитие? Хотя бы иногда...
— Не хочу, — ответила она. — И не уговаривай меня, ничего не выйдет!
Как-то она согласилась на его уговоры, пришла к нему в общежитие. Трое соседей его вдруг быстро вскочили, мгновенно исчезли как пар. И только один, толстый, неприветливый, которого все почему-то звали Федя Убей Медведя, как лежал на койке, так и не шевельнулся, откровенно, неприязненно глядя на нее. И она посидела немного, совсем немного, минут двадцать, не больше, потом быстро поднялась и убежала.
С тех пор, когда он звал ее прийти к нему в общежитие, ей каждый раз вспоминались наглые, припухшие глаза Феди Убей Медведя, и она упорно отвечала на все уговоры:
— Не хочу! Ни за что!
А здесь было хорошо. И нигде ни одного человека. Словно все кругом сговорились не мешать им.
— Молчи, — сказала она. — Закрой глаза и молчи!
Они долго лежали молча. Где-то совсем близко застрекотал кузнечик.
— Как думаешь, он заблудился? — спросила она шепотом.
— Не знаю, — также шепотом ответил он. — А почему ты шепчешь? Чего ты боишься?
— Сама не знаю.
— Я с тобой, — сказал он. — Ничего не бойся.
Она спросила:
— Ты меня любишь?
— Ты же знаешь...
— Ничего я не знаю, — сказала она, закрывая глаза.
Потом они вместе насобирали сучьев, сухих веток, положили снизу газету, и он разжег костер с одной спички.
— Отдохни, — сказала она. — А я пока что приготовлю обед.
— Вместе приготовим, — сказал он.
Они захватили с собой много всякой нужной всячины, бидончик с квасом, огурцов, редиску, зеленый лук. Она приготовила чудесную окрошку, они выхлебали по две миски, заедая окрошку ржаным хлебом, пахнувшим медовой цветочной пыльцой. Он испек картошку, и она пожарила яичницу с салом на сковороде, насквозь черной от углей.
И на сладкое ели первую клубнику; он брал ягоду, откусывал от каждой половинку, а вторую половину давал ей. Она намазала лицо клубникой, клубничный сок засох на ее лице, он смеялся:
— Краснолицая сестра моя...
Она сказала:
— Это очень хорошо для кожи.
В конце концов они решили искупаться. Плевать на все, на кувшинки и ряску, затянувшую поверхность озера. Стоячая вода, в сущности, тоже хорошая вещь в жару!
Он первый полез в воду, дошел до середины, обернулся к ней.
— Иди ко мне!
Она не умела плавать, он положил ее на свои руки, она била ногами по воде, глаза у нее были испуганные и веселые.
— Я не могу, — сказала она. — Просто не могу и ногой шевельнуть, если не чувствую дна...
— Подожди, — сказал он. — Вот поедем на Волгу, я тебя научу плавать как следует! Там есть где разгуляться, Волга — река широкая!
— И в Угличе широкая?
— Вот такая!
Они вылезли на другом берегу. Там было так же пустынно, блаженный покой расстилался над плоским берегом, палило солнце, начисто согнав с неба все, какие были, облака.
— Теперь будем только сюда ездить, — сказала она. — Или на тот, или на этот берег...
— Нам остается август и, может быть, сентябрь, если будет погода. В июле — махнем в твой Углич.
— Почему это в мой?
— Ты же первая сказала — в Углич, но я согласен, не думай...
Он постоянно уступал ей. Еще зимой они задумали поехать отдыхать вместе, благо и отпуск у обоих совпадал — июль.
Сперва она хотела на юг, и он согласился. Потом передумала, решила в Прибалтику, там песок, дюны и сосны высоченные, а весной вдруг сказала:
— Поедем на Волгу, в Углич. Я прочитала в путеводителе, Углич — это очень старинный город.
— Там убили царевича Димитрия.
— Мы не царевичи, — сказала она, — нас не убьют.
Он и тогда согласился с нею. Углич так Углич.
Она сидела, охватив колени руками. Он смотрел, как солнце беспощадно сушит капли на ее плечах. Лицо у нее было сосредоточенным, напряженным, словно она пыталась разгадать некую тайну.
— О чем задумалась?
— Ни о чем.
— Неправда, скажи, о чем?
Она не ответила, снова легла, раскинув руки, подставляя закрытые глаза солнцу.
Вспомнилось, как в прошлом году поехала отдыхать в Алексин, на Оку. Он не поехал с нею — не дали отпуска.
Город весь окружен лесами. Ока в зеленых берегах, пляж не хуже, чем в Анапе, сплошной песок.
Ее научили ловить рыбу.
Как-то, когда сидела она с удочкой, застывшая, будто истукан, мимо проехал в лодке старик бакенщик, громко, презрительно произнес:
— Бабы за мужицкое дело взялись...
А она наловила тогда с десяток пескарей. Очень хотелось, чтобы старик увидел ее улов, что бы сказал тогда. Но он не показывался больше. И она долго сидела на берегу, глядя на розовые закатные облака. Река тоже была розовой, розовато-серебряная вода даже на глаз казалась мягкой.
Она не умела плавать, но ее тянуло выкупаться, и она решилась, окунулась возле самого берега.
Вот если бы он был с нею, если бы видел то, что видит она, — розовую спокойную воду, теплый песок, пескарей в ведерке, темную кромку дальнего леса. Ее переполняло, не находя выхода, чувство неразделенной радости, и она тогда, прямо тут, на берегу, быстро написала ему письмо о том, как ей скучно без него, что рыбы здесь невероятно много, что, если бы он сумел хотя бы на один день приехать сюда, только на один денек...
Письмо она опустила в почтовый ящик на городской площади, а позднее спохватилась, рассердясь на саму себя: тоже придумала, словно маленькая, шутка ли, на один день приехать, а у него там, она же знает, самая запарка...
Он осторожно провел пальцами по ее щеке.
— Это у тебя от клубники.
— Что?
— Кожа нежная, как у новорожденного.
— Ты меня никогда не разлюбишь? — спросила она.
— Никогда, ты же знаешь.
— Мы, бабы, чудны́е, нас надо обязательно уверять все время, что мы самые замечательные, прекрасные, лучше всех!
— За всех баб не скажу, но ты лучше всех.
— Дай честное слово.
— На!
Они лежали, прижавшись друг к другу, и думали о том, что оба думают об одном и том же. Но они думали каждый о своем.
Она представляла себе, что вот случится чудо, и они получат комнату, маленькую, самую что ни на есть крохотную. Чтобы там только стол и кровать, и все, и больше ничего не надо, и они будут жить вместе, утром уходить на работу и вечером возвращаться домой, и это будет очень здорово.
Она позвонит ему в середине дня, спросит:
«Ты когда будешь дома?»
А он скажет:
«Сейчас иду домой...»
И она все равно прибежит первая, потому что надо будет приготовить для него домашний обед, чтобы ему пришелся по вкусу, ведь никогда столовку не сравнишь с домашней едой, никогда в жизни!
А он думал о том, что надо будет перейти в монтажный трест, там зарплата больше, только придется часто ездить в командировки, но все равно там лучше, и начальник треста умница, с ним можно найти общий язык, не то что теперешний, самодур и тупица. И еще надо будет осенью заняться мотоциклом, тормоза дурят немного, хорошо, что он сумел изучить свой «Харлей» и может с ним управляться. Другой бы на его месте давно бы сверзился...
И о ней он думал, удивляясь ей. В самом деле, чудны́е существа женщины, им слова, как подкормка, нужны, одни слова, неужели сама ничего не понимает? Неужели не надоело слушать все про одно и то же? Должно быть, не надоело. Был бы он женщиной, и ему бы не надоело. Впрочем, конечно, это приятно, когда говорят, что тебя любят...
Потом мысли его спутались, и он заснул, а она заснула еще раньше, и вокруг них завистливо жужжали-кружились пчелы, потому что от ее щек вкусно пахло клубникой.
Поздно вечером они отправились обратно в Москву. Она снова села позади него, охватив его обеими руками.
Фонари догоняли их, никак не могли догнать. Перемигивались фары встречных машин.
— Москва, — сказал он, повернув к ней голову. Он мог бы и не говорить: все сильнее, все настойчивей пахло бензином, раскаленным асфальтом, все гуще становилась пыль.
— Не гони так, — сказала она. — Я боюсь.
— Со мной ничего не бойся!
— Боюсь, — повторила она, вдруг поняв, что больше боится за него, а потом уже за себя.
Он нажал на тормоз, и машина послушно замедлила ход.
Был первый час ночи, но небо все еще матово светлело над городом.
Они подъехали к ее дому, он развернулся, крутанул перед подъездом. Во всех окнах дома горел свет.
— Смотри, никто не спит, — сказала она.
— Спать жалко, — сказал он. — Ночь, как в Ленинграде, белая...
— Я недавно песню слышала, как это там, погоди...
Она закинула голову кверху, шевеля губами, вспоминая, потом засмеялась, радуясь, что вспомнила:
— Вот слушай:
Белая ночь коротка, коротка,
Да не с кем ее коротать.
Пой мне, гитара, о счастье,
пока Заря не устанет пылать...
Хорошо?
— Ничего.
Он не скрывал от нее, что не шибко разбирается в поэзии.
— Надо гитару с собой взять в Углич, верно?
Она повторила еще раз:
Белая ночь коротка, коротка...
Он оглянулся. Возле двора стояли люди, все говорили разом, в одно время, не по-ночному громко.
— Давай отъедем, — сказала она. — Не хочется никого видеть.
Они объехали дом и остановились на углу. С соседнего бульвара доносился шелест деревьев. Деревья шумели, словно озеро в непогоду.
— А ночью дождь будет.
Он обнял ее плечи.
— Устала?
— Нисколько.
— В следующий раз опять туда поедем?
— Да. Мне понравилось.
— Знаешь, — начал он. — Бывает с тобой вот так вот: приедешь куда-нибудь в лес, или на реку, или даже в другой город, и если было тебе хорошо, пусть даже был там немного, самую малость, но всегда жалко уезжать оттуда?..
— Верно, — подхватила она. — И всегда кажется, что бросил что-то очень нужное, что ли, или какую-то часть себя, правда?
— Вот-вот.
Помолчали, думая оба уже об одном и том же, о том, почему это им в голову так часто приходят одинаковые мысли, наверно, такое бывает не у каждого...
Он стал рядом с ней, держась одной рукой за седло мотоцикла.
— Если бы не уходить сейчас никуда...
— Подожди, мама с папой скоро уедут...
— Так и мы уедем...
— Мы вернемся, а они еще недели через полторы...
Он поцеловал ее.
— Даже как-то не верится, почти целый месяц, и все время вместе.
— Мне тоже не верится. Осталось двенадцать дней.
— Одиннадцать. Сегодня уже не считай. Сегодня уже наступило.
— Значит, одиннадцать. Еще одно воскресенье, а следующее — в Угличе.
— Ладно.
Он сел на седло, положил на руль обе руки.
— Завтра позвоню.
— Когда?
— В десять.
— Жду!
Но по привычке она еще долго стояла, провожая его глазами, прислушиваясь к постепенно затихающему треску мотоцикла.
Потом повернула к своему подъезду. Окна в доме не гасли, решительно все окна.
Какие-то люди шли ей навстречу. Она вгляделась — соседи из ее квартиры. В другое время она бы обязательно спросила, почему они так поздно не спят, но сейчас не хотелось ни с кем говорить, ни о чем бы то ни было спрашивать.
Она побежала было в другую сторону, боясь ненужных встреч, лишних разговоров, но кто-то из соседей, она так и не успела узнать кто, крикнул ей вдогонку:
— Слышала? Война! Сегодня в шесть утра!
А она побежала быстрее, все еще не понимая смысла сказанных слов, и, вдруг осознав, остановилась.
Кругом что-то говорили, спорили, не слушая друг друга, зачем-то глядели на тихое летнее небо, словно ожидая, что там, среди безмятежных ночных облаков, вдруг появится вражеский самолет, и опять говорили, лишь она молчала, как бы лишившись слов.
Было удивительно, неправдоподобно, что еще совсем недавно, какой-нибудь час назад, был покой, ни с чем не сравнимый, отрешенный от всего будничного, привычного, когда, думалось, на всем белом свете только они одни и никого больше...
Внезапно как бы со стороны она увидела себя и показалась самой себе такой маленькой, незначительной, как незначительны были ее мысли перед лицом того грозного в своей беспощадной неоспоримой правде, что обрушилось на нее, на всех...
Словно где-то в другом, далеком, удивительном мире осталось солнце, тишина, радостный пчелиный звон, и трава, и мягкая вода, и костер, зажженный им с одной спички, и его руки на руле мотоцикла, и Углич, куда они собирались поехать, где много церквей, и Волга — широкая река, и зеленые улицы, все то, что уже так и не придется увидеть...
С тех пор прошли годы. Много раз тяжелые снега одевали землю, и большая вода по весне смывала ноздреватые снежные сугробы.
Дети вырастали, становились взрослыми, старики старились, рождались и умирали люди, и каждому представлялось, он является центром всего того, что его окружает, и, может быть, в чем-то это и была правда.
Война, которая длилась почти четыре года, кончилась. Всему приходит конец. Но далеко не всем суждено было вернуться с фронта домой.
А она осталась жить и, как водится, постарела, изменилась, неощутимо для себя, но заметно для других.
Случались в ее жизни, как и в любой другой жизни, радости, их сменяли заботы, и снова бывали светлые дни, и на смену им опять приходили печали.
В суете дней забывалось многое, но иногда, не часто, память упрямо возвращала его лицо, освещенное солнцем в тот жаркий июньский день, и даже голос его снова звучал в ее ушах, глуховатый, негромкий, как бы тоже согретый солнцем.
Давно уже нет на земле его лица, и голос затих, и уже никогда, никогда не услышать слов, которые он мог бы сказать ей.
Но где-то под Москвой, она знала, до сих пор живет это озеро, и берег, поросший цветами.
И ни разу она не пыталась поехать туда, где однажды ему и ей довелось быть счастливыми. Наперекор всему — счастливыми. Уже целый день шла война, а они ничего не знали и оставались на целый долгий день счастливей, чем весь остальной мир...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





