ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

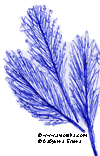

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
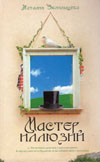
рекомендуем читать:

© Гёбль Полина 1932
* * *
5 февраля 1817 г. я оставила Бовé, где так тихо провела несколько лет между родными и подругами. Переезд был небольшой: я на другой же день была в Париже. Тут только я почувствовала всю горечь моего нового положения, очутившись между людьми мне незнакомыми, совершено чужими, к тому же малообразованными.
Их привычки, образ мыслей, обхождение — все меня шокировало, и много стоило мне слез и усилий, чтоб сломить себя и привыкнуть к ним, во-первых, а потом привыкнуть и к моим новым обязанностям, которые были совсем нелегки. (Контракт был на три года. Там кормили дурно, я ужасно плакала. Каждый год ездила к матери на именины. Потом поместили сестру, она не вынесла, после шести месяцев вернулась домой. Она и брат дивились моей силе воли, сестра хотела отравиться.) Условия контракта были самые строгие: я не могла никуда выйти без позволения хозяев. Впрочем, не имела охоты, потому что Париж возненавидела, и во все время, проведенное мною там, я ни разу не видела ни Версаля, ни других окрестностей Парижа, а ходила только к одной из моих теток, которая, потеряв мужа своего в кампании 1812 г. и оставшись тоже без всяких средств, должна была идти в гувернантки и жила тогда у графини де Блакер. Сама графиня и ее дети были очень приветливы и ласковы. У них-то я и проводила по воскресеньям несколько приятных часов, а, кроме того, не имела никаких других развлечений.
1823 года 17 сентября я выехала из Парижа, тогда истек срок контракта с домом Моно. Меня не пускали купцы, советовали мне открыть торговый дом и предлагали в кредит товар, но я не была уверена тогда в своих силах, сомневалась в умении повести такое большое дело и не решилась принять их предложение, а приняла другое: именно предложение ехать в Россию. Какая-то невидимая сила влекла меня в эту неизвестную в то время для меня страну. Все устраивалось как-то неожиданно, как будто помимо моей воли, и я заключила другой контракт — с домом Дюманси, который в то время делал блестящие дела в Москве.
Мать моя ужасно плакала, провожая меня. Я ее утешала тем, что вернусь скоро, но последние слова ее были, что она больше не увидит меня, и она мне напомнила один престранный случай, о котором в то время я совсем позабыла <...>.
Однажды в Сен-Миеле, когда я сидела в кругу своих подруг, те шутили и выбирали себе женихов, спрашивая друг друга, кто за кого хотел бы выйти. Я была между ними всех моложе, но дошла очередь и до меня, тогда я отвечала, что ни за кого не пойду, кроме русского. Все очень удивились моему ответу, много смеялись надо мною и заметили, что у меня странная претензия, и где же взять мне русского? Я, конечно, говорила это тогда не подумавши, но странно, как иногда предчувствуешь свою судьбу.
С матерью простилась я довольно легко, несмотря на то, что страстно любила ее. Брат провожал меня до Руана, где я должна была сесть на купеческое судно, последнее, которое отправлялось тогда, потому что был уже сентябрь месяц 1823 г. В Руане я сделала неожиданную встречу, которая принесла мне потом еще более неожиданную пользу. Когда обедали мы с братом за общим столом, я назвала его, как обыкновенно делается во Франции, по фамилии. К нам тотчас же подошел человек почтенных лет и спросил: не дети ли мы того Гебля, у которого он служил в Булоньском лагере, и очень был рад узнать, что, действительно, его любимый начальник был наш отец. Теперь он был капитаном купеческого судна и отправлялся в Кильбев, где оно стояло. То, на которое я должна была сесть, было датское, очень маленькое судно, а нам предстоял очень трудный путь. Всего тяжелее было для меня выехать из Руана, где я должна была расстаться с последним близким мне человеком, с моим братом. Точно у меня что оторвалось от сердца, когда мы отошли от берега и скрылся Руан. Я упала на свою койку и горько зарыдала. В Кильбеве мы должны были ждать попутного ветра.
Я забыла сказать, что, уезжая из Парижа, я оставила там собачку, которую нашла на улице. Эта собачка была так ко мне привязана, что стала страшно тосковать без меня, и мать прислала мне ее в Руан. Долго это животное было мне неизменным и верным другом, проводило в 1826 г. в Сибирь и никогда не отходило от меня, пока не издохло у моих ног.
Приехав в Кильбев, мы бросили якорь. В тот же день отправлялся оттуда на своем судне мой знакомый капитан. Но отходя от берега, он каким-то образом зацепился своим судном за наше и что-то попортил. Мой бедный капитан был в отчаянии. Начались переговоры между капитанами, и я служила переводчиком, потому что один был француз, а другой — датчанин и они друг друга не понимали. Дело, впрочем, устроилось. Нашему капитану заплатили за убыток, а судно надо было поправить, и мы прожили в Кильбеве целый месяц. Пока капитаны переговаривались и заставляли меня переводить, французский прислал мне огромный ящик с разными винами и фруктами. Все это мне очень потом пригодилось. Ви́на, конечно, не для меня самой, а моим спутникам были очень полезны, когда нас застала страшная буря у норвежских берегов, продолжавшаяся целую неделю. Ужасное было время! Паруса обрывало беспрестанно, матросы не успевали чинить их. Всеми овладело страшное уныние, молодые матросы все лежали без чувств, старые держались, но были мрачны и угрюмы.
Пока мы стояли в Кильбеве, я наняла квартиру в гостинице, которая стояла на берегу моря и была содержима добрейшими людьми в мире. То было семейство честного нормандского крестьянина. Эти люди ласкали меня как родную. Дочь находила особенное удовольствие наряжать меня в свой костюм, сын, ходивший на охоту и возвращавшийся каждый день с добычей, отдавал ее всегда мне. Даже попугай, которого они держали, был приветлив ко мне. Он беспрестанно повторял слова своих гостеприимных хозяев: «С'еst pour madame Paule» [Это для г-жи Поль (фр.).].
Еще было у меня развлечение в Кильбеве — это бегать по доске, а это была очень опасная шутка. Доска лежала одним концом на набережной, другим на борте судна. Она имела по крайней мере четыре сажени длины и была такая тоненькая, что теперь, когда я вспомню, у меня замирает сердце, а тогда я бегала по этой дощечке без малейшего опасения. Когда я достигала середины, доска подо мною подгибалась, потом подбрасывала меня довольно высоко, но меня это нисколько не пугало, и я несколько раз в день совершала это путешествие.
Когда я хлопотала о паспорте, я познакомилась с писателем Шатобрианом, который был министром иностранных дел. Он пожелал меня видеть, потому что решимость двадцатитрехлетней молоденькой женщины ехать в Россию заинтересовала его. Он сказал мне, что удивляется моей храбрости ехать в такую дальнюю и холодную страну. Я отвечала, что сам же он не боялся путешествий, и он, улыбаясь, взял меня за руку, говоря: «Jе vous souhaits beaucoup, beaucoup de courage, mon enfant!» [Я вам желаю много, много мужества, дитя мое (фр.).]. Как теперь вижу перед собой его седую голову и проницательный взгляд. Слова Шатобриана не могли не сделать на меня впечатления, но ничто не могло поколебать меня в моем желании ехать в Россию. Я решилась на это совершенно покойно, нимало не думая о трудностях, которые мне предстояло побороть. Мне казалось, что все это так и должно быть. (Мне надавали пропасть рекомендательных писем, благодаря им я везде была принята прекрасно.)
Если я вхожу в такие подробности моего детства и первой молодости, это для того, чтобы объяснить разные недоразумения насчет моего происхождения и тем прекратить толки людей, не знавших правды, которую по отношению ко мне и моей жизни часто искажали, как, например, это сделал Александр Дюма в своей книге: «Mémoirs d'un maitre d'arme» [Записки учителя фехтования (фр.).], в которой он говорит обо мне и в которой больше вымысла, чем истины.
* * *
В 1825 г., за шесть месяцев до происшествия 14 декабря, я познакомилась с Иваном Александровичем Анненковым. Он начал неотступно за мною ухаживать, предлагая жениться на мне. Оба мы были молоды, он был чрезвычайно красив собою, необыкновенно симпатичен, умен и пользовался большим успехом в обществе. Совершенно понятно, что я не могла не увлечься им. Но целая бездна разделяла нас. Он был знатен и богат, я — бедная девушка, существовавшая своим трудом. Разница положений и чувство гордости заставляли меня держаться осторожно, тем более что в то время я с недоверием иностранки относилась к русским. Что заставляло меня особенно удаляться от Ивана Александровича, это ужасный пример в одной француженке, который был у меня в то время на глазах. Эта француженка, вышедшая замуж за русского (Полторацкого), была более чем несчастна с ним. Жизнь ее была так печальна, что она не выдержала и вскоре умерла. Ей казалось, что всякая иностранка, выходящая замуж за русского, подвергалась той же участи, какая выпала на ее долю. С сожалением смотрела на меня эта несчастная женщина и всячески старалась предостерегать: «Берегитесь, душа моя, — повторяла она мне беспрестанно, — вы молоды и хороши, много соблазну ожидает вас, а мужчины русские так лукавы и так изменчивы».
Между тем Иван Александрович не переставал меня преследовать и настоятельно требовал обещания выйти за него замуж, но я желала, чтоб он предварительно выхлопотал на женитьбу согласие своей матери, что было весьма нелегко сделать, так как мать его была известна как женщина в высшей степени надменная, гордая и совершенно бессердечная. Вся Москва знала Анну Ивановну Анненкову, окруженную постоянно необыкновенною, сказочною пышностью, так что ее прозвали «la reine de Golconde» [Королева Голконды (фр.).]. Французы много мне рассказывали про нее, и те, которые принимали во мне участие, были уверены, что эта недоступная, спесивая женщина восстанет против брака сына своего с бедною девушкой.
Иван Александрович надеялся, однако, склонить ее, но это была одна надежда. (Буря, разразившаяся 14 декабря, переменила все наши планы и надежды наши.) Ничто не ручалось за успех, напротив, можно было ожидать — и я замечала, что Иван Александрович сам боялся этого, — что в случае ее требования разойтись со мною, если бы только он не подчинился ее воле, она была в состоянии лишить его наследства, которое в то время было громадно, так как он оставался единственным наследником после смерти брата своего Григория Александровича, убитого на дуэли. Половина состояния, которым в то время владела Анна Ивановна Анненкова, перешла к ней от отца ее, Ивана Варфоломеевича Якобия, бывшего наместника Сибири. Остальное было передано ей по духовному завещанию в пожизненное владение ее покойным мужем, Александром Никаyоровичем Анненковым; стало быть, все находилось в руках Анны Ивановны, и она имела возможность при первом неудовольствии на своего сына лишить его всего. Понятно, что я не могла желать подвергать любимого человека гневу его матери и никогда не решилась бы сделаться виновницей его разорения.
Несмотря, однако же, на все мои предосторожности, сама судьба сближала меня с ним, и вскоре один случай помог этому. Мы были тогда в Пензе, куда собралось множество народа по случаю ярмарки. Я приехала с домом Дюманси, который имел модный магазин, где я была старшей продавщицей. Анненков приехал за ремонтом лошадей для Кавалергардского полка, в котором он служил. С ним было очень много денег, и я узнала, что шайка игроков сговаривалась обыграть его, а раньше я слышала, что его обыграли уже в один вечер на 60 тысяч рублей. Тогда, чтобы спасти его от заговора негодяев, я решилась употребить разные женские хитрости и в тот самый вечер, когда игроки ожидали его, продержала у себя до глубокой ночи. На другой день он узнал все от своего человека, был очень тронут и остался мне признательным. С тех пор человек его, который был ему очень предан, часто приносил мне его портфель на сбережение.
Наконец, закупив лошадей, Анненков стал собираться уезжать. Ему предстояло большое путешествие: он должен был объехать все свои имения, находившиеся в Пензенской, Симбирской и Нижегородской губерниях. Нам приходилось расстаться, и я заметила, что Иван Александрович становился все мрачнее и задумчивее, а мне становилось жаль его, тем более что, несмотря на блеск и богатство, его окружавшие, он казался глубоко несчастным. (Мне французы много рассказывали об его матери, которая его не любила и обращалась с ним неимоверно строго. Я замечала, что мать много отравляла ему жизнь...) Его прекрасное, задумчивое лицо выражало иногда так много грусти, что невозможно было относиться к нему безучастно. Казалось, он скрывал какую-то глубокую печаль, какую-то затаенную мысль.
В то время я и не подозревала, что он участвовал в тайном обществе, но замечала только, что мать много отравляла ему жизнь, и это заставляло меня все более и более к нему привязываться. С другой стороны, меня стало осаждать собственное горе. Жизнь моя, до тех пор веселая и беззаботная, вдруг стала изменяться. Я встретила разные неожиданные неприятности в семье, где жила, а Иван Александрович все твердил мне про свою любовь, и я чувствовала тем женским инстинктом, которым одарила нас природа, что он говорил искренно. Наконец я поняла и сознала, что для меня уже невозможно счастье без него.
Однажды вечером он пришел ко мне совершенно расстроенный. Его болезненный вид и чрезвычайная бледность поразили меня. Он пришел со мной проститься и говорил: «Если б вы знали, что ожидает меня, то, вероятно, сжалились бы надо мною». Я не поняла тогда всего смысла его слов, но он уже предчувствовал свою судьбу.
Расстаться с ним у меня недостало духу, и мы выехали вместе из Пензы 3 июля 1825 года. В одной из деревень его, где была церковь, он настаивал, чтоб мы обвенчались, и уже приготовил для этого священника и двух свидетелей, но я решительно отказалась от брака без согласия его матери.
В Симбирской губернии мы долее всего оставались в селе Петине. Это богатейшее имение на Суре, и тут я в первый раз ела знаменитые сурские стерляди. Барский дом в Петине был довольно старый и запущенный. Когда мы приехали, ставни кругом были закрыты. Я, по живости своего характера, тотчас же обежала все комнаты и была очень удивлена, заметя в одной из них, где ставни не успели еще раскрыть, в углу целую груду чего-то, покрытую толстым слоем пыли. Я тотчас же побежала за Иваном Александровичем, и когда мы с ним стали рассматривать, что лежало в углу, то оказалось, что то была старинная серебряная посуда, и когда свесили всю эту посуду, то оказалось 60 пудов серебра. Иван Александрович приказал все сложить по-прежнему и запереть комнату. Он ничем не распоряжался без ведома своей матери.
Она постоянно жила в Москве, и, конечно, не знала, что делалось в ее имениях. В Москве у нее был свой дом, который стоит и до сих пор (1861 г.) на углу Петровки и Газетного переулка. В Сокольниках была богатейшая дача с замечательными оранжереями. Дача эта была так известна своею роскошью и обстановкою, что иностранцы, приезжавшие в Москву, ездили ее осматривать. Там особенно в одной из комнат обращали на себя внимание двери из цельного богемского хрусталя, сделанные с необыкновенно роскошными бронзовыми ручками.
В ноябре месяце того же 1825 г. мы приехали в Москву. По мере того как мы приближались к Москве, Иван Александрович все становился задумчивее. Ясно было, что его что-то сильно тревожило. Расспрашивать его о том, что он, казалось, хотел скрыть, я стеснялась, но ясно видела, что им все более и более овладевало какое-то беспокойство. Наконец все сделалось понятным для меня. Внезапно и совершенно неожиданно разнеслась весть, что скончался император Александр I, и эта весть как громом поразила всех. Это было именно 29 ноября, что Москва узнала о кончине своего государя. Анненков был страшно поражен этою новостью, и я счала замечать, что смерть императора тревожила его по каким-то особенным причинам. В то время к нему собиралось много молодых людей. Они обыкновенно просиживали далеко за полночь, и из разговоров их я узнала, наконец, что все они участвовали в каком-то заговоре. Это, конечно, меня сильно встревожило и озаботило и заставило опасаться за жизнь обожаемого мною человека, так что я решилась сказать ему о моих подозрениях и умоляла его ничего не скрывать от меня. Тогда он сознался, что участвует в тайном обществе и что [неожиданная смерть императора может вызвать страшную катастрофу в России, и заключил свой рассказ тем, что] его, наверное, ожидает крепость или Сибирь. Тогда я поклялась ему, что последую за ним всюду.
2 декабря 1825 г. он простился со мною и уехал в Петербург, это было ночью. Второпях он забыл свой портфель, в котором было на 60 тысяч банковых билетов на его имя. Предполагая, что они ему понадобятся, я приготовилась скакать за ним с портфелем и садилась уже в повозку, когда он сам зашел ко мне, вернувшись с первой станции. Судьба как будто нарочно устроила это, чтобы дать возможность нам обняться в последний раз перед тем, как страшная буря должна была разразиться над нами и разлучить нас надолго. После этого последнего прощания мне суждено было увидеть его только в крепости.
Проводив друга моего, я впала в безотчетную тоску. Мрачные предчувствия теснили мне грудь. Сердце сжималось и ныло. Я ожидала чего-то необыкновенного, сама не зная, что именно, как вдруг разразилось известие о том, что произошло 14 декабря. Вся Москва <...> опять встревожилась. В домах царствовало глубокое уныние. На улицах встречались одни мрачные и грустные лица, все ходили как приговоренные, и никто не смел громко говорить <...> о случившемся. Это было время всеобщего страха, печали и слез. В это время забежал ко мне Петр Николаевич Свистунов, который служил в Кавалергардском полку, был впоследствии сослан по делу 14 декабря [но не застал меня дома]. Он не был в Петербурге в день 14 декабря. Я знала, что Свистунов — товарищ и большой друг Ивана Александровича, и была уверена, что он приходил ко мне недаром, а, вероятно, имея что-нибудь сообщить о своем друге. На другой же день я поспешила послать за ним, но человек мой возвратился с известием, что он уже арестован. Можно себе представить мое отчаяние при мысли, что та же участь ожидает и Ивана Александровича. С тех пор как он находился в Петербурге, я не имела от него ни одного письма и решительно не знала, что с ним сделалось. Бросаясь ко всем, к кому только была возможность обратиться, чтоб получить о нем хотя малейшее известие, я ничего не могла узнать, никто не мог сказать мне ничего положительного и верного. Одни говорили, что он ранен, другие — что убит, третьи — что он в крепости. Чему было верить, на чем остановиться — не было возможности решить. Чтоб сколько-нибудь подкрепить себя, я каждый день ходила в католическую церковь. Там молитва утешала меня и обновляла душевные силы. Но дойти до церкви я никогда не могла покойно, ужас преследовал меня все время. На Кузнецком мосту, который нельзя было миновать, я всякий раз встречала повозки, тщательно закупоренные со всех сторон и сопровождаемые жандармами. Повозки эти были наполнены арестованными и приводили меня в содрогание. Картина была невыносимо тяжелая и печальная. Одним словом, невозможно описать все, что я испытала в то короткое время, пока узнала правду о том, что произошло 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге.
Между тем, пока я находилась в такой мучительной неизвестности, Иван Александрович был арестован и отвезен в крепость. Сначала его отвезли в Выборг, где посадили в зáмок, а потом перевезли в Петропавловскую крепость. Но я узнала обо всем этом только в январе месяце 1826 года. <...>
* * *
Между тем я изнывала с тоски по нем, и после напрасных попыток, сделанных мною в Москве, чтобы узнать что-нибудь о постигшей его участи, я решилась наконец отправить одного из преданных ему слуг в Петербург, чтобы узнать, где он мог находиться. Но для этого нужны были деньги, а у меня уже вышли те, которые оставил мне Иван Александрович, уезжая в Петербург. Расставаясь, мы не предвидели всего, что потом случилось в такое короткое время, и думали, что расстаемся ненадолго. Заложив свои бриллианты и турецкие шали, я наконец отправила человека в Петербург. В то время с матерью его я еще не виделась, но знала, что она мало заботилась о нем. Когда человек был готов к отъезду, я послала его к бездушной старухе, чтобы спросить, не прикажет ли она что-нибудь передать несчастному сыну. Она отвечала, что ничего, и приказала только благодарить меня за мои заботы.
Из Петербурга человек писал мне отчаянные письма, объяснял, что, несмотря на все его старания, он ничего не может узнать насчет своего барина, что носятся слухи, что он в крепости, но в какой именно — невозможно допытаться. Отчаяние мое возрастало с каждым днем. Я более не в состоянии была выносить такой неизвестности, но господь сжалился надо мной, и наконец блеснул для меня луч надежды отыскать любимого мною человека. Ко мне зашел Стремоухов, брат того, которого Анненков встретил потом в Главном штабе. Этот служил также в кавалергардах, но не был замешан в истории 14 декабря. От него я узнала, что Иван Александрович находится в крепости в Выборге; это было в январе месяце 1826 г. Оба брата Стремоуховы были прекрасные, очень сердечные люди. В то время было очень нелегко узнать что бы то ни было об участи, постигшей молодых людей после 14 декабря. Стремоухов сумел это сделать, заставив болтать одного господина, которого встретил за столом в гостинице и в котором подозревал шпиона. От этого господина он узнал также подробности о том, что происходило в роковой день, и утешал меня тем, что Иван Александрович не был ранен и что он не может быть так строго осужден, как другие, потому что на площади находился со своим полком. [Но у него, к несчастью, было большое состояние и много родственников-наследников, которые, как голодные волки, обрадовались обстоятельствам, благоприятным для них, и я уверена, что их влияние помогло в том, что И. А. был потом строже осужден.] Я немного успокоилась после визита Стремоухова, но тоска все более душила меня. Я чувствовала непреодолимую потребность увидеть любимого человека и думала только о том, как бы поехать к нему. Но из Москвы выбраться мне было нелегко: кроме того, что средства мои истощались и я должна была снова работать, против меня начались интриги со стороны живущих в доме матери Ивана Александровича, которых был целый легион.
Старуха была окружена приживалками и жила невозможной жизнью. Позднее, когда она меня потребовала к себе, я была поражена всем, что увидела. Мне, как иностранке, казалось, что я попала в сказочный мир. Дом был громадный, в нем жило до 150 человек, составлявших свиту Анны Ивановны. Парадных комнат было без конца, но Анна Ивановна никогда почти не выходила из своих апартаментов. Более всего поражала комната, где она спала. Она никогда не ложилась в постель и не употребляла ни постельного белья, ни одеяла. Она не выносила никакого движения около себя, не терпела шума, поэтому все лакеи ходили в чулках и башмаках, и никто не смел говорить громко в ее присутствии. Без доклада к ней никто никогда не входил. Чтобы принять кого-нибудь, соблюдалось двадцать тысяч церемоний, и нередко желавшие видеть ее ожидали ее приема или выхода по целым часам.
В официантской сидело постоянно 12 официантов. На кухне было 14 поваров, и огонь никогда не переводился, потому что Анне Ивановне иногда приходила фантазия спросить что-нибудь закусить не в назначенный час, и это случалось всего чаще ночью, так как для сна у нее, так же как и для обедов и завтраков, не было назначенных часов. Все делалось по капризу, по первому требованию Анны Ивановны. Комната, где она постоянно находилась, была вся обита малиновым штофом. Посередине было сделано возвышение, на котором стояла кушетка под балдахином; от кушетки полукругом с каждой стороны стояло по 6 ваз из великолепного белого мрамора самой тонкой работы, и в них горели лампы. Эффект, производимый всей этой обстановкой, был чрезвычайный. В этой комнате Анна Ивановна совершала свой туалет, также необыкновенным способом. Перед нею стояло 6 девушек, кроме той, которая ее причесывала. На всех 6 девушках были надеты разные принадлежности туалета Анны Ивановны: она ничего не надевала без того, чтобы не было согрето предварительно животной теплотой. Для этого выбирались все красивые девушки от 16 до 20 лет, после 20 лет их назначали на другие должности. Даже место в карете, перед тем как ей выехать, согревалось тем же способом, и для этого в доме содержалась очень толстая немка, которая за полчаса до выезда садилась в карете на то место, которое потом должна была занять Анна Ивановна. Пока она выезжала, немка нагревала место в креслах, в которых Анна Ивановна всегда сидела.
Надменность и эгоизм Анны Ивановны Анненковой, а также ее необыкновенные причуды становятся понятными, если знать ее жизнь. Она была единственная дочь Ивана Варфоломеевича Якобия, наместника всей Сибири в эпоху императрицы Екатерины II. Матери своей не знала, так как лишилась ее при своем рождении. Отец ее страстно любил и баловал. Когда она кончила свое воспитание в Смольном, то поехала к отцу в Сибирь, где, несмотря на свою молодость, сразу стала полноправною хозяйкою, окруженною несказанной роскошью, так как в то время начинали устанавливаться торговые сношения с Китаем. Можно себе представить, какие богатые и редкие подарки несли торговые люди такому сильному человеку, как наместнику сибирскому, и каким поклонением окружали балованную дочку. Якобий вывез из Сибири и редкие китайские материи, и дорогие меха, и, наконец, значительную сумму денег. Вкладные листы были утеряны под конец жизни Анны Ивановны ее поверенным. Вышла замуж Анна Ивановна поздно, под сорок лет: так долго не могла найти себе человека по сердцу.
Я уже сказала, что Анна Ивановна никогда не ложилась в постель, она спала на кушетке, на которую расстилалось что-нибудь меховое, и покрывалась она каким-нибудь салопом или турецкою шалью. На ночь она не только не раздевалась, но совершала даже другой туалет, не менее парадный, как дневной, и с такими же церемониями. Надевался обыкновенно белый пеньюар, вышитый или с кружевами на шелковом цветном чехле, потом пышный чепчик с бантами, затем шелковые чулки, непременно телесного цвета, и белые башмаки, по тогдашней моде, с лентами, которые завязывались, а бантики тщательно расправлялись, как будто бы она ехала на какой-нибудь бал. В таком пышном туалете она прилегала на кушетку и никогда не оставалась одна. При ней было до 40 избранных девушек и женщин разного возраста, которые поочередно должны были находиться в ее комнате. На ночь в комнату Анны Ивановны вносились диваны, на которых и помещались дежурные. Они должны были сидеть всю ночь и непременно говорить вполголоса. Под их говор и шепот дремала причудница, а если только они умолкали, она тотчас же просыпалась. Стол ее был не менее прихотлив, как все остальное, и накрывался каждый день на 40 приборов. Сама она обедала за особенным столом, к которому приглашались только избранные, а зачастую даже в своей комнате, куда вносили уже накрытый стол на 4 прибора, так как она требовала около себя положительной тишины и спокойствия. Она не хотела знать никакой заботы, никакою горя, и когда ее второй сын, Григорий, был убит на дуэли, то ей решились сказать об этом только год спустя.
Ее многочисленными имениями управлял Чернобой, из ее же крепостных, наживший себе несколько домов в Москве, а всем хозяйством заправляла дальняя родственница Мария Тихоновна Перская. Все доходы с имений привозились и сдавались Марии Тихоновне, в комнате которой стоял комод, куда ссыпались деньги по ящикам, по качеству монеты, и наверное Мария Тихоновна сама не знала хорошенько, сколько ссыпалось в комод и сколько из него расходовалось. Беспорядок и воровство в доме были так велики, что под конец жизни Анны Ивановны все серебро, которого было немало, было заложено. Оно выкупалось из ломбарда, когда давался какой-нибудь обед, и на другой день снова закладывалось. После ссылки сына ее в Сибирь разорение пошло так быстро, что в 1830-х года Анна Ивановна жила уже на квартире, продав свой пышный дом и дачу в Сокольниках, а когда она умерла, в 1842 г., то нечем было похоронить ее, и расходы на похороны были сделаны Алексеем Григорьевичем Тепловым, женившимся на ее внучке, дочери моей, Александре Ивановне.
Но когда я попала в 1826 году в дом старухи Анны Ивановны Анненковой, то у нее всего было так много, что комнаты, где хранились эти богатства, были похожи на магазин. Одних платьев счетом было до 5 тысяч. Для них велась особенная книга, с приложением образчиков, по которым Анна Ивановна назначала, какое платье желала надеть. Два сундука были наполнены самыми редкими кружевами, ценностью в 100 тысяч рублей. Целая комната была занята разными дорогими мехами, привезенными, как говорили, из Сибири. Анна Ивановна страшно любила наряжаться, забирала очень много по магазинам, особенно в английском, который был тогда в моде и где она пользовалась безграничным кредитом, так как магазину было известно, что в Лондонском банке находится громадный капитал, на который она имела право. Когда ей нравились какие-нибудь материи, то покупала целыми кусками, чтобы у других не было подобных. Когда я ее узнала, она была окружена ореолом величия, к ней ездила вся Москва, и, между прочим, бывал часто митрополит московский Филарет, который в 1827 году меня напутствовал, когда я уезжала в Сибирь. Эта бездушная женщина была неимоверно строга со своим сыном, и он являлся к ней не иначе как затянутый в мундир, и постигшее его несчастье нисколько не расшевелило ее. Она не сделала ни шагу для того, чтобы утешить его или облегчить его участь. Только из тщеславия или гордости, пока сын ее был в крепости, послала она серьги дочери Подушкина, оцененные в 5 тысяч. Когда узнала, что я собираюсь в Петербург, чтобы видеть ее сына, она сделала все, чтобы отклонить меня от этой поездки. Ко мне явилась одна из ее приближенных (Караулова) и всячески уговаривала не ездить, уверяя, что я этим много могу повредить Ивану Александровичу [что, так как я француженка, будут думать, что я либералка, и что это может много повредить ее сыну].
Между тем человек, которого я посылала в Петербург, вернулся и, конечно, не привез мне ничего утешительного. Сердце разрывалось, я стремилась к любимому мною человеку и не могла вырваться из Москвы, где приковывала меня страшная нужда. Мне положительно нечем было существовать, и я должна была усиленно работать, чтобы не умереть с голоду, а у меня на руках были еще люди, которые раньше служили Ивану Александровичу и которых мне жаль было распустить. Таким образом я прожила своими трудами до марта месяца 1826 г. В марте месяце приехал ко мне Стремоухов, брат того, который был прежде, и сообщил, что видел Ивана Александровича в Главном штабе, что дал ему слово повидать меня и сколько возможно успокоить, но между тем Стремоухов предупредил меня, что дела принимают более серьезный оборот и что у Ивана Александровича остается мало надежды на освобождение. От меня Стремоухов пошел к Анне Ивановне, чтобы сказать ей, что сын ее нуждается во всем. Он в то время был без белья, без платья и даже без сапог, а деньги, которые он имел с собою, истощились. Но все это нисколько не потревожило бездушную старуху. Она приняла Стремоухова по-боярски, заставила долго ждать себя, вышла, сопровождаемая целою свитою приживалок, и объявила, что вещи сына ее находятся в кавалергардских казармах и что там, вероятно, есть все, что ему нужно. Стремоухов вернулся ко мне, возмущенный таким приемом до глубины души.
Тогда я начала собирать все, что могла найти, добилась несколько белья, разных мелочей, везде вышила и нацарапала свое имя «Pauline» и наконец достала его любимый халат и отправила это все ему через Стремоухова. Но так как халат был очень красивый и дорогой, то не дошел до узника. Плац-майор крепости Подушкин нашел, что халат хорош и для него.
С тех пор как был у меня Стремоухов, до июля месяца, т. е. до объявления приговора, происшедшего 13 июля 1826 г., я не имела никаких известий об Иване Александровиче. Приговор в Москве произвел страшное впечатление, снова все впали в глубокое уныние. Ко мне с этой ужасной новостью прибежал Затрапезный. Этот человек был страшный пьяница, нигде не служил и жил только тем, что ему давал Иван Александрович. Когда он прибежал ко мне, я тотчас же послала человека в типографию с 25-рублевою ассигнацией, и человек возвратился с только что напечатанным листом, так что он был еще сырой. Затрапезный читал мне [ругая правительство] и заливался слезами.
Интересно, как было сообщено узникам о приговоре. Родственникам и женам было разрешено видеться с ними раз в неделю, и жены под разными предлогами, а иногда переодетые, беспрестанно пробирались в крепость. Когда сделалось известным более или менее, к чему будут приговорены заключенные, тогда Фонвизина и, кажется, Давыдова, переодетые, отправились пройтись по стене, окружающей крепость, по которой, как известно, совершался раз в год крестный ход в один из весенних праздников. Так как они были одеты в простое платье, то часовые не обртили на них внимания. Они, держась на известном расстоянии, стали как будто перекликаться, и наконец Фонвизина прокричала: «Les sentences seront terribles, mais les peines seront commuées» [Приговор будет ужасен, но наказание будет смягчено (фр.).]. В ответ на эти слова разнесся страшный гул по казематам. Узники отвечали: «Merci».
Что касается меня лично, то мне было очень нелегко пробираться в крепость, так как я на это не имела права ни родственницы, ни жены, и мне стоило больших усилий и денег всякий раз, как я добивалась свидания с Иваном Александровичем.
Рождение дочери сильно встревожило всю семью Анненковых. Думали, что мы обвенчаны, одни желали этого и радовались, другие боялись. Особенно Анна Ивановна была этим озабочена. Она даже сама допрашивала, обвенчаны мы или нет, человека, которого я посылала к ней за приказаниями, когда отправляла его в Петербург. Сыну она отвечала, что не имеет ничего передать, и ничего не послала ему, но человеку сулила 2 тысячи, чтобы только он открыл ей все. Тогда человек поклялся, что мы не обвенчаны. <...>.
Едва я оправилась от болезни, как начала собираться в Петербург, но никак не могла добиться паспорта. В то время меня начали осаждать приближенные Анны Ивановны то своим вниманием, то разными преследованиями. Пока я хворала, меня все забыли и оставили в покое, но когда узнали, что я хлопочу о паспорте, чтобы ехать в Петербург <...>, то стали снова убеждать меня не ездить и даже интриговали, чтоб я не могла получить паспорта, но тут на помощь ко мне явилась одна француженка m-lle Фелис, которая жила в доме Шульгина, московского обер-полицеймейстера. Она приехала ко мне, хотя я ее совсем не знала. «Я не имею удовольствия вас знать, — сказала она, входя ко мне, — но мне жаль вас, я знаю, что вам делают много неприятностей и не пускают в Петербург. Хотите иметь паспорт?» Я, конечно, с радость приняла ее предложение. Через час у меня был паспорт, выданный Шульгиным. Много лет прошло с тех пор, но я не могу забыть услуги, оказанной мне добрейшей m-lle Фелис. [Когда я ныне была в Париже (в 1861 г.), я ходила благодарить ее.] Как только паспорт был в моих руках, так я, не медля ни минуты, собралась в дорогу и выехала в Петербург на другой день, поручив ребенка старушке Шарпантье. <...>
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





