ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

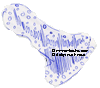

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Манасеина Наталья 1912
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЮНОСТЬ
I
Опять Штеттин. Опять старый мрачный замок. Опять маленькие сводчатые комнатки рядом с церковью. Все как было и прежде, до того, как Фикке побывала на брауншвейгском карнавале и черный граф предсказал ей, что она будет королевой.
«...Три короны... Но быть может, их будет и еще больше». Слова эти так и звенели в ушах Фикке.
Они — самое главное из того, что она привезла с собою домой.
На обратном пути из Брауншвейга они с матерью чуть не погибли. Зима выдалась небывалая. Снегу навалило столько, что все дороги под ним исчезли. Кучер сбился с пути. Измученные лошади едва тащили карету по свежему рыхлому снегу и наконец совсем стали.
Иоганна Елизавета, Кайн и две горничные сразу страшно испугались. Кругом ничего не было видно, кроме снежной равнины, а снег все валил и валил. Фикке сначала не поняла всей опасности. Но когда полузамерзший кучер открыл дверцу кареты и сказал, что лошадей надо выпрячь и постараться найти проводников, она по его лицу сразу поняла, что дело плохо.
Лошадей выпрягли. Кучер сел на одну из них верхом и пропал за снежной пеленой.
Кайн и горничные заплакали. Иоганна Елизавета, бледная, старалась их успокоить. Она велела двум лакеям тоже войти в карету. На козлах они бы совсем замерзли.
А снег все валил и валил.
— Так нас совсем занесет, если вовремя не подоспеет помощь, — сказала Кайн.
После этих слов все замолчали. Прислушивались, ждали, надеялись, а потом перестали и прислушиваться, и ждать, и надеяться. Просто сидели.
А снег все валил и валил. Смеркалось.
— Снег уже до подножки, — мрачно проговорила Кайн.
— Я думаю, что кучер добрался наконец до людей, — сказала Иоганна Елизавета и посмотрела на Фигхен.
Ей никто не ответил. Все поняли, она сказала это, чтобы успокоить дочь, она сама больше не верит, что их найдут. И от ее слов стало еще страшнее. Захотелось выскочить из тесной, набитой людьми неподвижной кареты, которую все больше и больше заносило снегом. Выскочить и бежать. Но куда и как? Кругом одна снежная пустыня и тишина.
Первая после Брауншвейга ночь.
Фигхен вспомнились огни, музыка, нарядные гости. Черный граф вспомнился.
Неужели она так и умрет в снегу? А королевой когда же будет?
В углу кареты тихонько, жалобно плачет молоденькая горничная.
— Я боюсь, мама, — шепчет, прижимаясь к матери, Фигхен.
Иоганна Елизавета обнимает дочь и целует ее в лоб. Какие у нее холодные губы и руки холодные.
— Мы не замерзнем, мама?
Мать плотнее закутывает девочку и ничего не говорит. Горничная плачет все громче. Ужасная ночь! Фигхен почти не сомневается, что не будет королевой. Когда же, если надо уже умирать?
А снег так и валит! Вот в Московии, о которой ей кормилица Христи рассказывала, всегда так. Снег, снег и снег. И царевна в снегу бродит. Колокола звонят... далеко-далеко.
— Мама, ты слышишь колокола?
— Спи, моя девочка, спи.
Только на рассвете, когда больше не надеялись на спасение, за ними наконец пришли люди. Карету разгребли. Ее почти занесло снегом.
На этот раз никто не возражал Кайн, когда она повторяла, что их спасло чудо.
Весь дом только и говорил, что об этом страшном приключении. Христиан Август клялся, что никуда больше не отпустит без себя жену.
— То в Берлин, то в Брауншвейг, то в ЭйтИн, то в Гамбург! Я всегда был уверен, что эти поездки не кончатся добром, — говорил он. — Ты больше никуда не поедешь без меня, Иоганна.
Бабет все не верит, что Фикке ничего себе не отморозила.
— Целую ночь провести в снегу! У тебя, наверное, что-нибудь болит, Фикке?
— Ничего не болит.
— И в боку не колет, там, где у тебя прежде болело?
Фигхен отрицательно качает головой.
— Ах, Бабет, сколько я вам буду рассказывать про карнавал! Знаете, это даже лучше того, что рассказывал нам Больгаген. Если б вы только видели! Какие наряды! Какие мантии! Музыка с утра до ночи. Герцоги, графы, маркграфы...
— Надеюсь, Фигхен, что в этом блестящем обществе ты держала себя, как подобает хорошо воспитанной девочке?
«Девочке»!.. Иногда и Бабет не все сразу понимает.
— На последнем балу я танцевала менуэт с самим Генрихом Прусским.
Фикке скромно опускает глаза, но искоса смотрит на француженку. Ей непременно хочется видеть удивление и восторг Бабет.
Но что же это? Как странно! Непонятно совсем. Бабет сидит как ни в чем не бывало над своим вышиванием. Наклонилась, шерстинку откусила, вот узелок делает.
— Принц Генрих Прусский — это брат короля, — произносит, отчеканивая слова, Фигхен.
Ей кажется, что Бабет просто не поняла сразу всей важности события. Сидит все в Штеттине. Отстала от светской жизни.
— Фридриха Великого брат, ты говоришь, Фикке? Это очень и очень мило со стороны такого блестящего кавалера, что он протанцевал с девочкой. Очень воспитанный молодой человек.
Бабет сложила руки на пяльцах и смотрит прямо в лицо Фикке, а Фикке растерялась, не знает, что и думать, и, что сказать, не знает. Дальше объяснять как-то неловко. И почему это так? Прежде Бабет все лучше всех понимала и вдруг ничего не понимает. Но что это? Маленькая родинка на верхней губе у Бабет точно задрожала. Фикке это отлично знает. Дрожит родинка, дрожит! Неужели Бабет над нею смеется? Фикке делается вся красная от смущения. Ей уже больше не хочется говорить о Генрихе Прусском. Пожалуй даже, Бабет и права. Протанцевать один менуэт — это не так уж важно. Самое главное не то, что она танцевала и с кем танцевала. Главное и самое важное случилось до этого.
— Бабет, я расскажу вам о самом важном, что случилось со мною в Брауншвейге.
Фикке даже бледнеет от волнения. Неужели Бабет и к тому, что она сейчас скажет, отнесется слегка? Фикке вся замирает.
— Это тайна, Бабет, и это важно, страшно важно.
Бабет откладывает в сторону свою работу.
— Сядем на наш диванчик, Фикке, — предлагает она. — Уж если это так важно, то всего лучше говорить об этом на нашем любимом местечке.
И они садятся рядом. Бабет обнимает Фикке, и Фикке срывающимся от волнения голосом рассказывает о том, что предсказал ей известный хиромант граф Менгден.
— Не одну, а несколько корон увидел он на моей голове. Он так и сказал, и, прошу вас, не смейтесь надо мною, Бабет.
Но Бабет и не думает смеяться. Тихо и нежно проводит она рукой по волосам девочки.
— Несколько корон — это, пожалуй, и тяжело для такой молоденькой головки, — говорит она и целует Фикке.
— Вы не верите, что я буду королевой, Бабет? — робко спрашивает Фикке.
— Я не верю вообще, что можно угадывать судьбу, — уклончиво отвечает француженка. — Хиромант был приглашен, чтобы доставить развлечение гостям. Я не думаю, что другие отнеслись к его словам так серьезно, как ты. И мне не хотелось бы, чтобы ты им так верила, Фигхен. Хотя, знаешь, в этом есть и своя хорошая сторона. Королевой быть труднее, чем простой женщиной. Если ты хочешь быть настоящей королевой, тебе надо и учиться больше, и вообще очень следить за собою. Надо, чтобы королевство могло гордиться своей королевой.
Бабет замолчала, и Фикке молчит.
В сводчатых комнатках тишина. Сквозь маленькие окошки спускаются сумерки. Их полусвет кажется еще серее от высоких каменных стен, окружающих двор.
Все тихо, но вдруг с лестницы долетают с детства привычные звуки. По каменным ступеням постукивают костыли. Это идет помощник отца Фигхен, старик Больгаген. Вот, как всегда, просунул он прежде всего костыль в раскрытую дверь. Вошел, старенький, улыбающийся. Брови точно из белого пуха, а под ними глаза как у птицы — блестящие, черные, умные, осторожные.
Вошел и сразу заметил, что до него говорили о чем-то интересном. Попросил, чтобы и ему рассказали.
— Расскажи все сначала, Фигхен. И про карнавал, и про гостей, и про то, как танцевала. И про черного графа не забудь рассказать.
Фикке только этого и хотела.
Бабет села опять за вышивание. Больгаген — рядом с девочкой на диван. И Фикке начала.
Больгаген хорошо слушал. Под рассказ Фигхен ему вспоминалась его собственная молодость, вспоминались карнавалы при дворе Софии Шарлотты, самой прекрасной королевы в Европе. Вспоминалось время, когда и сам он веселился, танцевал.
Глаза его блестели. Он покачивал головой и постукивал костылем в особенно увлекательных местах.
Индийские принцы, зефиры, амуры, итальянский танец жига, приветствия в стихах... Все как и тогда.
У Фикке горят щеки. Голос ее звенит на все три сводчатые комнатки:
— А мантии, милый Больгаген! Никогда я не думала, что они могут быть так прекрасны... И шлейфы в несколько аршин!
Предсказание хироманта нисколько не поражает старого Больгагена.
— Что же, я всегда говорил, что наша принцесса воспитана не хуже других принцесс. Почему бы и не стать нашей Фигхен королевой? Что вы на это скажете, Бабет? А? Помните, ведь я это первый говорил? — И здесь же Больгаген нашел нужным, как всегда, прибавить что-нибудь поучительное: —Только помни, Фигхен, что одной мантии и короны недостаточно, чтобы стать настоящей королевой. Главное — это чтобы под короной в голове были королевские мысли.
Фигхен хотела расспросить подробнее Больгагена об этих королевских мыслях, но он вдруг переменил разговор. Стал просить, чтобы позвали мальчиков.
— Соскучился я без них. И почему их не привели, как всегда, когда я прихожу?
Вилли и Фриц не заставили себя долго ждать, и когда явились, то подняли такую возню, что у Фикке не только королевские, но и все самые простые мысли выскочили из головы.
II
Зима тянулась без конца.
После Брауншвейга жизнь долго не налаживалась. Целый месяц провела Фикке среди непрерывных празднеств, наряжалась, обедала под музыку, бывала на концертах, в театре, на балах и на маскарадах. Ложилась спать только тогда, когда в замке все затихало. Утром вставала очень поздно и уже днем участвовала в каком-нибудь увеселении: каталась, ездила на охоту, смотрела на пеший или конный турнир.
Об уроках и учителях она совсем забыла. Жила как большая.
В Штеттине все пошло по-другому.
Бабет не успокоилась, пока Фикке не стала ложиться вовремя. И расписание уроков она составила.
Опять к Фикке заходили старые скучные учителя.
Как и все учителя того времени, они ей ничего не объясняли, ничего не рассказывали, а только спрашивали заданные уроки.
Фигхен училась из рук вон плохо. Учителя жаловались на нее гувернантке, гувернантка бранила девочку.
— До сих пор ты не можешь понять, где ставить mir и где mich, — укоряла m-llе Кардель свою воспитанницу. — А сколько ошибок ты сделала в последней диктовке! И урока пастору не приготовила.
— Человеческой жизни не хватит, чтобы выучить наизусть все, что мне задают, — ворчала Фикке. — А если и выучишь, все равно позабудешь. Разве можно все это удержать в голове?
Иногда и гувернантке приходило на мысль, что учителя уж слишком стараются. Все учебные книги Фикке просто глаза режут красными отметками.
Но вслух своих сомнений Бабет не высказывала и, в свою очередь, задавала девочке тоже наизусть выучить басню Лафонтена.
Что же делать? Учить необходимо, а сама Кардель знает так мало. Ее не готовили в воспитательницы. Она пошла в гувернантки, потому что ей надо было как-нибудь зарабатывать на хлеб. Иоганна Елизавета пригласила ее к дочери потому, что каждой девочке аристократического дома полагалось иметь француженку. Кардель старалась как можно лучше исполнять свои обязанности, но иногда ей приходилось очень трудно.
— У девочки ум, который проникает в предметы глубже, чем ум других детей, — говорила она Больгагену. — Иногда я положительно не знаю, что отвечать на ее вопросы. Как жаль, что родители обращают на нее меньше внимания, чем она заслуживает.
— Христиан Август обожает дочь, но ему некогда, — отвечал ей Больгаген. — Я, как его помощник, прекрасно знаю, что не так-то легко быть комендантом Штеттина. Заметили вы, Бабет, какой у принца последнее время утомленный вид? Я боюсь, что он болен.
— Да, он кажется больным, — согласилась Кардель. — Но мать...
— Принцессе и в Штеттине, и в замке все до такой степени не по душе, что она только томится дома, только и мечтает, как бы ей вырваться куда-нибудь, где повеселее. — В голосе старика слышалось обычное раздражение на жену Христиана Августа. Он горячо любил принца, и ему всегда казалось, что Иоганна Елизавета слишком увлекается светской жизнью.
— Конечно, вы отчасти правы. Принцесса часто уезжает, но, кроме того, когда она и дома, то все свое время отдает своему любимцу Вилли.
— Огорчает меня мальчик. Нога у него совсем пропала. С костылями и мне, старику, трудно мириться, а ему-то каково. Сам он точно восковой, худеет с каждым днем. — У Больгагена даже слезы навернулись на глаза, когда он заговорил про Вилли.
— Зато Фриц толстеет и так бегает, точно у него не две, а четыре ноги, — поспешила сказать француженка.
Так вполголоса говорили между собой Больгаген и Кардель, в то время как Фикке готовила уроки в соседней комнате.
Мальчики только недавно ушли к себе. Больгаген, как всегда, рассказывал детям, смеялся и шутил с ними. Вилли и Фрица с трудом уговорили идти ложиться спать.
— Ну а что, как она теперь учится? — спросил старик, указывая глазами на дверь, за которой находилась Фикке.
— Теперь ничего. Наладилось, — ответила Бабет. — А первое время, когда она вернулась домой, было просто ужасно. Брауншвейг ее положительно свел с ума. Все эти непрерывные празднества... суета... А потом еще это предсказание. Уверяю вас, она даже ходила так, точно за нею шуршала мантия.
Больгаген засмеялся тихим добродушным смехом:
— Что же, и мантия, и корона, это все не так уж несбыточно, Бабет.
Француженка только отмахнулась.
— Фикке, спать пора! — крикнула она и принялась складывать свою работу.
В дверях показалась, как всегда недовольная этим предложением, Фигхен.
— Я еще не справилась с уроками, — сказала она.
Но кончилось тем, что девочка через полчаса уже была в постели. На то, чтобы заставить Фигхен без особых историй ложиться вовремя, у Кардель хватало умения. А вот насчет многого другого ей с каждым днем приходилось все труднее.
— Что бы мне почитать, Бабет? — Вопрос этот Фигхен задавала своей гувернантке чуть ли не по нескольку раз в день. Она перечитала все, что полагалось читать тогдашним детям.
Этих детских книг было очень мало. Были книги с картинками и с рассказами об овечках, козликах и разных домашних животных. Книжку эту дарили каждому ребенку. Фигхен знала ее наизусть чуть ли не с пятилетнего возраста. Когда-то она очень ее любила. Ей и теперь жаль книжку, когда она видит ее у братьев, всю ободранную, с загнутыми уголками страниц, с вырванными рисунками.
И «Робинзона Крузо», появившегося в Англии ровно за десять лет до ее рождения, Фикке знает почти наизусть. И немецкое подражание этому английскому Робинзону, «Историю острова Фельзенбурга», Фикке тоже знает и часто перечитывает — так увлекает ее судьба семнадцатилетнего мореплавателя. И каждый раз, как она доходит до кораблекрушения, оно волнует ее, хотя она знает отлично, что все окончится благополучно: волны выбросят юного путешественника на скалу и он попадет в неведомую, прекраснейшую страну, куда еще не ступала нога человека. Там проживет он счастливейшую жизнь. Будет сам обрабатывать землю, разбогатеет, облагодетельствует всех своих родственников и женится на прекрасной девушке.
Увлекательная история!
Но всякая, даже самая интересная история может сильно надоесть, если читать ее несколько лет подряд, и главным образом потому, что нет под рукой никаких других книг.
— Почитайте мне что-нибудь сами, Бабет! Я так люблю слушать, — просит Фикке.
— «Робинзона» или «Остров Фельзенбург»? — предлагает на выбор Бабет. Последнее время она довольна своей воспитанницей и хочет ей сделать приятное.
— А нельзя ли другое? — с надеждой, что Бабет что-нибудь придумает, говорит Фикке.
— Хочешь смешное? Тогда я возьму «Сказку о бочке» или «Путешествие Гулливера». Кажется, мы давно не перечитывали с тобой этой книги.
— Ах, все это я наизусть знаю. Скучно! — Фикке опечалена, но вдруг ей приходит в голову блестящая мысль: — Знаете что, Бабет? Будет всего лучше, если вы почитаете мне какую-нибудь из ваших книг.
— Но ведь я читаю книги не для детей. У меня все наши лучшие большие французские писатели: Корнель, Расин, Мольер. Они писали только для взрослых. Ты многого не поймешь, Фикке.
— А вы на что же у меня, Бабет? Вы мне объясните, если я не пойму. Ну, пожалуйста, ну, почитайте, — настаивает Фикке. Тон голоса и лицо Бабет говорят ей, что надежда есть, что Кардель уступит. — Вы только попробуйте, — умоляющим голосом говорит она. — И вам самой так будет интереснее.
Кончилось тем, что Бабет согласилась, только она предупреждает Фикке, что будет читать не все, а с пропусками.
— Только то, что ты можешь понять, — говорит она и раскрывает книгу.
Сначала Фикке слышит только ласковый звон красивых французских слов. Как звучно и с какой любовью произносит их Кардель!
Но вот слов становится все больше, они, точно птицы, реют под низкими сводами маленькой комнатки. Им тесно в ней. Крыльями бьются они в потолок и стены и вот сдвинули их. Заколебались, поплыли, раздвигаясь, старые камни и вдали исчезли вместе со всею будничной, скучной, серой жизнью.
По неведомым странам идут рука об руку Бабет с Фикке. Спускаются с холмов, до которых доносится звон и гул битвы, проходят по городским улицам мимо великолепных храмов, мимо роскошных дворцов, поднимаются по широким мраморным лестницам, а вокруг них движутся люди, такие величественные и могучие, так не похожие на обыкновенных людей.
Все, что они говорят, — сильно, возвышенно или страшно. Каждый поступок их — или благороднейший подвиг, или ужасное злодеяние.
Вот Сид — победитель, щит Кастилии и ужас мавров. От него родина его, Испания, ждет спасения, и он спасает ее, борется, как лев, делает чудеса храбрости и возвращается с поля битвы, увенчанный победным венком.
Тебя вознаградить не в силах власть моя!
Так говорил ему сам король.
Бабет знает пьесу почти наизусть. В этом месте она уже не смотрит в книгу и декламирует:
Отныне Сидом (победителем) будь, вот высшая награда.
Пред именем твоим Толедо и Гренада
Пусть задрожат, и вся да ведает земля,
Кто ты и кем ты стал теперь для короля.
А старик Гораций!
Его ответ: «Умереть!» — Бабет читает с побледневшим лицом.
Так он ответил, когда его спросили, что должен был сделать его единственный, оставшийся в живых сын, когда на него наседали три противника. «Умереть!» Смерть лучше позора, долг выше всего.
— Я никогда не думала, что такие люди живут на свете, — говорит Фикке. — Вы видали таких людей, Бабет?
— Такими они должны быть, — отвечает француженка. — Это большие люди с сильными чувствами. Это герои, Фикке. У Корнеля и Расина и женщины не уступают мужчинам. Помнишь Эсфирь? Жена могущественного царя, властителя половины вселенной, царица, облеченная в пурпур и диадему, готова лишиться всего, даже жизни, когда узнает о готовящейся гибели своего народа. Под страхом смерти нельзя было являться к царю без зова. Но она идет к нему. Смерть ей не страшна. Она должна спасти свою родину.
Смерть не страшит ее. Она заговорила,
Все остальное — небо довершило.
Народ спасен и прославляет свою спасительницу.
Пусть прославляемо, воспето будет имя
Ее во все века народами земными!
Поют и славят Эсфирь хоры израильские.
Эти песни, все эти торжественные слова невольно запоминаются. Фикке не учит их, но очень скоро знает наизусть целые монологи.
И когда Кардель опускает книгу и начинает декламировать чей-нибудь монолог, Фикке ждет, чтобы начать декламировать дальше. Так разыгрывают они вдвоем целые сцены.
И Мольера Фикке полюбила. Он совсем другой, чем Корнель и Расин, у него пьесы смешные, веселые. Кардель рассказала, что Мольер сам вышел из народа, потом был актером, видел большой свет, подмечал его слабые стороны и высмеивал их в своих произведениях.
Мало-помалу герои, о которых Фикке читала в книгах, вытесняли людей, которые жили с нею, потому что эти герои были больше и ярче окружавших ее. Так и дожила она с ними до конца зимы.
Подошла весна. На дворе замка нежно зазеленела липа. Фикке стала меньше читать. Она много гуляла с Кардель. Ходили они по улицам Штеттина, заходили и на городскую площадь под липу, где обыкновенно собирались дети, и в городской сад, где еще в прошлом году так много бегала и играла Фикке.
Но теперь она уже больше не бегала и не играла с детьми. Чинно сидела на скамейке или медленно прохаживалась рядом с Бабет по дорожкам, усыпанным желтым песком. Иногда она забывала, что уже взрослая. Ей тоже хотелось и побегать, и пошуметь, и поиграть в жгуты, жмурки или фанты. Но для девочки двенадцати лет в те времена, когда уже у семилетних отбирали куклы, такое поведение сочли бы в высшей степени неприличным.
И Фигхен спешила уйти от искушения.
В эту весну, как и всегда весной, она часто вечером ходила с гувернанткой на набережную. В тихом Штеттине набережная весной, с открытием навигации, была самым оживленным и интересным местом. На пристани стояли готовые к отплытию торговые суда, на берегу толпились проезжие и любопытные, приходившие взглянуть на заморские корабли. Пахло дегтем, мокрым деревом и морским канатом.
Кардель радовалась, когда видела французские суда, и при случае всегда расспрашивала, откуда они и куда идут.
— Из Лиона — штоф, парча, шелковые материи. В Московию везем, — отвечали ей.
— Бургонское и шампанское в Московию.
— Сукна из Англии, по заказу в русские войска.
— Фрукты в Петербург.
— Давно ли считалось, что к этой варварской стране нет ни прохода, ни проезда, — удивлялась Кардель, — а вот теперь все туда везут и везут. Еще на днях Больгаген говорил, что трудно себе и вообразить роскошь русского двора. Он уверял, что там все богаче даже, чем в Париже.
— А это чьи корабли? Скажите, mademoiselle, чьи они? — спрашивал Фриц, указывая на суда, нагруженные строевым лесом.
Но Кардель и сама не знала, чьи это суда.
Возле них на набережной толпились странно одетые бородатые люди. И говорили эти люди на странном, непонятном языке, немного нараспев.
— Это русские. Везут строевой лес в Испанию, — объяснил им кто-то из толпы. — А недавно здесь проходили тоже русские суда с грузом парусины, с пенькой и канатами.
В Испанию! Фикке вдруг вспомнился Сид, гроза мавров. Не отрываясь смотрела она на еще не спущенные паруса. Освещенные закатным солнцем, они четко выступали на синем небе и казались Фикке крыльями, готовыми подняться, чтобы лететь в далекие, неведомые страны.
И Московия ей вспомнилась. Та Московия, которую она знала еще по рассказам своей кормилицы Христи.
Снега. Люди в звериных шкурах.
— А что, Бабет, ведь в Московии этой теперь тоже весна?
— Не думаю. Там, кажется, снег никогда и не тает, — ответила скороговоркой француженка. Она всегда так говорила, когда хотелось перебежать от чего-нибудь совсем для нее неинтересного к другому. — Недавно одна моя знакомая говорила мне, что в эту Московию с открытием навигации поехало много французов — модисток, портних, парикмахеров. Они, говорят, там нарасхват. Богачами возвращаются к себе на родину.
Тихий весенний вечер спускается на город. Одер багровеет в последних закатных лучах. От воды сильнее потянуло канатом и смолой. Фигхен с гувернанткой и Фрицем идут домой. Окошки домов пылают, как на пожаре.
Вот и двор замка. Здесь все уже потемнело.
Нехотя поднимается Фигхен по каменной лестнице на третий этаж. У нее такое чувство, точно она оставила весну на берегу голубой реки, там, где неподвижно стоят корабли. Корабли с крыльями-парусами, готовые лететь в далекие, неведомые, прекрасные страны.
III
Жаркий летний день в Дорнбурге, где семья принца Христиана Августа проводит обыкновенно лето. Время близится к полудню. Фикке стоит у открытого в сад окна классной, выглядывает, не покажутся ли на какой-нибудь из дорожек братья. Они должны прийти к ней на урок чистописания.
Как только семья переехала на дачу, было решено, что Фигхен займется чистописанием с Вилли и Фрицем.
Почерк у нее был недурной, а Вилли, который всего на год был моложе сестры, не писал, а просто царапал. Он был больной мальчик, и его боялись утомлять занятиями. Учили только самому необходимому. Летом же он почувствовал себя крепче, и решили, что Фигхен может попробовать исправить пробел в его образовании. Семилетний Фриц был страшным лентяем. Засадить его за книжку было нелегко. Он едва читал, а писать и совсем почти не умел. Вот и придумали, что мальчики три раза в неделю перед завтраком будут заниматься с сестрой.
Фигхен взялась охотно за дело. Ей показалось интересным сделаться вдруг учительницей. Братья должны будут ее слушаться, а она будет распоряжаться. Потом Вилли и Фриц выучатся отлично писать, все будут спрашивать: «Какой учитель им давал уроки?» Окажется, что Фикке...
Но Вилли и Фриц рассуждали совсем по-другому.
Вместо того чтобы дать им полную свободу, как это полагалось летом, их вдруг засадили в классную и дали им в учителя Фигхен! Все это вместе было так неожиданно и так возмутительно, что братья объявили, что просто не пойдут на урок. Но вмешался отец, и пришлось пойти на уступки. Вилли и Фриц явились в классную. Вилли принес с собой на урок срезанные палочки и нож, чтобы их выстругать. Фриц явился с хлыстом, которым он только что сбивал головки всех встречных одуванчиков. Оба ученика поклялись, что покажут себя учительнице. И показали.
Чего только не приходилось терпеть от них Фикке! Особенно старался Фриц. Чтобы показать свое презрение к учительнице, он свистел, кричал петухом, мяукал кошкой. Чтобы дать отдохнуть своим сведенным, как он уверял, от усердного письма пальцам, он сгибал их, как кошка, которая собирается царапаться, и фыркал в сторону Фикке. Вилли был гораздо спокойнее. Он только за уроком стругал палочки, стараясь, чтобы стружки по возможности попадали в лицо Фигхен, и рассматривал наготовленных для ужения червей, выпуская их на классный стол.
Кайн, приглядывавшая за мальчиками, иногда заходила в классную, но при ней все сразу стихало, и она удалялась, радуясь, что мальчиков наконец засадили за дело и можно отдохнуть от их постоянных проказ, шума и крика. А Фикке никому не жаловалась. Даже Бабет не подозревала, чего ей стоили эти уроки чистописания.
— Ты, кажется, сегодня устала, Фикке? — спрашивала иногда гувернантка, когда Фикке возвращалась после урока в свою комнату.
— В классной было немного душно, — отвечала девочка и спешила заговорить о чем-нибудь совсем другом, чтобы прекратить дальнейшие расспросы.
После урока Фикке ходила показывать матери тетради чистописания братьев.
— Ничего, почерк у них как будто исправляется, — часто говорила Иоганна Елизавета, разглядывая страницы. — И фразы, которые ты им пишешь своей рукой для списыванья, я нахожу удачными. Вот, например, фраза сегодняшнего урока об уважении к старшим. Детям хорошо напоминать об этом при всяком удобном случае. Ты откуда взяла это изречение, Фигхен?
— Мой учитель Лоран написал его в моей тетрадке.
— Отлично, отлично. И я надеюсь, что мальчики относятся к тебе с должным уважением, как к старшей. Ты сумела себя так поставить, что они тебя слушаются?
Фигхен была слишком самолюбива, чтобы сказать всю правду.
— Мне думается, что зимой занятия пошли бы еще успешнее, — уклончиво ответила она. — Летом мальчиков трудно удержать в классной.
Иоганна Елизавета вполне удовлетворилась этим ответом. У нее было слишком много собственных занятий. Она писала дневник, много читала и вела обширную переписку с многочисленными друзьями и знакомыми. Все, что случалось в Берлине, ожившем с воцарением Фридриха Великого, в Брауншвейге, при пышном и веселом дворе ее крестной, в Гамбурге у матери и в Киле у племянника Петра Ульриха, претендента на шведский престол, — все это интересовало Иоганну Елизавету гораздо больше собственного дома со скромной обстановкой семьи коменданта Штеттина.
Положенное число страниц в тетрадях сыновей было написано, и этого ей было довольно. О подробностях она не расспрашивала.
Но сегодня отец с матерью с утра уехали в соседний с Дорнбургом Цербст навестить прихворнувшего владетельного принца, двоюродного брата Христиана Августа, и Фикке напрасно поджидала братьев на урок. Ни Вилли, ни Фриц в классную не являлись.
Фикке сложила тетради и пошла в сад, зеленый и тенистый сад с детства любимого Дорнбурга. Совсем маленькой девочкой она носилась, как носятся стрижи, взад и вперед по аллее около дома. Бабет никуда больше ее одну не пускала, а Фигхен пользовалась всяким случаем, чтобы как можно больше побегать. Улицы Штеттина казались ей скучными, потому что по ним надо было ходить шагом.
Но в этом году Фигхен во многом переменилась. Прежняя шумная живость точно спряталась куда-то в глубину существа Фикке. Бабет, оставляя девочку одну в комнате, уже перестала удивляться, когда, возвращаясь, заставала ее на прежнем месте вполне спокойную и как будто о чем-то задумавшуюся.
Еще в прошлое лето Фигхен, едва закрывалась за гувернанткой дверь, вылетала на лестницу и загадывала, сколько раз успеет взбежать вверх и спуститься вниз до ее возвращения.
И свою любимую широкую аллею возле дома Фикке разлюбила. Пользуясь тем, что ей давали теперь больше свободы, она забиралась на дальние дорожки в конце сада. Здесь было тихо и уединенно. Фигхен казалось, что она сразу попадает в неведомую, одной ей подвластную страну. И сама Фигхен здесь уже не Фигхен. Она Эсфирь, спасительница народа, чье имя воспето «во все века народами земными». Украшенная цветами и увешенная драгоценными ожерельями, которые изображают собой нанизанные ягоды шиповника, она идет молить грозного царя за свой несчастный народ, не зная, что ждет ее — смерть или победа. Но вот она победила. Спасенный народ ее прославляет. С гордо откинутой головой медленно и торжественно выступает Фигхен по тенистой дорожке среди ликующей толпы, и врассыпную бегут потревоженные ее шагами ящерицы, муравьи, жуки и жужелицы, единственные обитатели заброшенного уголка.
Когда же Фигхен превращается в Сида, она ломится со своим самодельным мечом прямо в чащу. У победителя мавров грозно сверкают глаза, и меч, не разбирая, рубит направо и налево. За Сидом — преданное ему войско. Оно не отстает ни на шаг от своего храброго вождя. Потревоженные птицы с писком выпархивают из зелени. Зайчонок со страху приседает под кустиком. Сид победил. Увенчанный зеленым венком, он возвращается в Мадрид.
И как раз в эту торжественную минуту доносится до Фигхен звон обеденного колокола. Надо торопиться. Но победоносное шествие откладывать не хочется, и Фигхен направляется к дому с осанкой и походкой победителя, которого встречает народ.
— Что с тобой? Как ты странно шла по аллее к дому! Я смотрела на тебя из окна, — говорит Бабет, наскоро приглаживая волосы Фикке. — И растрепалась же ты! И вся юбка у тебя в колючках! Где ты была?
— Там, в конце сада, — уклончиво отвечает Фикке. Ей не хочется открывать своего убежища, и она рада, что Бабет некогда расспрашивать. Уже третий раз звонили к завтраку.
Пользуясь отсутствием родителей, Вилли и Фриц не только не явились на урок, но и к завтраку опоздали. Пришлось посылать их разыскивать. Кайн была уверена, что мальчики все время занимались с Фикке в классной, а они оказались на пруду: Вилли удил рыбу, Фриц пускал кораблик. Кайн сама притащила их домой.
— Боже мой! Могла ли я знать! — восклицала она, поднимая глаза и руки к небу. — С мостков так легко упасть в воду... Боже мой!
А вечером, когда вернулись родители, досталось и Фикке за братьев.
— Ты старшая. Должна уметь так себя поставить, чтобы братья тебя слушались, — недовольным голосом говорила Иоганна Елизавета, отбрасывая на стол тетради, в которых со вчерашнего дня не прибавилось ни одной буквы.
Фикке молчала, сжав губы. Она никогда не оправдывалась, если на нее несправедливо нападали.
Но уроки чистописания она начинала ненавидеть и ужасно обрадовалась, когда все занятия были отменены по случаю приезда из Гамбурга бабушки и старшей сестры Иоганны Елизаветы, принцессы Анны.
Принцессе было уже под сорок. Зиму она проводила в постоянных переездах. Танцевала и наряжалась на карнавальных торжествах в Берлине, ездила на концерты и оперные представления по разным крупным владениям.
Много людей она перевидала, и ее многие знали, но до сих пор еще никто не посватал ее, и принцесса каждую весну возвращалась все более посеревшей и потускневшей в свой родной Гамбург.
В семье стали уже поговаривать, что хорошо бы ее пристроить в какой-нибудь монастырь. Но в Квендлинбургском уже были две из Голштинского дома, в других тоже были незамужние бедные принцессы. Да и принцесса Анна все надеялась, что вдруг кто-нибудь посватается. В монастырь ей очень не хотелось.
С приездом родственниц из Гамбурга в Дорнбурге стало сразу оживленнее и веселее. Теперь чаще ездили в Цербст и в гости к соседям.
Обыкновенно с самого утра начинали говорить о том, что бы такое придумать на предстоящий день.
В таких случаях бабушка всегда напоминала о Фикке и настаивала, чтобы внучка принимала участие во всех поездках и развлечениях.
— Девочке тринадцатый год, — говорила герцогиня Альбертина Фредерика дочери. — Незачем ей оставаться с детьми.
Каждое воскресенье Фикке ездила вместе со старшими к церковной службе в цербстский замок. До Цербста было всего две мили. Фигхен очень любила эти утренние поездки. На цветах, на траве и на хлебных, уже вызревавших колосьях блестела еще роса, и свежий воздух слегка холодил щеки при быстрой езде. В коляске у Фикке было свое место рядом с бабушкой. Вся в черном, с молитвенником в руках, герцогиня Альбертина Фредерика казалась особенно торжественной и строгой среди зеленых лугов и желтеющих полей. Но Фикке эта торжественность и строгость нисколько не смущали. Прекрасные и в старости глаза бабушки всегда с любовью останавливались на внучке, и Фикке, тоже из любви, старалась подражать бабушке: держалась как можно прямее и ни разу за всю дорогу не прислонялась к спинке коляски.
Через полтора часа они уже въезжали на главную улицу маленького тихого Цербста.
Здесь приезжие из Дорнбурга всегда вызывали переполох. Они показывались как раз в такой час, когда на улицах было больше народу, чем обыкновенно. Разодетые по-праздничному в грубые домотканые одежды жители направлялись к церкви. Шли чинно, целыми семьями: мужья в темном, женщины в зеленых и красных юбках, в ярких корсажах и с чепцами на голове. Впереди родителей семенили дети: мальчики — повторение своих отцов, девочки — маленькие женщины в чепчиках. И у взрослых, и у детей — у всех были молитвенники в руках. Завидев коляску, люди останавливались. Мужчины, большие и маленькие, почтительно снимали шляпы и низко кланялись, женщины, в чепцах и чепчиках, приседали. А из маленьких, заставленных цветущими геранями окошек выглядывали любопытные. Всем хотелось посмотреть на своего принца и его семью. Христиана Августа к тому же все очень любили за его приветливость. У него было такое доброе лицо, и он так ласково и охотно отвечал на поклоны. Иоганна Елизавета только слегка наклоняла свою гордую голову в пышной напудренной прическе, но она была такая красавица и такая нарядная, что все равно все смотрели на нее с восхищением. Фикке кивала головой направо и налево. Ей очень нравилось, что все им кланяются.
— Вот и наша знаменитая фабрика, — говорил герцогине Альбертине Фредерике Христиан Август, указывая на высокое темное здание. — Здесь приготовляют наши чудесные, затканные серебром и золотом, шелковые материи. При хорошем сбыте они могут затмить даже английские ткани.
Затканные материи были самое замечательное из всего, чем мог похвалиться ничем в других отношениях незамечательный Цербст, и все принцы Ангальт-Цербстские очень гордились ими.
Вот и резные чугунные ворота, украшенные фамильным гербом. За ними, в густой зелени сада, выступает весь белый замок.
Прямо из ворот — большая площадка, украшенная фонтаном и клумбами. Звонит колокол на сторожевой башне. Караульные бьют в барабаны.
В передней гостей встречает хозяин — владетельный принц. С ним старший брат Христиана Августа.
Фикке очень любит своих дядей. Они оба похожи на ее отца: такие же добродушные и приветливые. Оба не имеют детей.
— Фикке еще выросла! Вот бы мне ее в наследники.
— Жаль, что не мальчик, — говорит владетельный принц.
И пока они все поднимаются по лестнице, он вполголоса расспрашивает Христиана Августа о Вилли, и то, что отвечает ему отец Фикке, по всей вероятности, не особенно утешительно, потому что лица у обоих сразу делаются печальными.
В гостиной приезжих встречает владетельная принцесса.
Она дочь захудалого владетеля. У отца ее всего двенадцать подданных, шесть солдат, один замок и мельница, но она очень гордится своим родом и прилагает все старания, чтобы показать голштинским принцессам, что она ничуть не ниже их по происхождению, а по положению мужа несомненно выше гордячки Иоганны Елизаветы. Та, несмотря на свою заносчивость, все-таки только жена коменданта, а она жена владетельного принца, правда бедного, но все-таки настоящего владетеля. Этого отнять у нее никто не может. И надеть шлейф длиннее, чем у нее, Иоганна Елизавета не имеет права. Но Иоганна Елизавета горда. Владетельная принцесса не уверена, что она соблюдет умеренность в шлейфе, и по воскресеньям надевает платья непомерной длины.
И наряжается во все самое лучшее. Выезжать ей некуда, принимают они мало — на это не хватает средств. Принцесса рада случаю нарядиться и, несмотря на жару, встречает гостей в платье тяжелого цербстского шелка на больших фижмах и в высокой, как башня, напудренной прическе.
— Небесный свод со звездами, не хватает луны, — шепчет принцесса Анна сестре, указывая глазами на темно-голубой шелк, затканный золотыми звездами.
Кроме хозяйки дома, в гостиной сестра Христиана Августа, старая дева принцесса Августа, и племянник его, хромой, но веселый принц Генрих.
Все идут в церковь.
В церкви, в обшитой красным бархатом ложе, предназначенной для семьи принцев Ангальт-Цербстских, у Фигхен свое место рядом с бабушкой. Ложа как раз напротив алтаря, украшенного вышивкой принцессы Августы. По обе стороны ложи, вдоль белых стен, белые скамьи для служащих замка.
Все поднимаются со своих мест, когда семья принца входит в ложу. Гудит оргáн. Солнце ударило сверху в круглые окна и золотыми столбами пронизывает белую церковь, задевая пурпуровый барьер ложи.
Кончается служба, и вся семья спускается по маленькой узкой лестнице к небольшой двери, за которой идут уже комнаты замка, а лестница идет дальше вниз, в склеп, где стоят гробы умерших принцев и принцесс Ангальт-Цербстских.
Фикке всегда немножко страшно, когда она с площадки перед дверью в комнаты заглядывает вниз. Лестница идет извивами, с каждой ступенькой все суживается. И там темно, как ночью.
Фикке как-то спускалась в склеп с матерью к маленькой сестрице. Перед ними несли фонарь, и надо было плотно прижиматься к холодной стене, чтобы не упасть. В самом склепе было светло от окошек под сводчатым потолком, но так холодно, что Фигхен вся дрожала. А может быть, дрожала она и не от одного холода. Ее испугали гробы умерших владетелей. Они стояли на мраморных подставках, стояли огромные, тяжелые, точно гробы не людей, а каких-то сказочных великанов. А за ними, почти незаметные, стояли крошечные цинковые гробики. Их было много. Дети часто умирали у цербстских владетелей. На гробик маленькой сестрицы Фикке положила цветы.
Бедная сестрица! Ей было всего двенадцать дней, когда она умерла, и цветов она никогда не видала.
Из церкви все проходили в столовую завтракать. Проходили приемную с гобеленами и большим венецианским зеркалом, проходили зал с фамильными портретами и маленькую приемную принцессы с только что выписанной модной французской мебелью. Но эта замысловатая мебель на тоненьких ножках казалась не на месте среди строгой старинной обстановки. Стулья с прямыми спинками и темные ткани подходили бы здесь больше.
Но хозяйка довольна. Ей давно хотелось, чтобы у нее в доме было что-нибудь модное, французское, как и у других. Все владетели мелких княжеств тянутся за своими более богатыми соседями.
В цербстском замке мало кто бывает, но в нем большой штат служащих, и все эти ничем не занятые люди скучают, ссорятся между собой и сплетничают друг на друга.
За завтраком прислуживают несколько слуг.
Блюда вносятся с большой торжественностью, но кушанья на них самые простые и порции очень маленькие. Фикке после этих воскресных завтраков часто выходит из-за стола голодная.
Но это ничего. И ничего, что за завтраком ей всегда бывает скучно. Самое интересное начинается после завтрака.
Только бы не пропустить! Тети Августы уже нет в столовой. Фикке бежит ее догонять.
В конце длинного, широкого, светлого коридора она видит удаляющуюся фигуру. Принцесса Августа, несмотря на свои пятьдесят лет, ходит удивительно легко и очень быстро. И какая у нее тонкая талия! Гораздо тоньше, чем у самой Фикке.
Кайн ей рассказывала, что тетка встает всегда в 6 часов утра, сразу зашнуровывается и уже не снимает корсета до самой ночи. Она даже пробовала спать в корсете, но не выдержала. Сняла.
Фикке хотелось бы иметь такую тонкую талию, как у тети, но она слишком любит поспать, чтобы вставать в 6 часов. А спать в корсете ужасно. Фикке это знает. Целый год она ни днем, ни ночью не снимала корсета, когда думали, что она вырастет кривобокой.
— Тетя! — кричит на весь коридор Фикке.
Тетка останавливается.
Каждое воскресенье Фикке видит принцессу Августу и все-таки не может привыкнуть к ее лицу. Вся его нижняя часть до такой степени изуродована рубцами, что их не могут скрыть даже газовые брыжи, которые принцесса велит себе делать чуть ли не до самого носа.
Все та же Кайн, которая знает во всех подробностях все, что касается Ангальт-Цербстского дома, рассказала Фигхен, что до десяти лет принцесса обещала быть настоящей красавицей. Только несчастье сгубило ее красоту. На ней загорелась накидка, которую она надевала, чтобы пудрить волосы, и огонь изуродовал всю нижнюю часть лица.
— Можно мне с вами, тетя? — спрашивает Фигхен, стараясь не смотреть на рубцы. В светлом коридоре они особенно заметны и безобразны.
— Пойдем. — Принцесса произносит это слово равнодушно, как и все, что говорит. Фикке кажется, что в мыслях тетя всегда где-то далеко-далеко.
Вдвоем входят они в комнату принцессы, где все украшено вышивками ее работы. И занавески на окнах, и занавес над кроватью, и покрышки на мебели — все вышито ее руками. Рисунки на вышивках необыкновенные. Ни у кого таких нет.
— Тетя, Бабет поручила мне попросить у вас узоров для вышивания, — говорит Фикке.
— Узоров? У меня их нет. Все мои рисунки я нахожу на дорожках сада в солнечный день. Взгляни на эту покрышку. Это просто следы птичьих лапок на песке. А вот на этой подушке кленовые листья. Их освещало солнце, и они отбросили тень. Я ее вышила. Скажи своей Бабет, что других образцов у меня нет.
То, что рассказывает тетя, интересно, и вышивки у нее красивые, но Фикке не большая рукодельница. Ее больше занимает комнатка рядом с комнатой принцессы. Туда ведет маленькая, едва заметная в стене дверь.
— А к птицам когда пойдем, тетя?
— Сейчас.
Открывается наконец таинственная дверь.
Щебет, писк, трепыхание крыльев.
— Еще прибавилось птиц! — кричит Фикке.
— Как они тебя испугались, — говорит принцесса. — Ко мне они уже привыкли. Ручными стали.
Все, что может подняться, уселось на жердь, протянутую под потолком с одного конца комнаты на другой. Сколько испуганных блестящих глаз смотрит сверху на Фикке. И кого здесь только нет: и воробьи, и галки, и жаворонок, и ласточка, и скворец.
На полу остались только те, кто совсем не может ни летать, ни уцепиться за жердочку: петух, курицы, цыпленок, утка с отмороженными лапками, параличный попугай, жаворонок с вывихнутым крылом, дрозд на одной ноге.
Принцесса сыплет на пол зерна. Первым бросается к ним петух, за ним курица, потом скворец с перешибленным крылом, а за этими первыми смельчаками один за другим подлетают, подходят и подползают другие. Подскакивает, помогая себе крыльями, старый знакомый Фикке — дрозд на одной ноге. Он живет у принцессы уже третий год.
— Так привык, что не хочет никуда лететь. Пробовала его выпускать, а он сейчас же летит назад, — рассказывает тетка. — А вот эти птицы совсем новые. Я недавно подобрала их. Видишь, жаворонок. У него крылышко попорчено. Вот кривоногий цыпленок. Его совсем бы заклевали в птичнике. А соловья мне удалось отнять у кошки.
Принцесса Августа оживляется. Красивые глаза ее блестят, все лицо точно светлеет. Теперь Фикке верит, что тетя была красавицей. Она заглядывает ей в глаза и спрашивает:
— А с курицей что случилось?
— Ей пробили голову. Она теперь уже поправляется. А вот с петухом вышла пресмешная история. Собака выдрала его великолепный хвост, и он так был этим сконфужен, что прятался в самый темный угол и ничего не ел. Чуть с голоду не пропал. Я взяла его сюда, и он отошел. Видишь, и хвост у него начал отрастать.
— Вижу, вижу. Вот новые перышки. Франт какой! — Фикке смеется. — А когда же, тетя, вы отпустите на волю тех, кто уже поправился? — спрашивает она.
— Совсем здоровых пока еще нет. Подождать надо, — отвечает принцесса.
— Как нет здоровых? — удивляется Фикке. — Вот зяблик совсем здоров. Смотрите, как носится по комнате. И малиновка за ним... Да и голубь поправился, и ворона, и воробушки...
— Пускай еще немного окрепнут, — говорит тетка.
Она привыкла к птицам, и ей очень не хочется с ними расставаться. Даже разговор о том, что их надо выпустить, ей неприятен.
— А вы сказали в прошлое воскресенье, что уж в будущее непременно отпустите. «Будущее» — это ведь сегодня, — упрямо повторяет Фикке.
Но такая настойчивость начинает сердить принцессу. Она спешит увести Фикке из птичьей комнаты и плотно притворяет за собой маленькую дверь.
Дверь закрыта, но Фикке кажется, что она слышит беспокойное царапанье, трепыхание крыльев.
— Тетя, день такой чудный. Отпустим их! На воле им лучше будет.
Лицо принцессы Августы темнеет, на лбу и в углах рта появляются складки.
— Я прошу тебя не вмешиваться в мои дела. Птицы — мои, — строго и сердито произносит она.
Наступает долгое молчание. Принцесса Августа сидит, уронив руки на колени. Она забыла о птицах, забыла о Фикке. Медленно встает, подходит к зеркалу. Смотрит в него долго, пристально. Солнце как раз ударило в окна.
На полном свету рассматривает принцесса свое лицо, пальцами отводя брыжи от подбородка. Фикке делается неловко и тоскливо. Она тоже встает и уходит в угол, делая вид, что рассматривает вышивку на диване.
— Скажи мне, только правду скажи, Фикке, очень заметны мои рубцы? — робко и тихо спрашивает она.
У Фикке сердце сжимается, и всю ее пронизывает острая жалость.
— Ах, нет, тетя, рубцы заметны чуть-чуть, и то, если присмотреться, а так... право, тетя, почти совсем не видно... — смущенно лепечет она.
Но принцесса Августа, кажется, не слышит самого голоса Фикке. Она жадно вслушивается лишь в смысл произносимых ею слов.
— Да, все говорят, что с годами они сглаживаются, — произносит она, вся загораясь надеждой.
В эту минуту она забывает, что ей уже пятьдесят лет, и не только прошла молодость, но и жизнь скоро пройдет. Она надеется, что рубцы исчезнут, эти ужасные рубцы, отнявшие у нее всю радость жизни. Они взяли у нее ее молодость, ее счастье. Если они исчезнут — молодость и счастье вернутся. Явится принц и попросит ее руки.
— Ведь вот и принцесса Анна не так молода, а наш хромой принц Генрих, кажется, собирается делать ей предложение, — говорит она, все еще рассматривая в зеркало свое лицо. — Ты об этом слышала, Фикке?
Но Фике ничего не слыхала. Она отошла к окну, чтобы не видеть страшных, ярко освещенных шрамов. За окном солнце такое веселое, трава такая яркая и птичий щебет — точно переливаются бесчисленные золотые ручейки.
«А те-то несчастные взаперти», — думает Фикке про птиц в соседней комнатке.
— Тетя, выпустим их! — вырывается у нее невольно умоляющий возглас.
— Кого? — спрашивает принцесса Августа, отрываясь от своих мыслей.
— Да птичек... Ведь вот какое солнце, и как, должно быть, весело летать, а они там в комнатке на жердочке, на полу...
Принцессу Августу раздражают приставания Фикке, но она сдерживает свое раздражение.
— Я тебе сказала, что выпущу птиц, когда они вполне поправятся и окрепнут, — говорит она и направляется к пяльцам. — Вот лучше помоги мне подбирать шелка.
Фикке громко вздыхает, но отходит от окна и садится рядом с тетей. Разбирает моточки: васильковые к васильковым, фиолетовые к фиолетовым.
Солнце золотыми зайчиками бегает по комнате, из окна пахнет пригретой хвоей и цветами. За дверью уже ничего не слышно. Все заглушил птичий щебет в саду.
«Бедные! Каково им в душной комнате! Вот полетели бы, если б их выпустить!» — думает Фикке.
— Пройди в приемную. Я там забыла вчера розовый шелк. Принеси, — говорит Фикке принцесса. — Или нет, не надо. Не ходи. Ты не найдешь. Я сама схожу.
А что там за маленькой дверью?
Фикке вскакивает со стула, открывает дверцу и на секунду задерживается на пороге, точно раздумывает. Но думать особенно некогда, и она стрелой летит к окну.
Не сразу поддаются долго не отворявшиеся задвижки. Хорошо еще, что Фикке очень сильная: толчок, другой, третий — и забухшие рамы распахнулись.
Вот и готово! Ярко и звонко хлынуло в раскрывшееся окно птичье щебетание из сада, а в птичнике вес притихло, все точно замерло.
— Да летите же, летите! Что же вы? — кричала Фикке и махала руками.
Несколько птиц, как плоды с ветки, сорвались с жердочки и упали, бессильно приникнув к полу. Петух забил крыльями и вытянул шею, как будто собирался запеть, но раздумал и, наклонив набок голову, причем дрогнул его зубчатый красный гребень, смотрел на Фикке умным янтарным глазом.
— Кш! кш! Да что же это, Боже мой?
Фикке подхватила с полу одну из птиц и выбросила ее в окошко, потом другую, третью. Она так увлеклась своим делом, что не заметила, как сзади появилась тетя. Опомнилась, только когда раздался резкий, дрожащий от гнева голос принцессы Августы:
— Да как ты смеешь, дрянная девчонка, как ты смеешь? — И бросилась к окну, чтобы захлопнуть его.
Птицы, понявшие было, что перед ними свобода и счастливая жизнь, почти все устремились к окну. Стук захлопнувшейся рамы отбросил не успевших вылететь назад, под своды тесной комнатки. Они стали летать и метаться, натыкаясь на стены, ударяясь о потолок, сшибаясь, а у окна, заслоняя его своей высокой темной фигурой, стояла принцесса Августа.
Когда она делала порывистые движения, чтобы закрыть окно, брыжи сдвинулись с ее подбородка, обнажая безобразные рубцы и шрамы. Все лицо, искаженное гневом, сделалось старым и страшным.
Фикке завизжала, заткнула уши и, вобрав голову в плечи, бросилась вон из комнатки...
Полуразлетевшийся птичник был скоро вновь наполнен принцессой Августой, но Фикке в него больше не допускалась.
Воскресные поездки в Цербст утратили для нее всякий интерес. Скоро у нее явились новые знакомые среди соседей и заставили ее совсем забыть птичью богадельню принцессы Августы.
IV
Теперь Фигхен почти не горевала, когда ей говорили, что в коляске нет места и она не поедет в Цербст. Ее больше занимали другие поездки. У принца и принцессы Остфризских ей было гораздо веселее, чем в Цербсте.
У принца был прекрасный замок и многочисленный двор. Он немного напоминал Фикке любимый ею Брауншвейг. Иоганна Елизавета иногда гостила в замке по нескольку дней и всегда бывала здесь в самом прекрасном настроении. Обыкновенно она привозила с собой и Фикке, потому что в остфризском замке жила ее подруга — одиннадцатилетняя графиня Доротея Сольмс.
Девочка эта была сирота, и бездетный принц взял ее к себе вместо дочери. Принцесса привязалась к Доротее и очень заботилась об ее воспитании.
Про маленькую графиню все в один голос говорили, что она настоящий ангел и по наружности, и по внутренним качествам. И Фикке тоже первое время восхищалась своей подругой и завидовала ее льняным волосам: они были так белокуры, что их даже не надо было пудрить, и так вились, что маленькую графиню никогда не мучили ни щипцами, ни папильотками. И голосок у Доротеи был прелестный. Принцесса Остфризская часто заставляла ее петь в своей приемной, где обыкновенно по вечерам играли в шахматы за маленькими столиками из розового дерева.
По первому слову своей приемной матери маленькая графиня снимала со стены лютню, гости прекращали на время игру.
Доротея пела:
Пречистая Дева, Мать Господа Бога,
Звездой Ты горишь над земною дорогой,
И ангелов льются святые напевы:
«О, райская лилия, кроткая Дева!»
Всем, слушавшим пение, казалось, что на стуле с высокой точеной спинкой сидит не маленькая графиня с лютней, а один из Божьих ангелов поет хвалу Деве Марии.
И Фикке тоже любила слушать Доротею. Любила уходить с нею по вечерам в их общую комнату на башне. В башне была всего одна комната, но очень большая и вся в окнах. Внизу под нею была другая, где обыкновенно помещалась Доротея с француженкой-гувернанткой. Во время приездов Фикке француженка оставалась одна, но двери обеих комнат, выходивших на одну лестницу, держали открытыми, и гувернантка следила, чтобы девочки не очень болтали на ночь.
Но разговаривать в темноте и так, чтобы гувернантка не слыхала, было необыкновенно интересно. Самые простые вещи и слова приобретали таинственный смысл.
— Расскажи мне про графиню Марию, — просила шепотом Фикке. — Знаешь, про ту, которая в зале на портрете, с гладкой прической и черным кружевом на голове.
— Но я уже рассказывала.
Маленькая графиня в постели. Ее льняные кудри запрятаны в ночной чепчик. Она похожа на маргаритку со своим бело-розовым личиком, окруженным батистовыми оборками.
— Все равно расскажи, — просит Фикке.
— Ну вот, у этой графини Марии было много земель и прекрасный замок с высокой башней, — начинает Доротея.
— Это где мы теперь? — перебивает ее Фикке.
Она все еще не может справиться с волосами. Обыкновенно ей помогает Бабет, но Фикке и от нее скрывает, как ей иногда бывает трудно в гостях. Ей хочется, чтобы все думали, что она не нуждается ни в чьей помощи.
— Да, это та самая башня, — говорит Доротея. — Но, милая Фикке, позволь мне лучше завтра рассказать тебе про графиню Марию. Это так печально и немного страшно.
Но Фигхен любит и умеет поставить на своем.
Доротея продолжает рассказ:
— И был у графини муж. Она его очень любила, и жили они счастливо и весело в своем замке. Но вот началась война, и граф уехал. Осталась графиня Мария одна. Перестала она наряжаться и веселиться. Часто поднималась на башню и часами смотрела на дорогу, по которой уехал граф. А когда подошло время ему вернуться, она с раннего утра стала надевать самое нарядное и красивое платье и целый день не уходила с башни: все боялась, что не успеет встретить супруга. Но напрасно ждала она. Не вернулся граф. Его убили на войне.
В этом месте рассказа голос Доротеи всегда начинал дрожать, но она старалась справиться с волнением и продолжала, уверенная, что подруга все равно заставит ее досказать историю до конца:
— Целую жизнь уже не снимала графиня Мария траурного платья. Шло время, а она с каждым днем все дольше и дольше оставалась в башне. И когда ей напоминали об ее богатствах, землях и замках, на все у нее был один ответ: «Много у меня замков, но мне ничего не нужно, кроме башни, много у меня земель, но мне дорогá только дорога, по которой уехал и не вернулся мой супруг».
Здесь уже Доротея не выдерживала. Рассказ сразу обрывался, и она принималась горько плакать.
Но Фигхен хотелось дослушать все до конца.
— А как же она умерла?
— Да ведь ты это знаешь.
— Я хочу еще раз послушать. Говори.
— Графиню Марию нашли на башне мертвой, — глотая слезы, продолжала Доротея. — Она сидела в кресле у окна, обращенного на дорогу, и лицо у нее было такое радостное и светлое, какого никто никогда не видал у нее с того самого дня, как уехал граф... Ах, не могу, Фикке, это так печально...
— Почему же у нее было такое лицо? — настойчиво и властно раздается в темноте.
— В ту минуту, как ей умереть, на дороге к замку вдруг показался всадник. Говорили, что это был покойный граф. Он показался и пропал... Ах, оставь меня, Фикке! Мне страшно. Я боюсь...
И маленькая графиня прячет голову под одеяло и плачет от жалости и страха.
— Вы, кажется, еще шепчетесь? — раздается на лестнице.
Фикке спешит потушить свечу и бросается в постель.
— Я видела свет. Вы все еще не заснули? — слышится в дверях. Это спрашивает гувернантка.
Фикке молчит, а Доротея, узнав знакомый голос, высовывает из-под одеяла примятые оборки чепца.
— Мы сейчас, сейчас заснем, m-llе, — обрадованным голосом говорит она.
При m-llе ей уже не так страшно. И вообще с m-llе в комнате ей иногда бывает гораздо приятнее, чем с Фикке. Ничего, что m-llе гувернантка, а Фикке подруга. Но жаловаться нельзя: Фикке подруга и гостья.
Фикке уже давно спит, а Доротея не может заснуть. Ей все еще страшно. И когда она наконец засыпает, то спит неспокойно, и снится ей страшный сон: вернулся граф, супруг графини Марии, и по всему замку ищет свою жену. Вот он поднимается по лестнице, вот отворяет дверь, входит в комнату...
«Проснись, Доротея! Где моя жена, графиня Мария?»
С криком открывает глаза маленькая графиня. Уже совсем светло, и перед нею не граф, супруг графини Марии, а совсем одетая Фикке.
— Вставай, Доротея, — говорит она.— Там, во дворе, охотники. Сейчас выезжают. Из окна все видно.
— Но я еще не одета, — едва раскрывая сонные глаза, лепечет Доротея.
— А ты завернись в одеяло. Спрячься за занавесь. Ужасно интересно. — Фикке тащит девочку за собою к окну.
Трубят в рога. Конюхи один за другим подводят к крыльцу верховых лошадей. Егеря в красном и в позументах едва сдерживают собак.
— Вот и мама! — кричит Фикке. — В синей амазонке с голубым вуалем. Ах, как мне хочется сесть на лошадь! Амазонка, лошадь! Пришпорить — и лететь во весь опор, так лететь, чтобы ветер свистел в ушах.
— Мы сегодня тоже поедем в лес завтракать вместе с охотниками, — говорит Доротея.
— Ехать в коляске, когда все верхом! Вот отвращение! И приедем, когда все интересное уже кончится. Нет, я так не могу!
Лицо у Фикке такое возмущенное и отчаянное, что маленькая графиня испугалась.
— Но неужели так интересно, когда убивают всех этих оленей, коз и разных птиц? — робко произнесла она. — Неужели интересно?..
— Ах, ты ровно ничего не понимаешь! — набросилась на нее Фикке. — Мне все интересно, все решительно... Я бы хотела и ездить верхом, и охотиться, и танцевать, и бегать так, чтобы дух захватывало... И еще хотела бы я, чтобы у меня всего было много, и земель, и замков. Больше всех, больше, чем у самой графини Марии. А только жить так, как жила она, я бы не стала. У меня были бы и фрейлины, и пажи в богатых одеяниях, я бы давала балы, маскарады...
У маленькой графини свалилось к ногам одеяло, но она не замечала этого. Стояла босая, в одной рубашке, прижав руки к груди и смотрела на подругу широко раскрытыми голубыми глазами. И вдруг, точно опомнившись, схватила одеяло и быстро-быстро зашлепала к постели босыми захолодевшими ногами. А Фикке уже позабыла о ней. Она стояла, отвернувшись и прижимаясь лицом к окну. Смотрела, как уезжали охотники. Маленькая графиня, точно зверек из норки, выглядывала на нее из-под одеяла.
Графиня Бентинк, которую многие называли потихоньку чертенком, конечно, была бы более подходящей подругой для Фикке, чем Доротея. Только, к сожалению, старшим эта быстро вспыхнувшая дружба не понравилась, и подруг разлучили. Печальная это была история! А началось все так отлично. Они подружились с самого первого взгляда. Так это было.
Бабушке захотелось навестить свою дальнюю родственницу, вдову графа Альтенбургского. Принцесса Анна отказалась ехать. Сказала, что для нее Ворель, где жила старуха графиня, не представляет ровно ничего интересного, а дочери графини, которая была замужем за графом Бентинком, она просто не выносит. С бабушкой поехали Христиан Август, Иоганна Елизавета, и так как четвертое место все равно пустовало, родители без труда согласились на предложение герцогини захватить Фигхен.
Фикке была в восторге. Она еще ни разу не бывала у графини Альтенбургской, а все новое и волновало, и интересовало ее всегда необычайно. И на этот раз Фикке не разочаровалась. Никогда еще за целую жизнь ей не приходилось видеть того, что она здесь увидала.
Версты за две до замка их встретил юноша верхом на прекрасной вороной лошади. Он был с ног до головы в красном и в красной шапочке на черных кудрях, а на высоких сапогах у него блестели серебряные шпоры. Он мчался во весь опор и ловко осадил коня у самой коляски.
— Добро пожаловать, дорогие гости! Вас ожидают в замке с самого утра.
Юноша приподнял красную шапочку и весело улыбался, показывая белые зубы.
Фикке удивило, что на приветствие и улыбки все отвечали не только очень сдержанно, но почти сухо, а герцогиня Альбертина Фредерика даже ничего не сказала, а только опустила глаза.
— Я надеялась, что вы меня не сразу узнаете, — продолжая улыбаться, беспечным и веселым голосом сказал верховой.
«Надеялась? Это что же значит?» Фикке вся подалась вперед. Христиан Август сидел с нею рядом и своей плотной фигурой заслонял от нее верхового, но Фикке умела так вытягивать шею, как никто. Верховой только теперь разглядел девочку и по глазам ее сразу понял, что она вне себя от изумления и восхищения.
— Кажется, мне удалось провести одну молодую особу, да и то, вероятно, потому только, что она меня никогда прежде не видала. Это, по всей вероятности, ваша старшая дочь, принц? Позвольте представиться: графиня Бентинк, дочь графини Альтенбургской. — И верховой приподнял над головой красную шапочку.
Фикке сделалась краснее красного костюма графини. Женщина в мужском платье! Верхом! И как сидит на лошади!
А графиня Бентинк, чувствуя и видя, что ею восхищаются, пришпорила лошадь серебряными шпорами и помчалась впереди коляски, тонкая и красная-красная на своем вороном коне.
Вот это была езда, о которой мечтала Фикке!
Черные кудри графини точно летели за ней, и ветер, наверное, свистел у нее в ушах.
— Ездит, как хороший берейтор! [Берейтор — обучающий верховой езде.] — сказал, следя за нею глазами, Христиан Август, но в голосе его слышалось только удивление и ни намека на восхищение, которое испытывала Фикке.
— Бедная мать! — вздохнула герцогиня Альбертина Фредерика.
Фикке недоумевающими глазами обвела всех. Никто не разделял ее восторга, но ей это было все равно. Графиня Бентинк представлялась ей самым обворожительным и интересным существом.
«И кажется, я ей тоже как будто немного понравилась», — подумала она, вспоминая веселые черные глаза.
И когда у входных дверей замка графиня Бентинк, опередившая их, уже пешком подошла к коляске и попросила поручить ей на время «молодую особу», обещая, что та с ней не соскучится, Фигхен так проворно соскочила с подножки и с таким решительным видом стала рядом с новой знакомой, что старшим ничего больше не оставалось, как согласиться на предложение.
— Мы с вами проведем превесело время, — говорила графиня, поднимаясь с Фикке по лестнице в свою комнату. — Вы ездите, конечно, верхом?
— Нет, не езжу.
— Никогда не садились на лошадь? Но это такое наслаждение! Подождите, я вас выучу ездить верхом. И мы будем делать чудесные прогулки. На охоту поедем. Хотите?
Еще бы не хотеть! Фикке только и мечтала об этом.
— И я вас научу стрелять, — продолжала графиня. — Дам вам ружье. У меня есть прекрасное, совсем легкое, и насечка на нем золотая.
У Фигхен щеки раскраснелись от волнения и глаза блестели.
— Сейчас надо будет идти к завтраку, я едва успею переодеться. В мужском платье я при матери не хожу. Она этого не любит. Но вам незачем уходить. Я переоденусь за ширмами. Вы меня подождите. Хорошо?
Конечно, все хорошо. Все хорошо, только бы не расставаться ни на минуту с обворожительной новой знакомой.
Графиня скрылась за ширмами. Фикке с любопытством осматривала комнату. На одной стене на крючках висело несколько ружей, на другой — удочки.
«Всё как у мужчины», — подумала Фикке. Ей захотелось поближе рассмотреть ружья. Вероятно, среди них было и то небольшое, с золотой насечкой. Взгляд ее скользил по стене и невольно остановился на большом овальном портрете. С этого портрета смотрело на нее тонкое, очень красивое мужское лицо. Напудренный парик, кружевное жабо. Из-под кружевного манжета сверкали драгоценные кольца на длинных изящных пальцах.
Из-за ширм показалась графиня. Лицо у нее было недовольное.
— Ах, эти платья! Что может быть ужаснее! Вы смотрите на портрет? Это мой муж. Если бы у него в замке не было так чопорно и его родственницы не донимали бы меня бесконечными наставлениями, я бы не уехала от него к матери.
Она подошла к зеркалу и стала нетерпеливо одергивать кружева у ворота и на рукавах.
В платье на фижмах графиня уже не казалась Фикке такой красивой и молодой, как в мужском костюме. Видно было, что ей уже за тридцать. Она взбила короткие волосы и без пудры подколола их пучком на затылке, выпустив по бокам по локону.
— Одеваюсь всегда сама и вообще ненавижу вокруг себя женщин: суетятся, кривляются, сплетничают друг на друга...
Она позвонила в серебряный колокольчик, и в комнату вошел слуга в коротком синем камзоле, обшитом позументом, в чулках и башмаках с пряжками.
— Скажите, чтобы в конюшне был наготове смирный Томми. Мне он будет нужен после завтрака. — Я хочу вам дать урок верховой езды, — обратилась она к Фикке.
— Только бы мне позволили! — вырвалось у Фикке.
— На свете, уверяю вас, нет ничего невозможного, я всегда добивалась, чего хотела. Положитесь на меня.
Они вдвоем прошли в комнату графини Альтенбургской, старой и очень строгой пожилой дамы. Там сидела бабушка и родители Фикке. Графиня Бентинк сразу притихла. Хозяйка видела Фикке первый раз.
Она внимательно разглядывала ее в лорнет и долго соображала вслух, на кого она похожа, но так и не решила этого вопроса. Все пошли в столовую завтракать, а когда кончили, графиня Бентинк так настойчиво просила Христиана Августа разрешить Фигхен сесть на лошадь и немного покататься на дворе замка, что он в конце концов уступил.
— Да вы молодец! — похвалила ее графиня, когда Фикке смело и легко, не дожидаясь помощи, сама вскочила на лошадь.
Конюх держал лошадь под уздцы, и она несколько раз объехала вокруг двора.
— Завтра вы опять попробуете ездить во дворе, а потом мы уже будем ездить на прогулки вдвоем. Согласны?
Фикке была согласна на все. И когда графиня выразила надежду, что они скоро сделаются настоящими друзьями, у Фикке захватило дыхание, и она даже ничего не нашла сразу, что бы ответить на такое лестное предложение. Только вспыхнула и взглянула на графиню восхищенными глазами.
Но та и без слов поняла, что чувствует ее будущий друг, и, вероятно, именно это привело ее в такое прекрасное настроение, что она здесь же, в приемной, через которую они как раз проходили, предложила Фикке исполнить с нею штирийский танец.
— Но я не умею, — отнекивалась смущенная девочка. — Этому танцу меня не учили.
— Да это совсем просто. Я и сама недавно его узнала. Видела, как танцуют, проезжая мимо одной деревни. Очень он мне понравился. Я, надо вам сказать, ненавижу разные торжественные менуэты. Попробуем! Повторяйте за мной все, что я буду делать, так и выучитесь.
И Фикке через четверть часа танцевала не хуже самой графини. Танец на самом деле оказался очень простым. Главное в нем было — кружиться как можно быстрее и как можно сильнее притопывать ногами, упираясь руками в бока. И графиня и Фикке танцевали с таким увлечением, что у обеих выскочили шпильки и волосы рассыпались по плечам. Они обе так увлеклись, что не слышали, как распахнулись двери, пропуская проходивших к обеду в столовую графиню Альтенбургскую, герцогиню и Христиана Августа с супругой.
— Боже мой, Аделаида!
— Фигхен! — стоном пронеслось по комнате.
Танцующие сразу остановились. Обе невольно схватились за волосы. Графиня Бентинк смеялась. Она совсем не была смущена.
Приключение только веселило ее. Фикке стояла, опустив глаза. А из-за спин застывших в изумлении и негодовании господ выглядывали слуги. Они стояли в дверях.
— Идемте же обедать, — овладев собою, сказала графиня-мать.
И прерванное шествие направилось в столовую.
Позади всех шли молодая графиня и Фикке. Графиня посмеивалась, но вид у нее все-таки был сконфуженный, а сердце Фикке терзали ужасные предчувствия.
В этот же вечер бабушка и родители увезли Фикке домой.
Так и не состоялся второй урок верховой езды, и оборвалась так интересно завязавшаяся дружба.
V
В роскошном театре, только что отстроенном по приказанию Фридриха Великого, полно. И в партере, и в ложах нет ни одного свободного места.
Места все даровые и заранее распределены самим королем. Он любит и понимает музыку, сам прекрасно играет на флейте и хочет, чтобы его подданные развивали вкус на хороших пьесах, хорошей музыке и хорошем пении. Для этого он не жалеет денег. У него в театре всегда поют превосходные певцы и певицы из Италии.
Места в партере распределяются между горожанами и военными. Из каждого полка посылают в театр по очереди по нескольку солдат. Когда остаются свободные места, позволяют захватывать и жен.
Женщины, в чепцах, в скромных темных платьях, с красными рабочими руками и в тяжелых башмаках, смущены невиданной обстановкой. У них глуповатый, растерянный вид, и они исподлобья поглядывают на ложи.
Там публика совсем другая.
Под светом люстр особенно ярко выступает роскошь бархатных и шелковых одежд, украшенных вышивками и драгоценными камнями. Точно пена, белеют жабо и манжеты из тончайших кружев вокруг рук, украшенных перстнями. Несколько франтов явились в театр в невиданной еще прическе «en aile de pigeon». На них указывают, они возбуждают внимание. Прическа действительно совсем особенная: собственные волосы уложены в форме крыльев по обеим сторонам головы. Косица украшена бантом. Военным, дамам в партере эта новая мода кажется смешной, и некоторые из них громко фыркают, но сейчас же застывают с испуганными лицами, потому что мужья довольно внушительно подталкивают их в бок, чтобы привести в себя. Сами они не забываются. Кругом начальство, в ложах знатные господа. Шевельнуться страшно. Особенно стеснены гренадеры, любимцы покойного короля. Чтобы эти великаны, которых новый король считает бесполезными, никому не мешали, их посадили в самый последний ряд, и они своими остроконечными шапками почти подпирают ложи, в которых помещаются разные посольства, академики, писатели, художники, наехавшие в Берлин иностранцы, которых так любит новый король, и высочайшие особы.
В средней, самой большой ложе, обитой красным бархатом, золотом и позументом, помещается королевская семья: вдовствующая королева-мать с принцессами и молодая королева, жена Фридриха Великого. В одной из боковых небольших лож, которые по распоряжению короля раздаются случайным гостям города Берлина, сидит Иоганна Елизавета с сестрой, а сбоку, полускрытая широчайшей юбкой принцессы Анны и притиснутая к самой стенке, выглядывает Фикке.
У нее, как и у матери, и у тетки, и у всех дам в театре, напудренная прическа, только чуть-чуть пониже, чем у других, и платье, хотя и не такое широкое, как у принцессы Анны, но все-таки на фижмах. За дамами сидит принц Голштинский Август и граф Гюлленборг, племянник шведского министра, большой друг герцогини Альбертины Фредерики. Фикке его тоже очень любит. Ей льстит, что такой изящный и образованный человек всегда внимателен к ней.
Она познакомилась с ним еще у бабушки и знает, что он находит ее не по летам развитой девочкой. Кроме того, совсем случайно ей пришлось подслушать, как граф говорил бабушке, что ее мать слишком мало занимается дочерью, что девочка заслуживает большего внимания и что у нее «философское направление ума».
Что означают эти последние слова, Фигхен понимает плохо или, вернее, даже совсем не понимает. Главное, не понимает, когда она могла показаться умной графу Гюлленборгу. Говорила она с ним немного и при бабушке, и говорила все самое обыкновенное. И вдруг — «философское направление ума»! Фикке очень гордится этими туманными словами, и граф Гюлленборг ей приятнее всех ее знакомых.
— Почему не начинают? — спрашивает, нетерпеливо обмахиваясь костяным веером, Иоганна Елизавета.
Она в дурном настроении. Берлин ее разочаровал. Она заехала сюда из Дорнбурга по пути в Штеттин, чтобы основательно разузнать о только что начавшейся войне в Силезии, проверить слухи о новых назначениях и при случае напомнить о заслугах Христиана Августа.
Он известный боевой генерал, почти вся его жизнь до женитьбы прошла на поле сражения. Он воевал с французами, участвовал в битве при Мальплаке, в осаде Монса, и неужели же он так и останется комендантом Штеттина и командиром пехотного полка? Иоганна Елизавета ручалась, что сумеет все это выяснить, поехала в Берлин и здесь почти сразу поняла, что ничего устроить нельзя и ни о чем интересном разузнать невозможно.
Король никому своих планов не открывает, и при дворе Иоганну Елизавету приняли холодно. Всем не до нее. Все заняты только королем. Он — центр всего. Только о нем и говорят. Говорят о его трудолюбии, рассказывают, что он во все входит сам, но это не мешает ему заниматься и поэзией, и литературой, и живописью, и историей. Он много читает, пишет исторические записки и в то же время усиленно хлопочет о том, чтобы увеличить армию, хотя никому не известны его планы насчет войны, и никому в голову не приходит его о чем-нибудь спрашивать.
Иоганна Елизавета раздражена. В этот приезд она особенно чувствует, что она лишь жена коменданта. В столице у нее нет никакого положения.
Костяной веер в ее тонких пальцах мечется, как белая бабочка, которая хочет, но не знает, куда лететь.
— Вы говорите, граф Гюлленборг, что ждут короля? А как долго он обыкновенно заставляет терпеливых берлинцев себя ждать? — раздраженно спрашивает Иоганна Елизавета. — Ведь даже никому, пожалуй, неизвестно, будет ли он наверное в театре.
— Будет непременно. Он всегда бывает в театре, — спешит успокоить ее принц Август. — Да и разве уж так трудно подождать, Иоганна? Театр прекрасный, туалеты превосходные. Ведь это не сарай покойного короля, где везде дуло сквозь плохо сколоченные доски.
— Да, я помню, как один раз мне пришлось сидеть возле щели, куда заливал дождь. Мой корсаж тогда совсем вымок, — вставила принцесса Анна.
— А молодая королева положительно некрасива. — Иоганна Елизавета уже лорнирует королевскую ложу. — Некрасива и скучна.
И все в театре, как и Иоганна Елизавета, лорнируют ложи; у всех чувствуется настроение раздражения от ожидания.
Фикке тоже смотрит на королевскую ложу. Как раз в эту минуту туда входит принц Генрих.
Она сразу узнает его, хотя теперь он в военном мундире, а не в бархатном камзоле.
Он окидывает глазами театр, садится за креслом своей сестры и что-то говорит ей. И нет ему никакого дела до дамы, с которой год назад он танцевал на брауншвейгском балу.
Фигхен это поняла как-то сразу. И никому в Берлине нет никакого дела до нее с матерью. Она это давно почувствовала.
— Покажи мне ложу русского посла, — обратилась к брату Иоганна Елизавета.
Фикке встрепенулась. Смотрит, куда указал дядя.
Люди из таинственной снежной страны! Вспомнились шубы медвежьи, волчьи. Как интересно!
Но она быстро разочаровывается. Члены русского посольства ничем не отличаются от остальной нарядной публики.
А граф Гюлленборг, точно подслушав ее мысли, объясняет Иоганне Елизавете, что со времен Петра Великого русских по виду не отличить от иностранцев.
— Да, я помню в Париже Бецкого, — оживившись от веселых воспоминаний, связанных у нее с этим городом, говорит Иоганна Елизавета. — Это был один из самых образованных и блестящих людей, каких я только знала.
А короля все нет. Его даже как будто перестали ждать. Увлеклись разговорами. В ложах стало шумно. Только в партере по-прежнему тихо. Там точно все застыли от ожидания.
— Ходят слухи, что в России не все спокойно, — обращается принц Август к графу Гюлленборгу. — Опять заговорили о подлинном завещании Петра Великого. Рассказывают, что его наконец отыскали и там совершенно ясно сказано, что после смерти царя престол должен перейти к его жене, а потом к старшей дочери, теперь уже покойной принцессе Голштин-Готторпской Анне, а в случае ее смерти ко второй дочери — принцессе Елизавете.
Принцесса Елизавета! Фигхен вся насторожилась: колокольный звон с золотых колоколен. Печальная принцесса среди белых снегов.
— Когда-то меня очень волновали все эти истории с престолом, — сказала Иоганна Елизавета и повернулась к говорившим. — Ведь сын Анны Голштин-Готторпской, Петр Ульрих, мой родной племянник, и принцесса Елизавета тоже близка нашему дому. Я, как и все мои, искренно желала им престола, и даже теперь, когда с этим вопросом уже покончено, мне иногда хочется разобраться во всей этой непонятной для меня путанице. Помогите мне, граф. Ведь вы изучаете историю.
— Да, изучаю, и именно, как я вам уже не раз говорил, не ту мертвую, которая запрятана уже в книжки и сложена в пыльные шкафы, а живую историю, которая в образах, картинах и событиях проходит у нас перед глазами. И как раз именно теперь я увлечен Россией.
— Вот и отлично.
— Начинаю, значит, с Петра Великого. После него на престоле его жена. Это понятно. Но сейчас же после нее и начинается непонятное. Завещание обойдено. На престоле не родная дочь царя, а сын царевича Алексея. Но и это еще сколько-нибудь понятно. Петр II все-таки родной внук царя. Но когда он вдруг умирает, остаются только два законных наследника: царевна Елизавета и сын ее покойной старшей сестры — мой племянник Петр Ульрих.
Фикке при этих словах почти отмахнулась от принцессы Анны, все время обращавшей ее внимание на расфранченную публику в ложах, и повернулась в сторону графа Гюлленборга.
— Принцесса Фикке, кажется, так поняла меня, что учить историю совсем не надо, — пошутил граф Гюлленборг. — Спешу оговориться: без книжной истории нельзя обойтись. Как ключ, она необходима.
— Нет, граф, не отвлекайтесь, — остановила его Иоганна Елизавета. — Я дошла наконец до того, что мне совсем непонятно, и хочу добиться хоть от вас объяснения. Прямых, законных наследников отстраняют. На престоле является не родная дочь великого царя, а его племянница. Ведь императрица Анна Иоанновна была только его племянницей?
— Только племянницей. Она была дочерью брата Петра, Иоанна, того, который царствовал одно время вместе с ним, — подтвердил граф Гюлленборг.
— Уж вы мне здесь помогите. С этого места я совсем не разбираюсь. Значит, на престоле племянница, а потом опять племянница. Ведь так?
— Да, так. Вы не хуже меня знаете живую историю, принцесса. Анна Иоанновна назначает своим наследником только что родившегося младенца, сына своей родной племянницы, Анны Леопольдовны.
Иоганна Елизавета морщит лоб, и на лице ее появляется сосредоточенное выражение.
— Ну вот, видите, вы боитесь запутаться, принцесса, — смеется граф Гюлленборг. — Пожалуй, уже запутались. А между тем мы спокойно сидим с вами в театре, вдалеке от всего, что было в этих событиях тревожного и волнующего. Что же удивительного, что там, где это все происходило, тоже запутались. Это случается иногда не только с отдельными людьми, но и целым народом. Запутались, а тут вмешался ловкий и хитрый человек — Бирон, иностранец, которого императрица во всем слушалась. И вот на престоле оказался младенец-император, правительницей — его мать Анна Леопольдовна, принцесса почти иностранная, хотя и дочь Екатерины Иоанновны, сестры покойной императрицы. Эта Екатерина Иоанновна была замужем за иностранным принцем и дочь свою воспитывала за границей, где та вышла замуж тоже за иностранного принца и жила, пока ее не выписали в Россию. И вот теперь положение дел таково: на престоле император Иоанн VI, но ему всего несколько месяцев, правит за него мать, и даже не мать — Анна Леопольдовна не способна править. Она ленива, целый день проводит в постели. Говорят, у нее даже в библиотеке, где она зачитывается романами, стоит огромная кровать под балдахином, а когда к ней являются с докладом о весьма важных государственных делах, она часто не хочет их слушать, отговариваясь тем, что ищет новый фасон для камзольчика своему сыну. Такая правительница ничего сама сделать не может. Правят за нее приближенные, но даже и их она не может хорошо выбрать. Народ замучен хуже, чем во времена Бирона. Кругом доносы, пытки, казни.
— Остановитесь! Опять ничего не понимаю. Народ замучен. Царевна Елизавета тоже замучена. Говорят, ее или выдадут силой замуж за какого-нибудь ничтожного принца, чтоб убрать из России, или запрут в монастырь. И неужели нет у нее друзей, чтобы заступиться за нее?
— Друзей у царевны много. Все сподвижники ее отца за нее. Теперь вот мы дошли с вами, принцесса, до самого интересного. Я увлечен Россией. Какая эта могучая и таинственная страна! Она захватила меня именно соединением мощи с тайной. У царевны друзья, готовые идти за нее на смерть, народ обожает свою прекрасную и несчастную, как он сам, царевну. Она дочь великого царя, ее обидели, украли престол. Царевне стоит сказать — и все поднимутся за нее. Одно слово — и она станет царицей.
— Одно слово! — произносит, точно не веря своим ушам, Иоганна Елизавета. — Одно слово, и она молчит!
— И она молчит, — повторяет граф Гюлленборг.
— Но это еще непонятнее всех этих историй с племянницами! — даже рассердилась Иоганна Елизавета. — Может быть, вы знаете, почему она молчит?
— Мне кажется, что я догадываюсь, — тихо и серьезно отвечает ей граф.
Одна из больших радостей его жизни — это сознание, что он проник в глубину живой истории, а теперь у графа именно такое чувство, что он «проник», и это делает его уже не молодое, но красивое лицо еще более прекрасным.
— Царевна молчит, потому что ей чужды насилие, убийство и все ужасы, которые связаны неизбежно со всяким насильственным переворотом. Она так боится, чтобы из-за нее не пострадали, что эта боязнь сильнее всяких сказочных чар сковала ее уста. И она молчит.
— Ну уж этого я не понимаю! — Восклицание вырывается у Иоганны Елизаветы почти громко. Она так увлечена разговором, что даже не замечает, как на них давно оглядываются из соседней ложи. — Молчит! Ее и в монастырь упрячут, а она все будет молчать!
Иоганна Елизавета почти выкрикнула эти слова, до такой степени она возмущена. Принцесса Анна тоже возмутилась.
— Это просто даже не очень умно, — презрительно вздернув худыми плечами, говорит она.
А принц Август замечает, что, по всей вероятности, граф Гюлленборг слишком увлечен сказочным элементом.
Одна Фикке молчит. Только при последних словах графа сразу пропадает то почти мучительное напряжение, с каким она все время следила за разговором. Только бы не пропустить, понять, а если нельзя всего понять, то хоть запомнить, чтобы потом разобраться.
И все так трудно, так мудрено.
И вдруг все стало сразу ясно, и она поняла, что ничего и запоминать не надо, что вся эта путаница совсем не главное, что все это так себе. Главное — это принцесса и ее слово. А все другое... Так бывает во сне: проснешься — и нет ничего.
А граф повторяет:
— Да, и будет молчать, и терпеть, и покорно страдать, если какое-нибудь чудо не заставит ее сказать слово.
— А народ? И он тоже будет покорно ждать?
У Иоганны Елизаветы лицо даже пошло красными пятнами, так ее взволновала и эта царевна, и этот совсем чужой ей, непонятный народ.
— Я начинаю думать, что она заколдованная, эта принцесса, — обмахиваясь так, что слышалось щелканье костяных пластинок веера, проговорила она.
А граф Гюлленборг рассмеялся и, точно обрадовавшись, произнес:
— Это очень удачно, то, что вы сказали. Принцесса Елизавета именно заколдованная. Это слово для нее очень подходящее, и с нынешнего дня в моих записках я так и буду называть ее «заколдованной принцессой». А принцесса Фигхен, — неожиданно обратился он к вспыхнувшей девочке, — значит, слышала сегодня в театре сказку, настоящую сказку о прекрасной заколдованной царевне. И, как вам кажется, придет ли такое время, когда заговорит царевна?
Но Фигхен успела только шевельнуть губами и сама обратилась в немую принцессу.
По всему сразу притихшему театру пронеслось:
— Король приехал!
— В партер около рампы смотрите, — шептал Фикке граф Гюлленборг.
Она взглянула и сразу узнала короля, хотя раньше никогда его не видела. При первом взгляде на сухощавое, резко очерченное лицо с горящими глазами ей припомнилось все, что она где-либо и когда-либо слышала о Фридрихе. Вспомнила рассказы о том, как тяжело ему жилось с отцом, и про то, как он бежал, как его вернули, заточили в крепость, как родной отец из страха, что его наследник погубит страну, приговорил сына к смерти и помиловал только потому, что испугался возмущения других держав.
Сколько он пережил! Другого бы это раздавило, изломало, а он весь точно стальной. Фикке его прекрасно видит. Король стоит спиной к сцене. На нем простой синий мундир гвардейского полка, кругом него сановники в шелку, бархате, драгоценных камнях. Они что-то говорят ему. Он слушает, высокий, худой, только голову чуть-чуть наклонил к говорящему. И вдруг выпрямляется и быстрым, острым взглядом, слегка щуря глаза, оглядывает партер и ложи. И по тому, как он слушал, как откидывал голову, как смотрел, — это был король с головы до ног.
Фикке вспомнился его отец, другой Фридрих, на которого она набросилась совсем крошечной девочкой за то, что на нем не было мантии. Этот Фридрих тоже был в военном мундире. Но Фикке он не возмущал. В нем она почувствовала короля и без королевской мантии. А лоб у него был такой, что ей вспомнились слова Больгагена о королевских мыслях.
И не одна Фикке, а все в театре, как один человек, смотрели на Фридриха. Только король мог не смутиться под этими взглядами.
Фигхен хотелось взглянуть, смотрит ли королева.
Она не только смотрела, она так сияла, что стала совсем хорошенькой.
И вдруг свет в театре погас. Исчезли и партер, и ложи, и даже король. Светло стало только на сцене, где началось представление.
Но Фигхен едва слушала и почти не следила за тем, что происходило на сцене. К музыке и пению она была равнодушна. Она ждала антракта, чтобы получше рассмотреть короля. Но когда акт кончился и театр опять осветился, короля не оказалось в партере. Не было его и в королевской ложе. Королева сидела печальная и точно потухшая.
— Где же король? Куда он уехал?
— Вы хотите знать чересчур много, — улыбаясь ее волнению, ответил граф Гюлленборг. — Никто никогда не знает, где бывает Фридрих. Может быть, он поспешил на заседание, чтобы обсудить новые действия в Силезии, может быть, ему читают новую драму или какой-нибудь путешественник делает ему доклад о своем путешествии. Никто никогда ничего не знает наверное о короле.
— И мысли и планы его тоже никому неизвестны, — прибавил дядя.
— Но все в него верят, — сказал граф Гюлленборг. — Верят, что только он может сделать из Пруссии великую державу, и ждут, чтобы он употребил для славы страны и огромное войско, и деньги, собранные его отцом. И этого вполне достаточно.
— Король этот может перевернуть Европу.
— Да, если Россия будет на его стороне.
Так переговаривались принц Август с графом Гюлленборгом. Но Иоганна Елизавета их остановила, сказала, что дамы обижены, потому что на них слишком мало обращают внимания.
Фикке очень хотелось еще послушать о принцессе Елизавете, и она уже думала потихоньку спросить о ней графа Гюлленборга. Но как раз в эту минуту Иоганна Елизавета обратилась к брату:
— А что мой племянник Петр Ульрих? Давно я о нем ничего не слыхала.
И о Петре Ульрихе тоже было очень интересно.
Петр Ульрих! Троюродный брат. Когда-то Фикке так хотела иметь его своим другом. И как это случилось, что она о нем почти совсем забыла? Ни разу и не вспомнила за последнее время худенького, бледного и такого несчастного мальчика. Может быть, это потому, что уж очень много с той поры она ездила с места на место: и в Брауншвейг, и в Дорнбург, и в Штеттин. И сколько людей везде! Но теперь она сразу все вспомнила: и весенний вечер, и то, как они сидели вдвоем у открытого окна, и как мальчик испугался грозы. И как ей не удалось пойти с ним за ландышами... Вспомнила — и с жадностью прислушивалась к каждому слову принца Августа.
— О Петре Ульрихе, как всегда, нельзя сказать ровно ничего хорошего. Он ленится, грубит Брюммеру. Тот до сих пор должен прибегать к разным детским наказаниям: рисует на спине своего воспитанника осла, ставит его на колени на горох. Один опекун еще справляется с ним, но и того он плохо слушает. Шведскому языку учится кое-как. Пробовали его убеждать, говорили, что король должен знать язык страны, которой управляет, но у Петра Ульриха на все один ответ: королем он быть не хочет и никуда не поедет из своей Голштинии.
Да, он так и тогда у раскрытого окна говорил... А потом сверкнула молния. Он испугался. Убежал. Странный мальчик. Совсем не хочет быть королем...
Занавес поднимался и опускался. Фигхен смотрела на сцену, но то, что вдруг возникло в ее душе и памяти, мешало ей и слушать, и смотреть. А когда она вернулась домой и легла в постель, то, засыпая, думала о красавице принцессе Елизавете, у которой отняли корону, и о странном Петре Ульрихе, который совсем не хочет быть королем. И когда она подумала о короле, ей представился Фридрих Великий с гордо откинутой головой: король без мантии, но король настоящий.
Она увидела его еще раз в Берлине.
Иоганна Елизавета перед отъездом поехала к вдовствующей королеве и взяла с собой Фикке. И Фикке целый вечер просидела на золоченом стуле рядом с матерью, пока она играла в шахматы с королевой.
Было очень скучно, хотя говорили как будто все о веселом: о празднествах, об опере, о маскарадах, о новой певице, выписанной из Италии. Королева рассказывала о новом дворце возле Потстдама, который строит для себя король, описывала подробно Золотую комнату, которую он готовит для нее в старом замке.
— Там все будет из чистейшего золота, — несколько раз повторила она. — Фридрих хороший сын и заботливый муж. Жена его полюбила Шарлоттенбург, и он не жалеет средств на украшение замка и сада.
Но королева, как и все, чувствовала, что и Золотой покой, и устройство Шарлоттенбурга нужны Фридриху только для того, чтобы в новом замке быть одному. И все, что она говорила, было сказано для того, чтобы скрыть, что и она, как и все, ничего не знает о короле.
Иоганна Елизавета это понимала и видела, что никаких важных новостей ей не удастся привезти в Штеттин. Ей было досадно. Она машинально двигала шахматные фигуры по столику розового дерева и улыбалась улыбкой светской дамы, умеющей скрывать свои разочарования.
Фигхен перед приходом во дворец было приказано показать себя хорошо воспитанной принцессой. И она так старалась, что казалось, еще немного — и ее ноги станут такими же деревянными, как золоченые ножки стула, на котором она сидела больше часа, сложив руки на коленях.
Вдруг в соседнем зале раздались быстрые, твердые шаги, откинулась атласная портьера, и в дверях показался король.
Он пробыл очень недолго. Когда он исчез, так же быстро и внезапно, как появился, у Фигхен было такое чувство, что, может быть, ей все это только показалось.
— Он всегда такой быстрый, — говорила между тем королева-мать своей гостье. — У него столько дел, но он бывает у меня ежедневно.
— Его величество помнит все свои обязанности, — отвечала Иоганна Елизавета.
Но ни та, ни другая почему-то больше не стали играть в шахматы. Партия так и осталась недоконченной.
— Он был очень внимателен ко мне, — говорила потом Иоганна Елизавета, рассказывая о встрече с Фридрихом Великим.
И она действительно в это верила.
Король тогда остановил на Фигхен свой острый, пронизывающий взгляд. Это продолжалось только одно мгновение, но Фигхен показалось, что в это мгновение он рассмотрел ее больше, чем королева-мать, перед которой она просидела неподвижно целый вечер. Потом Фридрих пристально посмотрел на Иоганну Елизавету и произнес:
— Не думал я, что у вас почти взрослая дочь.
Очевидно, именно эта фраза и была знаком его внимания, потому что, кроме нее, он ничего больше не сказал Иоганне Елизавете.
На другой день мать и дочь уехали из Берлина.
VI
Скучные осенние дни. Солнце давно не заглядывает во двор штеттинского замка. По стеклам окошек почти непрерывно текут ручейки из дождевых капель, а внизу, из желоба в виде открытой пасти дракона, с шумом вытекает вода.
В квартире коменданта темно и тоскливо.
Из окон комнат Фикке и детских виден знакомый двор с отсыревшими каменными стенами и чугунными воротами.
Каждый день, в определенный час, эти ворота открываются, пропуская карету самого ученого и важного штеттинского доктора. Доктор ездит к Вилли.
Мальчик с самого переезда в Штеттин разболелся и не встает с постели. У него слабость и сильные боли в ногах и спине. Доктор уверяет, что это от сырой осенней погоды. Вместе с солнцем все должно пройти.
Так говорит он при мальчике, но, вероятно, то, что он прибавляет без Вилли, когда проходит в комнату Иоганны Елизаветы, не так утешительно, потому что после визитов доктора Фикке часто застает мать с заплаканными глазами. И у Христиана Августа лицо почти всегда невеселое и озабоченное. А Кайн мечется по дому, как испуганная птица.
Осенний дождик, холодный и упорный, все не перестает. Уже начало ноября, а снега нет.
Гостей у коменданта почти не бывает. Местные дамы кажутся смешными и скучными Иоганне Елизавете, а ее они считают модницей и гордячкой.
Но положение жены коменданта обязывает поддерживать некоторые знакомства. Иногда по праздникам замковые ворота открываются, пропуская неуклюжие повозки с толстыми бюргершами в бархатных чепцах и с золотыми сумочками у пояса.
В такие дни Фигхен рада дождю. Благодаря ему она встречает гостей только на лестнице. Приседать среди двора перед какой-нибудь именитой гостьей ей кажется в высшей степени унизительным.
Бабет знает слабость Фикке и всегда подтрунивает над удрученным видом, с каким та возвращается после встречи.
— Ничего, ничего, — говорит француженка, — каждый обязан подчиняться законам страны и правилам города, где он живет. И вежливость никогда не мешает. От лишнего поклона голова не отвалится и уж наверное не станет глупее.
На лице Бабет появляется лукавое выражение. Оно очень идет к ее милому лицу с ямочками на пухлых щеках. Фигхен видит, как чуть-чуть вздрагивает ее короткая верхняя губа. Так всегда бывает у Бабет, когда ей очень смешно, но она еще сдерживается. Это так заразительно, что и сама Фигхен невольно начинает улыбаться.
Милая, милая Бабет! Как трудно удержаться, чтобы не расцеловать ее в такую минуту.
А Бабет справилась со смехом. Только в карих глазах точно искорки сверкают, но голос совсем серьезный:
— Может быть, у моей Фигхен голова тяжелее, чем у других простых смертных? Может быть, предсказание брауншвейгского хироманта так крепко засело в ней, что она уже чувствует тяжесть корон? Подумать только: несколько золотых корон! — Тут Бабет уже не может больше сдерживаться, откидывает назад голову и хохочет так, что у нее на глазах выступают слезы.
Но смех обрывается сразу. Бабет разглядела лицо Фикке. Таким бледным и суровым она еще никогда его не видала. У Фикке даже губы стали совсем белые. Она так их сжала, что они обратились в ниточку. А глаза! Синие глаза, которые всегда с таким любовным доверием смотрели на Бабет, вдруг потемнели и гвоздиками впились в веселую француженку.
— Фикке! Что с тобой, милая? — Кардель даже руками всплеснула, так испугалась.
— Я прошу вас, Бабет, никогда, никогда так не шутить. Вы можете все сказать мне, я все выслушаю, все стерплю. Но шутить над этим, Бабет, я не позволю даже вам. Если вы будете смеяться над доверенной вам тайной, я разлюблю вас, Бабет...
И голоса такого у Фикке еще не слыхала Кардель. Говорит, отчеканивая каждое слово, точно зерна в четках на молитве отбрасывает, а лицо такое торжественное.
Бабет растерялась. Залепетала, что не хотела обижать, что если это так важно, то, конечно, она никогда больше не будет.
А Фикке слушала ее молча, не спуская с нее глаз. Только голову наклонила, когда она кончила.
И вид у нее был такой, что Бабет не решилась ее расцеловать в обе щеки, как обыкновенно делала после ссор.
И за вышивание Кардель села с виноватым взглядом, и нужных слов, чтобы заговорить с Фикке, не находила. Почти обрадовалась, когда девочка вынула из шкафа какие-то книги и сказала, что идет к Вилли.
— Ах, если бы только вы видели это лицо! — говорила потом Кардель Больгагену, рассказывая про поразившую ее сцену. — Уверяю вас, я его никогда не забуду, и мне, конечно, в голову не придет больше так шутить.
А Больгаген смеялся ей в ответ своим стариковским смехом:
— Ах, эта девочка! Она еще не раз удивит вас, Бабет. Я всегда говорил, что это замечательный ребенок. — И, движением плеча подправив костыль, он встал с кресла и сказал, что идет к Вилли.
— Фикке вы уже застанете там, — сообщила ему Кардель. — В последнее время она очень подружилась с братом.
— А Фриц где?
— Ну, Фриц, конечно, у себя. Разве такого мальчика можно пустить к больному. Кайн теперь целыми днями сидит у Вилли. Фрица поручили молоденькой девушке, и он окончательно разбаловался.
— Я ухожу, по пути захвачу Фрица. Со мной он ничего не напроказит. Вы ведь тоже придете к нам, Бабет?
И через некоторое время и дети, и Бабет собираются у постели Вилли послушать рассказы Больгагена.
Кайн торопливо приводит в порядок стол, заваленный бельем, приготовленным для штопки. Ей надо поспеть и в кухню, и в девичью, заглянуть во все уголки дома. Без нее ничто не идет как следует. Но и с Вилли сидеть некому. И она сидит.
Сидит, штопает и молчит. Молчит потому, что ей велели говорить с больным мальчиком только о веселом, а Кайн умеет рассказывать только про страшное: о привидениях, о мертвецах. Это у нее любимое, и так как она сама в них верит, то выходит это у нее особенно хорошо. Но Вилли потерял сон от таких рассказов, и Кайн замолчала. Все другое — нестрашное — ей не удается. Вилли делается скучно, и он не хочет ее слушать.
А Больгаген все рассказывает чудесно. Кажется, нет такой страны, где бы он ни побывал. Он так ярко передает особенности всякой страны и каждого города, что детям представляется, будто они сами совершают путешествия со стариком.
— Куда сегодня поедем? — каждый раз спрашивает Больгаген, усаживаясь в кресло у постели.— На днях мы побывали в Лондоне и Париже. Сегодня не хотите ли ехать в Голландию?
— Хотим, хотим, — наперебой говорят дети.
У Больгагена все выходит интересно. Только бы поскорей начинал.
И Больгаген «увозит» детей в маленькую, чистоплотную и мужественную страну, которая ведет непрерывную борьбу с океаном. Рассказывает про ее столицу Амстердам, где вместо улиц — каналы и жители ездят не на лошадях, а на лодках. Рассказывает о любви голландцев к цветам, о полях разноцветных тюльпанов, гиацинтов.
— Когда поправлюсь и вырасту, непременно сделаюсь путешественником, — решает Вилли. Пока Больгаген говорит, он не чувствует болей. Так ему интересно.
Но Больгаген свободен только по вечерам. Днем у него служба. Вилли томится, скучает. Иоганна Елизавета пробовала развлекать мальчика. Но то, что интересует мать, только раздражает сына — охоты, балы, маскарады. Все это хорошо для тех, у кого здоровые, крепкие ноги. Когда уходит мать, Вилли плачет, говорит, что он урод и ни одна дама не захочет с ним танцевать.
Лучше всего Вилли чувствует себя с Фикке. Совершенно неожиданно открылось, что она умеет прекрасно обращаться с больными. И началось это с того времени, как Фикке вспомнила свою болезнь, вспомнила, как лежала месяцы в постели, а потом еще долго мучилась в корсете. Она решила занять Вилли и попробовала ему рассказать про Сида. Улучила время, когда они остались только вдвоем в комнате — при Кайн ей не хотелось, — и начала. И когда начинала — волновалась, потому что ужасно боялась, что Сид не понравится. Чувствовала, что если не понравится, то уже никогда ничем больше она Вилли не сможет помочь.
Но Сид ужасно понравился. Вилли заставлял ее повторять без конца. Фикке разыгрывала у его постели целые сцены.
А потом она рассказала ему и про Эсфирь, и про старика Горация. Все, что она сама знала и любила, захотелось ей отдать Вилли, потому что с каждым днем она все больше и больше жалела его. И герои — те, про кого Бабет говорила, что это «люди, какими бы они должны были быть», — встали у постели больного мальчика, и с этими героями новые мысли и новые чувства пробудились в голове и сердце Вилли.
И про царевну в снежной стране рассказала Фикке.
И несчастная царевна, и Сид переплелись в голове мальчика.
— Фикке, ее надо непременно освободить, эту царевну, — говорил Вилли, и глаза у него блестели. — Собрать всех, кто за правду, и биться за нее до последней капли крови! — И вдруг голос Вилли обрывается: — Но что же могу я, жалкий урод, калека!..
В отчаянии он закрывает лицо исхудавшими руками.
— Послушай, Вилли, — говорит Фикке и отводит ему руки от лица, — царевна не такая. Она не хочет, чтобы из-за нее люди мучили и убивали друг друга. Она слóва ищет.
— Слóва ищет? Какого слóва? — Огромные от худобы глаза Вилли делаются еще больше от удивления.
— Видишь ли, она хочет найти такое слово — ну, знаешь, как в сказке, чудесное слово и чтобы в нем была такая правда, о которой уже никто не спорит. Правда, как солнце. Взошло, и все видят, что свет.
Вилли нахмурился, помолчал, что-то обдумывая, а потом спросил:
— А ты думаешь, она такое слово найдет? Можно его найти?
Тихие серые сумерки паутиной заползают в окна, за ними крадется тоска. Сумерки заволакивают углы, стены, потолок комнаты, подползают к кровати.
Вилли крепче сжимает горячей рукой пальцы Фикке.
В эти предвечерние часы он всегда начинает томиться.
Но сегодня сказка сторожит детей. Навстречу сумеречной тоске она раскидывает золотые и серебряные нити, плетет из них новые блестящие узоры, во все стороны перекидывает золотые мосты. Всю крепость паутины прорезала она ими.
— Ты думаешь, она такое слово найдет? — шепчет Вилли.
— Конечно, найдет. Непременно найдет! — тоже шепотом, но с уверенностью отвечает ему Фикке.
VII
Все случилось как в сказке.
В один из первых настоящих зимних дней, когда после долгого дождя особенно прекрасным и желанным казались пушинки первого снега, Фикке, как ураган, влетела в комнату Вилли и уже с порога крикнула:
— Вилли, Вилли! Она получила свое королевство!..
Кайн чуть не упала со стула, так испугалась. Фигхен с диким видом выкрикнула какие-то странные слова, Вилли чему-то так обрадовался, как давно не радовался. Даже с подушки приподнялся и захлопал в ладоши. И ни брат, ни сестра ей ничего не хотят объяснить как следует. Фикке уселась прямо на постель и говорит скоро-скоро, все такое непонятное.
— Никаких убийств! Просто пришла и спросила свое царство. И ночью это было. На земле снег блестел, а на небе звезды. И пошла она по снегам под звездами в свой королевский дворец, где жили те, кто похитил у нее корону. Их заключили под стражу, а она взошла на свой трон, и преклонились перед ней все, как перед своей настоящей королевой.
— Да про кого это вы? Что случилось? — почти вопит Кайн, чувствуя, что произошло что-то важное и необыкновенное.
Как раз в эту минуту входит в комнату Иоганна Елизавета. У нее в руках только что полученное из Гамбурга письмо, и она очень красива. Она всегда хорошеет, когда что-нибудь ее очень радует.
— На русском престоле моя кузина, царевна Елизавета, — торжественно говорит она.
Кузина!
Это слово сразу просветляет голову Кайн.
— О, как это великолепно! — в восторге поднимая руки, восклицает она. — Королева такой обширной, могущественной и богатой страны — ваша кузина! О, это не может не отразиться самым благоприятным образом на всем Голштинском доме. И значение Ангальт-Цербстского дома это несомненно поднимет.
— Мама, расскажи мне, как это было, — просит Вилли.
Иоганна Елизавета садится в кресло и читает детям:
— «Царевна Елизавета долго терпела всевозможные притеснения и, только доведенная до крайности, наконец решилась и сказала:
— Если уж ничего не остается, как приступить к крайним и последним мерам, то я покажу всему свету, что я дочь Петра Великого.
В ночь, назначенную для переворота, с 24-го на 25 ноября, она долго молилась и здесь же дала клятву уничтожить смертную казнь в России, если достигнет престола. Потом надела на себя орден св. Екатерины и серебряный крест, вышла из дворца, села в сани, поехала к старым солдатам своего отца и сказала им:
— Знаете ли, чья дочь я? Меня хотят выдать насильно замуж или постричь в монастырь. Хотите идти за мной?
Этого было достаточно, чтобы все пошли за ней во дворец.
Во дворце она неожиданно вошла в караульню и сказала:
— И я, и вы все много натерпелись от иноземцев. И народ наш много терпит от них. Освободимся от наших мучителей! Послужите мне, как служили отцу моему!
И эти слова, как волшебный ключ, растворили перед ней все двери. Правительница с семейством была отослана в крепость, и законная царица взошла на престол».
— Вот как необыкновенно просто и мирно случился такой важный переворот, — говорит Иоганна Елизавета. — Граф Гюлленборг оказался совершенно прав в своих предположениях.
И с этими словами Иоганна Елизавета спешит уйти из комнаты. Ей хочется на свободе разобраться в том, что случилось. Обдумать, как ей поступить. У нее свои мысли.
Покойный жених русской императрицы — ее родной брат.
Любимая единственная сестра императрицы была замужем за ее двоюродным братом, и племянник у них общий: Петру Ульриху они обе приходятся тетками. Императрица — родной, Иоганна Елизавета — двоюродной. Такая близость не может не отразиться на Голштинском доме. Необходимо только вовремя напомнить о себе в России.
Иоганна Елизавета принимается за составление поздравительного письма новой императрице.
— Уже по тому, как она ответит, будет ясно, на что может рассчитывать наша семья, — говорит она мужу и без конца читает ему черновики составленных ею писем.
— Вернее всего, что она совсем не ответит, — слегка подсмеивается над своей увлекающейся супругой Христиан Август. — Уверяю тебя, что ей теперь не до писем.
Письмо наконец составлено и отослано.
Иоганне Елизавете не пришлось даже ни томиться, ни сомневаться. Ответ пришел с первой почтой. И письмо она получила такое, о котором и не мечтала.
Императрица называла Иоганну Елизавету своей «дружебно-любезной племянницей», благодарила за поздравление и просила прислать ей портрет своей усопшей сестры, герцогини Голштинской. Подписалась она: «Вашей любви дружебно-охотная Елисавет».
Кайн как раз вовремя удалось отыскать портрет, и он был немедленно отправлен в Россию.
Не успела Иоганна Елизавета прийти в себя после получения дружеского письма, как мать, герцогиня Альбертина Фредерика, уведомила ее, что императрица дала ей, Альбертине Фредерике, ежегодную пенсию в пятнадцать тысяч рублей. И это еще было не все.
«От меня только что уехало посольство, отправленное из России за герцогом Голштинским, Петром Ульрихом, — писала дочери герцогиня. — Императрица хочет, чтобы сын ее любимой сестры наследовал после нее престол».
Эта новость поразила Фикке, но она не могла ей радоваться, как радовались все ее домашние. Она знала, что Петр Ульрих не хотел быть королем, а далекая огромная Россия просто пугала его. Петр Ульрих был ей по-прежнему непонятен, но когда она думала о нем, думала о том, как он прощается со своей любимой Голштинией, ей становилось его жаль. И хотелось ей, чтобы его оставили в покое и дали бы ему жить, где он хочет и как хочет.
А через несколько недель Иоганна Елизавета как-то пришла к ней в комнату и сказала:
— Пятого февраля Петра Ульриха привезли в Петербург.
Привезли! Это слово не понравилось Фикке. Оно показалось ей оскорбительным для будущего короля. «Привезли»! Говорят, точно про пленника.
Но Иоганна Елизавета рассказывала ей, что императрица приняла Петра Ульриха с восторгом и каждый день доказывает ему свою любовь: жалует его орденами, украшает ордена бриллиантами, возвышает его чинами. Через пять дней после своего приезда четырнадцатилетний принц был уже произведен в полковники.
Рассказы о милостях императрицы утешили и обрадовали Фикке, но когда Иоганна Елизавета прибавила, что императрица заботится и о том, чтобы окончить образование своего племянника так, как это подобает для наследника русской короны — с первых дней приезда к нему ходят русские учителя, — Фикке задумалась.
— Боюсь, что вот это ему не особенно понравится, — заметила она.
А Иоганна Елизавета рассмеялась и сказала:
— Я так уверена, что он просто не станет ничему учиться.
— Может быть, без Брюммера он охотнее примется за занятия, — вставила Фикке.
— Как без Брюммера? Что это ты выдумала? Фон Брюммер, конечно, в Петербурге, вместе с Петром Ульрихом.
— А я думала... — начала Фикке и остановилась.
— Что ты думала? — настойчиво и строго спросила ее мать.
— Он злой, этот Брюммер. И я не люблю его, — решительно ответила Фикке.
С каждым новым письмом Иоганну Елизавету все сильнее и сильнее тянуло из дома. Оставаться в Штеттине в то время, когда одно за другим происходили такие потрясающие события, она больше не могла. Куда ей поехать: в Берлин, в Брауншвейг или в Гамбург, — она еще не решила, но приказала Кайн пересмотреть на всякий случай ее дорожные вещи.
— Ваше высочество думает об отъезде? — только спросила Кайн.
Но лицо и весь вид у нее при этом вопросе выразили такую таинственность, что Иоганна Елизавета должна была обратить на это внимание.
— Да, вероятно, уеду, — кратко, чтобы прекратить всякие расспросы, ответила она.
Но здесь уже таинственность Кайн приобрела зловещий оттенок.
Она сложила на груди руки, нахмурила густые широкие брови и, пронизывая Иоганну Елизавету мрачным взглядом, объявила, что с некоторых пор у нее «предчувствие».
Об этих своих «предчувствиях» Кайн умела говорить так, что могла напугать и не робкого человека.
Двери сами собой открываются, пропуская кого-то невидимого.
На днях она сидела в комнате Вилли и штопала. Как вдруг дверь бесшумно распахнулась, и «это» пронеслось мимо стола, обдавая ее ледяным дыханием. Она тогда же хотела рассказать об этом ее высочеству, но ее высочество так радостно настроены, последнее время столько неожиданных, счастливых событий, имеющих отношение к семье, что она до поры до времени не хотела смущать. Решила молчать. Но теперь ее долг предупредить. И еще она не может утаить, что по ночам в церкви опять заиграл орган...
— Ну уж орган — это старая история, — остановила ее Иоганна Елизавета. — Ведь давным-давно выяснилось, что это глупые шутки кого-то из служащих.
Но Кайн с этим никогда не была согласна. Шутки! Она только делала вид, что поверила в эти шутки. И если бы ее высочество вышла с нею ночью на лестницу в церковь, то сразу убедилась бы, что это совсем не шутки. И какие вещи играют!.. Кайн просто назвать не решалась.
Нет это не шутки!
Кончилось тем, что Иоганна Елизавета велела Кайн замолчать. В предчувствия она, конечно, не поверила, но, когда в доме больной и заговорят о предчувствиях, то понятно — сразу уехать с покойным сердцем нельзя.
Иоганна Елизавета затянула отъезд, и тут как раз случилось событие, которое навсегда упрочило за Кайн славу человека, умеющего провидеть тайны будущего.
Все в доме наконец поверили, что глаза Кайн наделены сверхъестественной остротой и что она другая, чем все обыкновенные люди, потому что родилась в воскресенье. Одна Бабет не поддавалась и стояла на своем:
— Конечно, Кайн видит лучше других все, что происходит в Ангальт-Цербстском доме, но это оттого, что она во всем свете только и видит, только и любит один этот дом.
Бабет, конечно, была права.
Для одной Кайн менее всех неожиданным было то, что случилось с Христианом Августом.
В один прекрасный солнечный день он выехал из дома совершенно здоровым, а через несколько часов его привезли почти мертвым. Его разбил паралич, и отнялась вся левая сторона.
— Ах, я это предчувствовала, предчувствовала! — захлебываясь от рыданий и хлопоча возле больного, повторяла Кайн. — У его высочества последнее время и лицо было такое...
Конечно, у Христиана Августа последнее время лицо было другое, чем всегда. И весь он был другой: отяжелевший, какой-то утомленный, но никто в доме не обратил на это серьезного внимания.
Иоганна Елизавета была слишком занята и письмами, и тем, что происходило в России, в Гамбурге и в Киле. Она поняла, что просмотрела то, что разглядели другие, внимательные, любящие, глаза.
— Кайн, милая! Благодарю. Без вас его бы с нами не было, — только сказала она.
И этого было довольно, чтобы Кайн простила Иоганне Елизавете все, что находила в ней достойным порицания: и легкомыслие, и суетность, и раздражительность, и расточительность.
Глазами любви Кайн в эту тяжелую минуту заглянула глубоко в душу Иоганны Елизаветы и наконец поверила, что, несмотря на все свои недостатки, она любит ее принца. С этой минуты Кайн уже не отделяла в своих заботах мужа от жены.
Теперь в доме было двое больных. Кайн металась между Вилли и Христианом Августом. Но как ни тяжело был болен принц, он все-таки стал поправляться скорее сына.
— Что Вилли? — были его первые слова, когда наконец к нему вернулась способность говорить. — Интересно знать, кто из нас первый пойдет навестить другого: я пойду к Вилли или он придет ко мне?
И так как отец тосковал о сыне, решили, что мальчика перенесут к нему в комнату.
Так и лежали они на своих постелях. К ним приходила Фикке. И отец рассказывал детям о своей молодости. Рассказывал о войнах, в которых он принимал участие.
— Когда не было войны, я начинал путешествовать, — говорил он. — Разъезжал по Голландии, по Италии, по Тиролю, по Средней Германии. Только вот в Штеттине я слишком засиделся. Не по мне это. Оттого я и заболел.
И когда Больгаген неосторожно сказал ему, что как раз мимо замка поведут пленных австрийцев, присланных из Силезии, Христиан Август потребовал, чтобы его кровать подкатили к окну.
Услышал об австрийцах и Вилли и тоже захотел их видеть.
Пришлось обе кровати подвинуть к окнам.
Но Христиан Август оказался сильнее сына. Он уже настолько оправился, что мог сидеть. Вилли тоже попробовал приподняться, но у него сразу появились такие боли, что он почти сейчас же снова откинулся на подушки. Даже австрийцев не успел разглядеть и долго жалел об этом, хотя Фикке и уверяла, что это было совершенно неинтересно.
— Прошли, волоча от усталости ноги, какие-то полузамерзшие люди. Только и всего, — говорила она.
Христиан Август, посмотрев на австрийцев, на другой же день сел в кресло.
— Вот еще отсижусь немного, а там и на службу, — сказал он. — Хочется мне еще послужить моему королю, опять, как в молодые годы, побывать на войне. Не хочу, чтобы меня записали в инвалиды.
И весной он отправился с полком в лагерь, а его семья, как обыкновенно, переехала на лето в Дорнбург.
VIII
Тяжелое это было лето. Такое тяжелое, что даже Кайн в своей мрачности не могла предугадать всего, что случилось.
Вилли привезли в Дорнбург чуть живым. И когда его устроили в самой просторной и хорошей комнате замка — с большими окнами прямо в сад, где цвела сирень, и на разные голоса с утра до вечера заливались птицы, — всем стало ясно, что мальчик не может жить, как не может жить уже отцветший цветок.
Ничто больше не волновало и не интересовало мальчика: ни весенняя зелень, ни птицы, ни новые запахи, такие острые и непривычные, что от них у Фикке кружилась голова.
И она поняла, что с Вилли все кончено.
Поняла сразу, когда вбежала к нему с огромным букетом сирени, таким большим, что с трудом захватила его обеими руками.
— Вилли, смотри!
И когда тусклые глаза, едва открывшиеся на ее прозвеневший всеми весенними звуками голос, так и остались точно подернутыми пленкой, она поняла, что для ее Вилли уже нет больше ничего: ни сирени, ни Фикке, ни солнечных зайчиков, которые так и прыгали по стенке над кроватью. Даже и Сида больше нет, и сказки нет. В целом свете ничего нет.
Ничего!
От ужаса у нее остановилось сердце, и она выронила сирень.
«Что же остается, когда на земле нет уже ничего?»
Через несколько дней последовал ответ на этот страшный вопрос.
В фамильном склепе под церковью цербстского замка открыли широкое окно и в него спустили на кожаных ремнях тяжелый медный гроб, в который уложили Вилли, похожего на высохший на корню цветок.
Иоганна Елизавета, судорожно хватаясь за каменную стену, едва нашла в себе силы, чтобы спуститься по узкой витой лестнице и здесь же, в склепе, упала без чувств. У Христиана Августа было такое лицо, что боялись, как бы у него не повторился удар.
К похоронам приехали и герцогиня Альбертина Фредерика, и принцесса Анна, и хромой принц Вильгельм Саксен-Готский.
— Ты не должна так плакать, Иоганна, — говорила герцогиня дочери и ласкала ее, как только матери умеют ласкать детей, не различая, большие они или маленькие. — Жизнь была не для Вилли. Жить он все равно бы не мог. Слишком уж был слаб. Теперь у тебя остается Фриц. Он крепче Вилли, но надо сделать так, чтобы он сумел хорошо жить.
Мало-помалу в доме притуплялась острота горя. Налаживалась обычная жизнь. Еще стояла, как туман, дымка неразвеянной печали. Но дымка эта с каждым днем становилась прозрачнее, потому что с ушедшим Вилли не было связано никаких воспоминаний, которые крепко и мучительно переплелись бы с самой жизнью.
В середине лета, когда все комнаты стали душистыми от разом зацветших лип, обступавших дворец, в Дорнбурге заговорили о свадьбе.
Принц Вильгельм Саксен-Готский давно сватался к принцессе Анне.
Теперь, как раз когда и жених и невеста были налицо, показалось очень удобным не откладывая отпраздновать свадьбу.
Никаких особых торжеств не предполагалось.
Свадьба должна была быть самая скромная.
Но Фикке все-таки ждала чего-то необычайного, какой-то большой радости.
И не дождалась ничего.
Свадьба была скучная-прескучная. Никогда не думала Фикке, что люди могут так венчаться. Может быть, осенью или зимой это вышло бы еще и ничего. Но в самый разгар лета, когда все цвело и солнце было такое яркое, жених и невеста казались цветами, которые уже прихватил холодный осенний утренник. И принцессе Августе, старшей подруге невесты, так не шел букет из белых роз. И всем, кто был в церкви, невольно вспоминался так еще недавно лежавший здесь в гробу Вилли.
И так как на свадьбе Фикке была почти единственным существом, о котором можно было говорить с радостной надеждой, то все особенно много и охотно говорили о ней.
— Она очень похорошела, стала совсем молодой девушкой, — восхищалась внучкой герцогиня-бабушка. — Трудно поверить, что ей в апреле исполнилось только четырнадцать лет.
— И она именно теперь стала очень похожа на портрет, который три года тому назад писала с нее в Цербсте художница Розина Лисчевская, — говорила Иоганна Елизавета. — Тогда никто не находил портрет удачным. Говорили, что художница представила ее слишком взрослой и чрезмерно польстила ей. Но теперь моя Фигхен стала именно такой, как на портрете, и я каждый раз, когда бываю в Цербсте, смотрю на него с удовольствием.
И все ходили в зал смотреть на портрет Фикке и находили, что в действительности она еще лучше.
После свадьбы молодые уехали в поместье принца Вильгельма, а герцогиня Альбертина Фредерика увезла все еще сильно тосковавшую по сыну Иоганну Елизавету с собой в Гамбург. О том, чтобы взять и Фикке, на этот раз бабушка не заговорила. Все понимали, что для Иоганны Елизаветы всего лучше побыть совсем одной с матерью.
Отец был в лагере. Фикке и Фриц остались на попечении Бабет и Кайн.
— Если бы не Фриц, мы могли бы себя вообразить в замке Спящей красавицы, такая у нас тишина, — часто говорила Бабет.
Но после всех событий тишина казалась необыкновенно приятной. Фикке и Бабет много гуляли, и гуляли не только в парке. Фигхен тянула француженку на простор, в луга и поля. Иногда во время прогулок они разговаривали, перебирая все, что случилось и зимой в Штеттине, и летом в Дорнбурге, а иногда шли молча и молчали подолгу, как только могут молчать вдвоем очень близкие люди. Тонкая молодая девушка переросла на целую голову толстушку Бабет, а кроме того, Бабет уже научила Фикке решительно всему, чему только могла научить. В наставницы ей она больше не годилась, но подругой еще могла быть, потому что любила Фикке.
Иногда прогулка их так увлекала, что вечерний туман захватывал их далеко от дома. В зеленом Дорнбурге было много сырых мест, но Бабет часто забывала об этом, а Фикке ей не напоминала. Она любила туман.
— Можно подумать, что за этими белыми клубами прячется что-нибудь очень интересное, — говорила она.
Нередко, когда они обе, задыхаясь от быстрой ходьбы, входили в парк, до них доносились пронзительные, резкие крики. Фриц, когда его сердили, имел привычку кричать совсем по-павлиньему. Как раз в это время его обыкновенно начинали уговаривать ложиться спать. Это всегда вызывало в нем прилив раздражения, и он давал ему волю, испуская крики, напоминавшие Фикке Квендлинбургское аббатство. Там, когда темнело, предзакатная тишина также прорезывалась пронзительными криками павлинов, любимых птиц ее тетки-аббатиссы.
Вообще без родителей Фриц вел себя так, что и Бабет и Фикке давно перестали его учить и исправлять, а только молили Бога, чтобы удалось хотя бы живым и неискалеченным сдать его матери, когда она вернется. Воскресные поездки в цербстскую церковь обратились в мучение с той поры, как туда стал ездить Фриц. Но оставлять его в Дорнбурге было невозможно. Наследный принц непременно хотел как можно чаще видеть племянника. Фриц, после смерти Вилли, оставался единственным юным представителем, на котором зиждились все надежды Ангальт-Цербстского дома.
— Вот, только немного поправлюсь и сам всерьез займусь Фрицем, — говорил владетельный принц, уже целый год страдавший от мучительных сердечных припадков.
Но заняться Фрицем принцу не пришлось. Внезапно ему сделалось настолько плохо, что в Цербст был спешно вызван Христиан Август и его старший брат.
Убедившись наконец, что русская императрица помнит родственные и дружеские узы, связывающие ее с Голштинским домом, Фридрих Великий в угоду ей только что произвел Христиана Августа в фельдмаршалы. Владетельный принц в свою последнюю минуту был обрадован блестящей карьерой одного из членов Ангальт-Цербстской семьи.
У Христиана Августа была и еще новость: у его жены в Берлине, где она остановилась с матерью, родилась дочь. Умирающему владетельному принцу так и не успели сказать про новорожденную. Но об этом как-то не очень жалели. Думали, что эта новость не особенно обрадовала бы принца: угасающему роду, чтобы поддержать его, нужны были принцы, а не принцессы.
Однако, когда в один из первых ненастных осенних дней у подъезда остановилась закиданная грязью дорожная карета, ее встретили с волнением все обитатели дорнбургского замка, а сам Христиан Август принял из рук Иоганны Елизаветы маленький сверточек, из которого раздавался захлебывающийся отчаянный плач.
Плач был такой жалобный, а сверток такой маленький, что все, встречавшие приезжих, успели раз и навсегда полюбить маленькую принцессу еще прежде, чем Христиан Август торжественно поднялся с нею по ступеням к распахнутым входным дверям. И хотя решительно никому не удалось увидеть и ноготка на ее мизинчике, сейчас же по всему Дорнбургу разнесся слух, что принцесса настоящая красавица.
Бабет очень жалела, что не могла встретить новорожденную. Перед самым ее приездом у нее сделался сильный жар, и от слабости она не могла встать с постели. Но Фикке улучила удобную минуту и прибежала, чтобы рассказать ей все, как было.
— Ну, что, какая она? — с нежным любопытством спросила Бабет, поднимая с подушки осунувшееся лицо, едва только Фикке успела войти в комнату.
— Она премиленькая и, кажется, очень похожа на первую сестрицу. — И Фикке с восхищением принялась описывать Бабет новорожденную: — Голубые глаза — светлые-светлые, волосики тоже светлые и так смешно-смешно вытерлись на самом затылочке. Это оттого, что маленькая сестрица все лежит. А назвали ее Елизаветой. Это в честь русской императрицы, которая прислала свое согласие быть записанной в крестные матери. Вот какая важная крестная у новой сестрицы!
— Ах, как жаль, что я еще несколько дней не увижу моей будущей воспитанницы! — горевала Бабет. — И как это удачно сложилось для меня. С тобой мне уж нечего делать, ты совсем большая, а эта маленькая Елизавета точно пришла на смену тебе. Теперь только бы мне поскорей поправиться.
— Да, и мы будем вдвоем воспитывать сестрицу, — мечтала Фикке. — Будем о ней заботиться. Я боюсь, что Кайн мало ее любит. Видно, не может простить ей, что она не мальчик.
Но Бабет расхварывалась с каждым днем все больше и больше. Фикке делила свое время между нею и маленькой сестрицей.
И той и другой в доме одинаково мало занимались. Как раз в это время шли постоянные семейные совещания о делах, связанных с переменой владетеля в Цербсте. А кроме того, у Иоганны Елизаветы после недавней поездки в Гамбург еще обострился интерес и к своим семейным голштинским делам.
Вступление на престол Елизаветы не только оживило, но перевернуло всю Голштинию.
Петр Ульрих был объявлен наследником русской императрицы, но вслед за его отъездом из Киля умерла его тетка, шведская королева. Он был ее наследником, и к нему в Петербург послали посольство с предложением занять шведский престол. Но посольство опоздало: Петр Ульрих уже принял православие. От шведской короны ему пришлось отказаться. Теперь королем шведским, при поддержке России, мог сделаться более дальний родственник покойной королевы — старший брат Иоганны Елизаветы, тот самый, который был опекуном Петра Ульриха.
От всех этих планов и возможностей просто кружилась голова. Иоганна Елизавета почти целые дни проводила за письменным столом. Письма так и летели. А в ответах, которые она получала, все сводилось к одному: все будет так, как пожелает императрица. Имя Елизаветы повторялось беспрестанно.
И вдруг новый неожиданный знак внимания с ее стороны: она прислала Иоганне Елизавете свой портрет, весь украшенный бриллиантами.
Иоганна Елизавета прошла в детскую с этим драгоценным подарком. Там как раз была и Фикке. Она пришла посмотреть на сестрицу, которую только что распеленали и положили побарахтаться на подушку. Иоганна Елизавета поворачивала во все стороны сверкающий портрет над самым личиком девочки, но привлечь к нему внимание водянисто-голубых глаз ей так и не удалось; она передала портрет старшей дочери.
— Оценен в двадцать пять тысяч, — сказала она.
Фикке этого не расслышала — так она была взволнована. Она взяла портрет обеими руками и, наклонившись, стала всматриваться.
Ее царевна! Вот какая она!
Но лицо ей представлялось неясным. Бриллианты слепили глаза. И волновалась она слишком.
Ей захотелось рассмотреть портрет на свободе. Унести куда-нибудь в укромный уголок и смотреть долго-долго и так, чтобы никто не мешал...
— Можно мне показать Бабет? — спросила она мать.
— Ах да, Бабет! Вот хорошо, что ты мне напомнила. Сегодня доктор предупредил, что у нее не простая лихорадка, как мы думали, а что-то посерьезнее. На всякий случай он нашел нужным даже отделить ее от тебя. Ее только что перевели в запасную комнату нижнего этажа. И ты не ходи к ней: у нее может быть что-нибудь заразное.
Фикке выслушала это молча. В первую минуту как будто собралась что-то сказать, но сейчас же передумала. Промолчала.
Иоганна Елизавета с портретом, усыпанным бриллиантами, прошла к себе. Фикке сказала, что идет в сад, и очутилась у Бабет.
Пришла она очень кстати. Горничная, которой поручили уход за больной, не явилась вовремя дать ей лекарство.
Фикке, пока хворала Бабет, ежедневно по нескольку раз в день забегала навестить ее.
— Милая моя Бабет, давайте я вам поправлю подушки. Вот так. Вам будет удобнее. А вот цветы — левкои, ваши любимые.
Фикке хлопотала около больной, а сама все время прислушивалась, не идет ли кто-нибудь по коридору.
Ей надо было вовремя успеть улизнуть из комнаты. Нужна была вся ее ловкость и изворотливость, чтобы не попасться. Мать редко ходила на нижний этаж, но Кайн носилась повсюду, и избежать ее зорких глаз было очень трудно. Раз как-то Фикке чуть не наскочила на нее с чайником горячей воды. Кардель захотелось чаю. Горничной не оказалось под рукой, и она сама бегала за водой.
Бабет уже почти поправилась, когда до Иоганны Елизаветы наконец дошло, что Фикке за все время болезни ежедневно навещала ее.
— Вы уже взрослая, а обманываете, как маленькая! — в раздражении закричала мать на Фикке.— Ведь я приказала вам не ходить к больной.
— Я не обманула вас, потому что не обещала вам не ходить к Бабет, — ответила ей спокойно и с сознанием своей правоты Фикке. — Бабет никогда бы меня не бросила, если бы я расхворалась, и я тоже не могла ее оставить больную.
Раздражение Иоганны Елизаветы на этот раз прошло очень скоро. Не стоило начинать истории, когда все обошлось благополучно. А кроме того, с помощью той же Бабет надо было приниматься за большие хлопоты, вызванные переменой всей жизни семьи в Дорнбурге. На семейном совете было решено, что Христиан Август, ввиду того что у него есть наследник, делается владетельным принцем вместе со своим хотя и старшим, но неженатым братом.
Христиан Август отказался от места коменданта в Штеттине, и вся семья переехала в Цербст.
IX
Фигхен больше всех в доме радовалась переезду в Цербст.
Наконец-то она будет жить в настоящем, своем замке, среди своих подданных, как живут настоящие принцессы. Давно она об этом мечтала. С самого детства. Конечно, в цербстском замке, когда она приезжала туда к дяде, ее не все удовлетворяло. Не так было пышно и богато, как бы ей хотелось. И свиты было мало, и одета она была чересчур скромно. И гостей встречали совсем иначе, чем при дворе других владетелей. Да и гости приезжали редко. Часовой у чугунных ворот мог спокойно дремать над своим барабаном.
Фигхен все это прекрасно знала, но она надеялась, что все изменится, когда они переедут. Она надеялась, что ее мать постарается, чтобы все вокруг нее стало и богаче, и ярче, и веселее.
И в первые дни после переезда Иоганна Елизавета действительно чуть ли не перевернула все вверх дном в старом замке. Она составляла длинные списки всевозможных переделок и усовершенствований, говорила, что необходимо набрать новый штат служащих, рисовала проекты новых ливрей.
Принцесса Августа и вдова бывшего владетеля Цербста с приездом новой хозяйки насторожились, примолкли и только следили за ней недоверчивыми, подозрительными глазами. Очень не нравилось им, что она так всем распоряжается. С ними она ни разу ни о чем не посоветовалась. Решит что-нибудь и идет прямо к Христиану Август. Но Христиан Август тоже не может ничего решить самостоятельно. Он был не одним владетелем в Цербсте. Ему необходимо обо всем сговариваться со своим старшим братом — Иоганном Людвигом. Решать они должны вдвоем.
Принцесса Августа первая сообразила, что, для того чтобы иметь хоть какое-нибудь значение в доме, ей и невестке необходимо постараться приобрести влияние на Иоганна Людвига.
И они постарались.
Никогда братья между собой не ссорились, они были слишком миролюбивы, добродушны для этого, а главное — очень любили друг друга, но когда вмешались женщины, они не устояли, и в доме начались неприятности. К счастью для всех, Иоганна Елизавета охладела к Цербсту, охладела сразу, как только поняла, что ничего сделать в замке нельзя, потому что нет денег и потому что никогда даже она, при всей своей энергии, не сможет сделать Цербст сколько-нибудь похожим на привлекательные для нее дворы других владетелей.
Иоганну Елизавету опять потянуло из дома, но уехать сейчас же было нельзя. Маленькая Елизавета была слишком мала, да и сама Иоганна Елизавета устала за последний год.
Она решила отдохнуть, успокоиться, а время отдыха посвятить переписке. Письмам она придавала большое значение. Писала она прекрасно и с необыкновенной легкостью. Часто начинала переписку даже с малознакомыми людьми. Покажется ей, что кто-нибудь может быть чем-нибудь полезен или просто интересен, и принималась за письмо.
— Без писем мне бы казалось, что я уже умерла, — часто говорила она. — И Штеттин, и даже Цербст совсем не по мне. Мои письма — это руки, которые я простираю, чтобы ухватиться за другую, более широкую жизнь. И большею частью это мне удается. Иногда я получаю очень интересные ответы. Некоторые из них могли бы, пожалуй, пригодиться и графу Гюлленборгу для его живой истории.
Брат Иоганны Елизаветы только что был объявлен наследником шведской короны. Как только русская императрица подала за него свой голос, все другие претенденты были сразу устранены. Это важное событие в голштинской семье было еще лишним доказательством могущества и огромного влияния России. Иоганна Елизавета решила выбрать для переписки Петербург: написала своему старому знакомому Бецкому и воспитателю Петра Ульриха фон Брюммеру.
Всем стало спокойнее с того дня, как она засела за свой письменный стол. Гораздо спокойнее, но и гораздо скучнее.
Фикке поняла, что вся перемена только в том, что они из одного скучного города переехали в другой — скучнейший. Больгаген остался в Штеттине. Вечера без его рассказов казались бесконечными и томительно-скучными. По-настоящему доволен был переездом только отец. Он любил свой тихий Цербст. С ним у него было связано много детских воспоминаний. И жизнь у него здесь сложилась спокойная. Службы не было, а после удара он хотя и оправился, но силы у него стали уже не прежние. Он радовался, что может жить на покое. Подданные его были мирные люди, которые, кроме своего Цербста, ничего не хотели знать. Они были преданы своим принцам, и управлять ими можно было без особых хлопот и большого труда. Доживать в тихой, уютной, с детства любимой обстановке было так хорошо.
Был еще один человек в доме, который радовался едва ли не больше Христиана Августа переезду в Цербст.
— Боже мой, какое это счастье! — без конца повторяла Кайн. — Вся Ангальт-Цербстская семья наконец вместе, и там именно, где ей подобает быть: в своем родовом замке, среди своих верных подданных.
Вся семья в родовом замке.
Сколько человеческих жизней принял в себя гранитный замок! Сколько портретов смотрит на Фикке со стен, когда она бродит по комнатам своего замка!
Все, что может случиться с человеком, все самое важное в жизни прошло в этих комнатах между церковью и склепом. В церкви крестили, венчали. В склеп приносили, когда умирали.
Кайн хорошо помнит историю каждой комнаты, а Фикке все хочет знать. В первое время после переезда она то и дело ловила Кайн и все ее расспрашивала, а Кайн ей рассказывала: рассказывала, где кто родился из тех, давно ушедших, чьи портреты украшают стены цербстского замка, какая комната у кого из них была любимая. Кайн все знает, все помнит, даже в длиннейших титулах самых ничтожных владетелей, по какому бы то ни было поводу приходивших в общение с Ангальт-Цербстским домом, никогда не ошибается. Чудесная у нее память! У Фикке куда хуже. У нее от всех этих имен, годов и чисел все спуталось в голове. Оттого, вероятно, и скучно стало.
— Расскажите мне что-нибудь очень страшное про наш замок, — попросила она совсем неожиданно Кайн.
Но Кайн с самого переезда в таком радостном настроении, что ее оставили даже предчувствия. Она спешит уверить Фикке, что ничего «очень страшного», слава Богу, в замке нет и никогда не бывало.
— Тогда расскажите мне, как жили в этих комнатах. Я хочу знать, что случилось с людьми?
На этот раз Фикке поймала Кайн в одной из пустых комнат нижнего этажа. С устройством еще не совсем покончено. У Иоганны Елизаветы оказался целый сундук неразобранных платьев. Надо их пересмотреть, развесить. Кайн готовит для них комнату. Сюда же на днях перенесли и сундуки для уборки разных обветшавших портьер, занавесей и ковров. Все это когда-то было вышито руками принцесс. Давно вышито и потому выцвело, изорвалось и продырявилось.
Иоганна Елизавета приказала все это снять. В комнатах стало сразу свежее и светлее. А Кайн бережно подобрала все вышивки, сложила их в пустую комнату и, когда у нее есть время, приходит сюда, чистит, складывает и убирает в сундуки то, что уже окончательно должны уничтожить мыши и моль.
Фикке сидит на подоконнике и следит за тем, как Кайн бережно складывает какую-то длинную шелковую полосу.
— Расскажите мне про того принца, который на портрете в латах. Лицо у него такое сумрачное, строгое, — говорит она, выбирая того, кто ей кажется самым интересным.
— Сумрачное, строгое лицо? — Кайн удивлена и даже как будто слегка обижена. — Все принцы Ангальт-Цербстские славились своими открытыми добродушными лицами. Это, вероятно, потому, что он в латах, вам показалось, что у него сумрачное лицо.
Фикке не спорит, но еще раз просит Кайн рассказать про принца.
— И он прожил свою жизнь как и все, — говорит Кайн. — Все принцы Ангальт-Цербстские смолоду служили в войсках разных крупных владетелей и королей. Но оставляли они родной Цербст по необходимости. Земля могла прокормить только одного владетельного принца. Остальные должны были служить. И вся Европа знала, что это честные служаки, преданные долгу до последней капли крови. Их везде ценили, но ни один из них, кроме тех, кто погиб на войне, не остался в чужой стране. Отдыхать и доживать они приезжали в свой родной Цербст.
«Отдыхать», «доживать»... От этих слов уже не только скучно — от них тоскливо. Расспрашивать дальше как-то не хочется. Все, что случалось интересного с принцами, случалось тогда, когда они были молоды и жили в чужих краях, в тех странах, о которых так увлекательно рассказывал Больгаген. Но Кайн ни про эти страны, ни про то, что случалось там, конечно, ничего не знает. Может быть, она расскажет что-нибудь про принцесс?
— А принцессы? Они тоже куда-нибудь уезжали?
Кайн поднимает над раскрытым сундуком удивленное, негодующее лицо:
— Принцессы... уезжали? Нет, чтобы принцессы уезжали, этого никогда не бывало в Ангальт-Цербстском доме.
Кайн выпрямляется. Лицо ее становится почти вдохновенным:
— О, принцессы Ангальт-Цербстского дома! — с благоговением произносит она. — Девушками они были лучшим украшением дома. И какие хозяйки из них выходили! Все, кто хотел иметь хорошую жену, могли смело обращаться в Цербст. Ошибки быть не могло.
— И все принцессы выходили замуж? — спрашивает Фикке.
— Ну нет, конечно, не все, — отвечает Кайн. — Почему-то принцесс всегда больше, чем принцев, и для всех не хватает женихов. Но и незамужние выполняли свое назначение. Они находили дело в семьях у своих родных. Все эти когда-то прекрасные вещи — это всё, до последнего стежка, работа искусных и трудолюбивых рук наших принцесс. Сладко и успокоительно вспомнить о них.
Кайн немного помолчала. Она была сильно взволнована. И вдруг ее точно осенило.
— Ваше высочество, — обратилась она к Фикке, — теперь, когда все эти вещи пришлось снять, вы, наверное, приложите старание, чтобы пополнить недостающее. На стенах, на окнах, на дверях — везде много пустых мест. Принцессе Августе одной не справиться.
Кайн сказала все это очень почтительно, но с таким видом, что Фикке поняла: она от своего плана ни за что не отступится и о работах будет напоминать ей при всяком удобном случае.
И Фикке стала работать. Без работы, особенно длинными зимними вечерами, было бы уж точно тоскливо.
Так и устроилось само собой, что вечерами Иоганна Елизавета, вдовствующая принцесса и принцесса Августа собирались около большого стола в гостиной. Собирались и работали, чтобы не сидеть в одиночку по комнатам. И Фикке приходила в гостиную.
Потрескивали дрова в камине, позванивали спицы в руках вдовствующей принцессы, шелестел шелк в женских руках, а из соседней комнаты доносилось постукивание шахматных фигур. Принцы-братья вечерами играли в шахматы.
И в гостиной, и в кабинете собирались люди, которые виделись друг с другом каждый день или жили безвыездно в Цербсте, где ничего особенного не случалось, а о том немногом, что случилось, успели переговорить уже по нескольку раз. И вот для развлеченья в гостиной придумали как-то перебирать, за кого бы выдать Фикке замуж. Заговорили при самой же Фикке, которая в первую минуту даже испугалась и смутилась. Конечно, она была взрослой и считала себя взрослой, но уж не до такой же степени! Однако Иоганна Елизавета сказала, что она сама вышла замуж пятнадцати лет, а были принцессы, которые выходили и еще раньше.
— Все зависит от счастья, от случая, — вставила принцесса Августа и вздохнула.
А вдовствующая принцесса заметила:
— Фикке будет трудно выдать замуж. Бедному принцу нужна жена, которая бы своим богатством и влиянием подняла его значение, а богатый и влиятельный всегда ищет для себя ровню.
Это замечание положительно не понравилось Иоганне Елизавете. Она нашла нужным напомнить, что ее Фигхен из Голштинского, самого древнего дома в Европе. Ее родной дядя — король шведский, а кузен — наследник русской императрицы. Выходило так, что Фикке — невеста с большими связями.
Для самой Иоганны Елизаветы это стало ясно только теперь. Мысль ее под впечатлением этого приятного открытия заработала быстро и смело. Перед ней вереницей проходили все известные ей женихи. На более видных она останавливалась и произносила их имена вслух:
— Принц Брауншвейгский... Генрих Прусский...
— Петр Ульрих, наследник русской императрицы, — с нескрываемой насмешкой вставила вдовствующая принцесса. — Его вы как раз и забыли, а жених самый блестящий.
Фикке вздрогнула, широко раскрыла глаза, но не видела ни матери, ни теток и, что говорили они, не слышала...
От надвигавшейся бури зашумели деревья эйтинского парка. Молния огнем прорезала черное небо. Испуганный мальчик схватился за портьеру тонкими, слабыми пальцами... Знакомая жалость, только более острая, чем всегда, сжала сердце. Но это продолжалось одно мгновение. Фикке вспомнила, что с Петром Ульрихом царевна. Она любит, ласкает его.
А за столом все говорили о своем.
Иоганна Елизавета, желая отомстить вдовствующей принцессе за насмешку, неприятно подчеркивая слова, распространялась о владетелях, у которых все владения в земле под замком и какой-нибудь десяток слуг — все их подданные.
Намек был слишком ясен. Она пропустила только мельницу. У отца вдовствующей принцессы была еще мельница.
Неизвестно, чем бы кончился разговор, если бы, на этот раз очень кстати, не вмешалась принцесса Августа.
Она напомнила, что племянница ее еще чрезвычайно молода, так молода, что всякие споры и соображения относительно ее брака являются более чем преждевременными — Фигхен еще может долго-долго ждать...
Принцесса Августа втайне надеялась, что разговор перейдет на нее. Ведь время ее давно пришло, и ждать «долго-долго» она больше не могла. И когда этого не случилось, во всей ее склоненной над работой фигуре выразилось такое безнадежное уныние, что Фикке стало ее жаль. Она поняла, что в эту минуту принцессе стало ясно, что о ней говорить уже поздно.
Бедная! Прожила целую жизнь в Цербсте и все ждала, а теперь и ждать уже нечего.
На другой же день Фикке пришла к Бабет с таким видом, что та сразу поняла, что ей надо поговорить с ней об очень серьезном.
Комнаты их были рядом, в конце дома, как раз у выхода на лестницу в церковь. Через коридор от них помещалась маленькая Елизавета. Она была тихая девочка, и ее было почти не слышно. Комнаты около церковной лестницы были самыми тихими, окнами выходили прямо в сад.
Подходило Рождество, и сад стоял весь белый от снега. Из окна Бабет было особенно красиво. Может быть, потому, что она умела уютно устраивать все вокруг себя. Ставила всегда пяльцы у окна так, чтобы за работой видеть и снег, и деревья, и небо. И для Фикке у нее всегда было наготове уютное местечко. Рядом с Бабет всегда дышалось хорошо и покойно, потому что душа у нее была добрая и ясная. И по своему пути в жизни она шла с сознанием, что именно этот путь для нее настоящий. Фикке она воспитала, отдала ей все свои знания, постаралась вложить в нее все лучшее, что было в ней самой. Долг свой Бабет исполнила, силы трудиться у нее еще есть. И она будет трудиться. Будет трудиться потому, что это долг всякого человека, и еще потому, что у нее много бедных родных. И это тоже ее долг — помогать жить другим.
— Садись, Фикке, — предлагает Бабет и подвигает ей стул. — Что скажешь? У тебя такое лицо, точно случилось что-то очень важное.
— Ах, ровно ничего не случилось. И это, пожалуй, самое важное, что ничего не случилось.
Фикке садится и с нахмуренным лицом смотрит в сад, но глаза ее ничего не видят.
— В Цербсте никогда ничего не случается, Бабет, и, кажется, никогда ничего и не случалось. В других местах люди живут, а здесь от жизни, настоящей жизни, точно слышишь одно отдаленное эхо. Учиться, расти здесь было бы, пожалуй, и недурно, но попасть сюда, когда я выросла, — это просто ужасно, Бабет! Целую жизнь в Цербсте! Эта мысль сводит меня с ума.
Фикке говорит все это с отчаянием, но оно нисколько не передается Бабет. Она только смеется:
— Целую жизнь провести здесь?! Это уже слишком. Очень надеюсь, что этого не случится с тобою, Фикке.
У Бабет дрожит верхняя губа. Но Фикке все равно.
Пускай Бабет смеется. Она должна кому-нибудь сказать все, что ее мучит.
— А тетя Августа ведь прожила же целую жизнь в Цербсте?
— Принцесса Августа — это другое дело. У нее шрамы...
— А принцесса Анна? — перебивает ее Фикке. — Она-то была почти красавицей. А мамины сестры в монастыре? Они обе были красивые, и что же? Тетя Гедвига к тому же еще и очень образованная. А теперь... Какой ужас эти ее жирные мопсы, с которыми она никогда не расстается! Это хуже птичника тети Августы. А что, если и я стану такой же? И стану, непременно стану! — почти кричит Фикке. — Сделаюсь, как они, если меня забудут в Цербсте.
— Забудут? Это ты про что, Фикке?
— Да вот Кайн говорит, что Цербстские принцессы уезжают отсюда только в тех случаях, когда на них женятся. А вдруг меня забудут... вспомнят, а принцессе уже пятьдесят лет...
Эти последние слова кажутся смешными уже не одной Бабет. И она, и Фикке — обе смеются до слез.
Забытая принцесса! Чего только не придумает Фикке.
Бабет ручается ей, что человек не может быть забыт, если только он сам помнит о себе, сам делает себе жизнь, а не ждет, чтобы ее устроил кто-нибудь другой. Забытая принцесса! Только Спящая красавица ждала, чтобы ее разбудил принц. Но ведь это сказка. Люди должны жить по-другому.
— Не знаю еще, как проживу я свою жизнь, Бабет, — говорит Фикке, — но знаю одно: жить так, как жили наши Цербстские принцессы, я не могу и не стану. Цербст — это не мое царство, а где мое царство, мое настоящее, прекрасное царство, — я не знаю.
— Ах, опять... — начинает Бабет.
Но Фикке хочет прекратить разговор. Она смотрит в окно на голубое небо и блестящий под солнцем снег.
— Блестит, как толченый сахар, — говорит она. — Чувствуете, Бабет, что Рождество подходит? Первое Рождество в замке.
— Ты, кажется, уже готова начать жалеть о тех увеселениях, которые где-то будут без тебя? — говорит Кардель. — А ты сделай так, чтобы твой праздник стал таким прекрасным, каким ты только можешь его сделать. Устроим хорошую елку, и так, чтобы всем были подарки. Елка в замке! Это чего-нибудь да стоит.
Фикке вскочила и захлопала в ладоши:
— Отлично — елка в замке. Это будет превесело. Мне так давно хочется что-нибудь делать, устраивать.
И она вдвоем с Бабет с таким увлечением захлопотала об елке, что увлечение это постепенно передалось всем в замке.
Вместо вышивания и вязания в гостиной вечерами стали готовить подарки. Сначала думали только о своих, домашних, потом решили, сделать елку и для слуг, а потом заговорили о том, чтобы зажечь елку для городских детей. И дел, и хлопот с этими планами появилось так много, что ни ссориться, ни перебирать женихов было некогда: думали только о том, чтобы со всем поспеть вовремя.
От близкого праздника точно пахнуло новой жизнью. Весь дом готовился к чему-то торжественному, чего-то ждал.
X
Праздник удался.
Комнаты замка уставили гиацинтами и нарциссами. Иоганна Елизавета любила цветы, и садовник постарался угодить новой хозяйке. Каждый вечер в замке зажигали елку. Все в Цербсте теперь могли вдоволь насмотреться на своих принцев и принцесс. Семья Христиана Августа вызывала умиление и восторги. Иоганна Елизавета, как всегда, восхищала всех своей красотой. Фрицу, как наследному принцу, охотно прощали все недочеты. Цербст был счастлив уже тем, что этот принц, единственная надежда на прославление Ангальт-Цербстского дома, живет на свете. Но больше всего говорили о принцессе Софии Августе Фредерике. Ее находили обворожительной. Она заставляла танцевать и петь собравшихся на елку детей. С самыми робкими и неуклюжими танцевала сама. Каждой матери и бабушке сказала что-нибудь ласковое и очень лестное о приведенных ими малышах. И дети и взрослые чувствовали себя уютно и свободно, а когда пришло время раздавать подарки, в зале замка уже не было ни одной пары испуганных, недоумевающих глаз.
Точно птичья стая, налетели дети к столу с подарками. Бабет и Фикке с большим трудом уставили их в пары и подводили по очереди к столу. Вдовствующая принцесса по случаю траура из своей комнаты не вышла. Принцессы своими руками раздавали игрушки, теплые вещи и лакомства.
— Знаешь, Фикке, я почти рада, что праздники кончаются. Вся эта непривычная суета утомила меня, да и ты, наверное, тоже устала, — говорила Бабет.
— Ах нет, я совсем не устала, — ответила Фикке. — Напротив, первый раз в Цербсте у меня такое чувство, что я живу, а не сплю. Мне нужно дело, много дела, это именно по мне.
Фикке сказала это с большим воодушевлением. Все время праздников у нее было совсем особенное, радостно-возбужденное настроение. Праздничные огни, толпа, благодарность детей и взрослых — все это радовало и волновало ее. А кроме того, ей удалось все, что она задумала, и она чувствовала, что все ее хвалят, все ею восхищаются. Это пробуждало все самое сильное и прекрасное, что только было в ее душе.
— Я боюсь будней, Бабет, — продолжала она. — Боюсь сонной тишины Цербста. О, если бы я была Сидом, я бы достала, что мне нужно.
А накануне Нового года она пришла в комнату Кардель взволнованная и сказала:
— Сама не знаю, что со мной, но от Нового года я жду чего-то особенного.
Наутро, собираясь в церковь, она причесалась и оделась особенно тщательно и, вероятно, потому имела более, чем всегда, нарядный вид в своем праздничном, но очень скромном белом платье. А когда она вошла вместе со всей семьей в красную ложу, увидела перед собою всю белую церковь и услышала торжественные звуки органа, ожидание необычайного еще более усилилось в ней.
Кончилась служба. Все направились в столовую, где уже ждал празднично накрытый стол. За столом засиделись дольше обыкновенного. Новый год всегда вызывает надежды на будущее. Все весело разговаривали, шутили, смеялись. А когда собрались наконец вставать, вошел слуга и подал Христиану Августу большой запечатанный пакет с письмами.
— Прислано эстафетой из Берлина для вашего высочества, — сказал он.
— Письма? Это очень интересно! — оживилась Иоганна Елизавета. — Вероятно, поздравления. Посмотрим, кто-то нас вспомнил. Есть что-нибудь для меня, Христиан?
Принц разорвал пакет и, выбрав из него все, что было на имя жены, передал письма сидевшей с ним рядом Иоганне Елизавете.
— Вот и от Брюммера, — сказала она и поспешно разорвала конверт.
Фикке сидела рядом с матерью. При словах «от Брюммера» она выпрямилась и насторожилась, точно дрогнули и натянулись в ней таинственные нити, с раннего детства связавшие ее с Россией.
«Как интересно! Господи, как интересно!» Фикке замирала от волнения и не спускала глаз с пробегавшей письмо матери. «Скорей бы читала! Вот дочитала, расскажет, что пишут. Ах, да что же это? Что же там написано?» У матери такое лицо, точно она не верит глазам. Перечитывает... И вдруг Иоганна Елизавета радостно вскрикнула и откинулась на спинку стула. Сияющими глазами смотрела она перед собой, но глаза эти точно ослепли от сильного света и ничего не видели.
— Что с тобой, Иоганна? — тревожно спросил ее Христиан Август.
— Ничего, ничего. Расскажу потом, — торопливо и задыхающимся голосом ответила ему жена. И шепотом, наклонившись совсем близко к нему, прибавила: — Предсказание Менгдена сбывается.
Иоганна Елизавета давно рассказала мужу о трех коронах, но он принял рассказ за шутку и тогда же забыл и короны, и Менгдена. Из того, что прошептала ему Иоганна Елизавета, он ровно ничего не понял. Другие за столом не могли ничего расслышать. Только Фикке в своем возбуждении обостренным слухом и пониманием сразу схватила слова матери. И в письмо заглянула. Сама не помнила, как это вышло, но заглянула и совсем ясно прочла фразу: «Императрица приглашает ваше высочество в сопровождении вашей старшей дочери приехать в Россию». Через минуту ни письма, ни самой Иоганны Елизаветы уже не было в столовой. Она поторопилась уйти к себе, чтобы на свободе разобрать письмо. За нею ушел и Христиан Август.
Оставшиеся за столом переглядывались в полном недоумении. Лица у всех были растерянные, обиженные. Фикке побледнела. Сидела, опустив глаза, и всеми силами старалась скрыть свое волнение. А в голове у нее кружились горячие, тревожно-радостные мысли. «Письмо из России... императрица, сама императрица, зовет маму и меня с нею. Меня... зачем? для чего? Для чего-нибудь очень важного: слишком мама взволновалась и обрадовалась... «Предсказание Менгдена исполняется», — сказала она папе. Значит, мне корона! Петр Ульрих — наследник императрицы, будущий император... И я, я, может быть, будущая... — Она не решалась даже мысленно назвать себя этим словом. — Все это мне кажется, все это сон. Я проснусь и буду рассказывать: «Бабет, какой странный сон приснился мне сегодня... в день Нового года... Новый год, новое счастье... огромное, неслыханное счастье — как в сказке, маленькая цербстская принцесса станет русской... — И, закрыв на мгновение глаза и едва шевеля губами, она беззвучно докончила: — Им-пе-ра-три-цей».
И когда снова открыла глаза и обвела ими всех сидевших за столом, то показалось ей, что прошли не минуты, а годы, и за эти годы она выросла, стала взрослой девушкой, вступившей в новую, таинственную жизнь. И она сразу почувствовала, что сумеет вести себя как взрослая.
А за столом все молчали. Принцесса Августа наконец не выдержала, и слова ее сухо и резко разбили тишину, точно семечки, с треском высыпавшиеся из сухого стручка акации.
— Не понимаю этих секретов! — произнесла она с нескрываемым раздражением.
— Могли бы хоть вам что-нибудь объяснить, Иоганн, — обратившись к принцу Иоганну Людвигу, тотчас же поддержала ее вдовствующая принцесса.
Но Иоганн Людвиг не успел еще ничего ответить, как явился слуга:
— Их высочества просят ваше высочество пожаловать к ним.
Принц сейчас же ушел из столовой, а женщинам ничего больше не оставалось, как разойтись по комнатам.
Столовая опустела.
— Что это за письмо? Ты как думаешь, о чем оно, Фикке? — спросила Бабет.
— Не знаю, — ответила Фикке, не поднимая глаз, и этими словами, точно стеной, отделила себя от дальнейших расспросов и разговоров. У нее это так вышло, что Бабет сразу замолчала.
Бабет сидела у себя в комнате и читала. Фикке тоже села за книгу. Бабет в раскрытую дверь видела склоненную над столом голову. Но Фигхен только делала вид, что читает. Так ей никто не мешал думать, о чем она хотела.
Вдруг в комнату влетела Кайн:
— Боже мой! Боже мой! Новая эстафета из Берлина, — выкрикнула она, но здесь голос ей изменил, и кончила она, почти задыхаясь: — Говорят, уж это от самого короля.
На ее крик вбежала Бабет. Всплеснула руками:
— Что же наконец все это значит?
— Какая-нибудь новая милость нашему дому, — сказала Кайн и убежала разносить дальше потрясающее известие об эстафете от самого короля.
— Не сомневаюсь, что это имеет отношение к загадочному письму из Петербурга, — сказала Бабет. — Просто не знаешь, что и думать, чего ждать.
Еще раз с ожиданием взглянула она на Фикке и снова увидела лицо, вдруг почему-то ставшее для нее и чужим, и непонятным.
Так и разошлись они опять по своим комнатам. Делали вид, что читают. А по коридору кто-то бежал, кто-то кому-то говорил и про короля, и про эстафету, где-то гулко хлопали двери. Чувствовалось, что взволнован весь дом.
Бабет наконец не выдержала. Заглянула еще раз к Фикке и потихоньку ушла из своей комнаты. Сидеть и молчать она больше не могла.
Обед в этот день вышел пренеприятный. Оба принца и Иоганна Елизавета сидели с таинственными, взволнованными лицами. Остальные — с обиженными. Фикке не знала, на кого ей смотреть, и потому старалась не поднимать глаз. Перед самым обедом Бабет ей шепнула, что, по слухам, принцесса перессорилась с принцами. Они — за одно, а она — совсем за другое.
За обедом, кроме Фрица, почти никто ничего не ел. Один Фриц был, как всегда. Пользуясь общим расстройством, он съел тройную порцию пирожного, и обед, такой тяжелый для всех, произвел на него самое приятное впечатление.
Вечером было опять совещание в кабинете у Христиана Августа. Когда Фикке вошла туда, чтобы, по обыкновению, перед сном пожелать старшим покойной ночи, все сразу замолчали.
Она подошла к отцу. Он обнял ее особенно нежно, прижал к себе и сказал:
— Вы только посмотрите на нее: она еще совсем девочка.
При этом и лицо, и голос у него были такие, точно он о чем-то кого-то просил.
— Мне было как раз столько же лет, сколько Фигхен, когда ты ко мне посватался, Христиан, — заметила ему Иоганна Елизавета, точно этими словами стараясь в чем-то его убедить.
И когда отец с особенной нежностью поцеловал в щеку Фикке, она уже знала все, что ей было нужно знать. Своим видом и немногими, даже не к ней обращенными словами они подтвердили все ее догадки. Она не сомневалась, что императрица зовет ее, чтобы выдать замуж за Петра Ульриха, и что мать этого хочет, а отец и дядя не соглашаются, находят, что она слишком еще молода.
В эту ночь Фикке не спала до самого рассвета. Все думала, что делать, чтобы убедить родителей не мешать ей. Императрица звала ее, чтобы обвенчать с наследником престола. Исполнялось чудесное предсказание Менгдена. Вечным блестящим праздником казалось Фикке то, что ждало ее в далекой России. Неужели отказ станет на пути к ее счастью? Неужели она так и останется в Цербсте? Остаться после того, как ее позвали быть императрицей самой большой, самой могущественной страны? И кто позвал? Позвала царевна. Разве можно не откликнуться на ее зов? И Петра Ульриха она рада видеть. Не чужой он ей. Тогда, в Эйтине, ей хорошо было с ним.
Утром Фикке уже встала с готовым решением. Бабет, как всегда, зашла помочь ей причесаться и одеться, и Фикке в это утро показалась ей даже спокойнее, чем накануне.
Иоганна Елизавета еще не кончила своего туалета и сидела перед зеркалом, когда к ней вошла Фикке.
— Почему это ты сегодня так рано пришла ко мне? — спросила мать.
— Умоляю тебя, мама, скажи мне все про письмо из Петербурга, — сказала Фикке. — Весь дом взволнован им, а я догадываюсь, что письмо обо мне.
Сказала и замолчала. Смотрела на мать. Ждала ответа.
— Императрица приглашает меня с тобой в Петербург.
— И только? — спросила Фикке. Ее синие глаза потемнели.
Иоганне Елизавете показалось, что дочь заглядывает ей в самую душу. И она вдруг взволновалась: ни до чего еще не успели они договориться. Только проспорили целый день.
Но синие глаза спрашивали так настойчиво, что ничего не ответить было невозможно.
— Мне давно было нужно подумать самой об этой поездке. Сколько милостей за последнее время выпало нашему дому: и пенсия твоей бабушке, и драгоценный потрет для меня, и назначение брата наследником шведской короны. Всему этому мы обязаны только благосклонности императрицы. Лично поблагодарить ее просто необходимо.
— Да, ты права, мама. Но это не все. Не главное это. — Фикке глазами умоляла мать больше не томить и не мучить ее. И чтобы убедить ее, прибавила: — Ведь главное я уже знаю.
Иоганна Елизавета была поражена.
— Откуда же ты могла знать? — только спросила она.
— Угадала, — ответила Фикке.
— Что же ты угадала?
— Петр Третий будет моим супругом, — громко и торжественно произнесла Фикке.
И ни в эту минуту, ни потом, уже позднее, когда она вспоминала свой разговор с матерью, Фикке так и не могла себе объяснить, почему она так ответила. И почему Петра Ульриха она вдруг назвала Петром Третьим — этого она тоже понять не могла. Но с этой минуты он точно перестал быть для нее только троюродным братом. Будущего царя, которому императрица Елизавета после себя передаст престол, увидала она в нем.
Будущий царь, а она, Фигхен, принцесса одного из самых маленьких княжеств, царица.
То главное, что домашние скрывали от Фикке, она уже знала. Иоганна Елизавета еще раз пытливо взглянула на дочь.
— Ты очень хочешь этого? — тихо спросила она и притянула Фигхен за руку к себе. — Очень хочешь?
— Я вижу в этом свое огромное счастье, — сказала Фикке.
У Иоганны Елизаветы стало легче на душе. Она тоже, как и Фикке, не сомневалась, что к ним пришло счастье.
В Голштинском доме было много выдающихся людей. Были даже короли, но императрицы еще не было.
Императрица! Как великолепно это звучало. Иоганна Елизавета из бывшей недавно штеттинской губернаторши становилась ближайшей родственницей царствующей императрицы и матерью будущей! Какой почет ее ждал! Какое влияние она могла иметь и в Берлине, и повсюду, у всех, кого она захочет только осчастливить своим посещением. Россия теперь самая могущественная страна, а Иоганна Елизавета так близка ей. И как чудесно, что Фикке думает как она. Они станут союзницами. Вдвоем-то они наверное справятся с принцами.
И, усадив дочь рядом с собою на канапе, Иоганна Елизавета вытащила из потайного ящика письма Брюммера и Фридриха Великого и, волнуясь и пересыпая все своими замечаниями, стала читать дочери отрывки из них.
— Вот что Брюммер пишет:
«С самого приезда в Россию не переставал трудиться для счастья и величия наияснейшего Голштинского герцогского дома... Питая глубокое почтение к особе вашей светлости, дни и ночи думал, нельзя ли сделать что-либо блистательное в пользу вашей светлости и вашей знаменитой фамилии...»
Ты слышишь, Фигхен? Вот истинно преданный человек! Прекрасный человек!
Но Фикке ясно видела перед собой лукавое лицо Брюммера. Несмотря на ее праздничное, ликующее настроение, он все-таки представился ей хитрым и злым. Она сразу вспомнила, как он обращался с будущим царем. Вспомнила и возмутилась. Но Иоганна Елизавета не допрашивала, даже ничего не заметила. Она, точно бабочка, ослепленная светом, видела только свои письма.
— И Лесток, тот один из главных, кто был с царевной в ночь переворота, один из ее ближайших друзей, доктор, служивший еще Петру Великому и Екатерине, и о нем вот что пишет Брюммер:
«Он тоже работает со мною и тоже предан интересам герцогского дома... просит засвидетельствовать вашей светлости глубочайшее уважение. Он вел себя как честный и ревностный слуга».
Сколько у нас друзей! К нам расположены даже те, кого мы не знаем, — говорила в упоении Иоганна Елизавета.
Но Фикке казалось, что ее мать забыла самое главное.
— Что же и как там написано про императрицу? Прочти мне это место, — попросила она.
И мать прочла:
— «По приказанию ее императорского величества, я должен вам внушить, чтоб ваша светлость в сопровождении старшей дочери немедленно бы приехали в Россию. Ваша светлость, конечно, поймете, почему ее величество так сильно желает вас видеть здесь как можно скорее, равно как и принцессу, вашу дочь, о которой рассказывается столько хорошего».
При этих словах Фикке вспыхнула.
Столько хорошего! Императрица слышала о ней столько хорошего! О, теперь она всеми силами постарается быть хорошей по-настоящему. Все, чего не хватает ей, она разовьет в себе. Пускай увидит императрица, что она не ошиблась.
А мать между тем говорила:
— Императрица дает нам на путешествие и необходимые покупки десять тысяч рублей, а в Петербурге мы получим еще две тысячи. И еще императрица требует в этом деле самой строжайшей тайны. Ты никому ничего не должна говорить, Фикке. Обещаешь?
— Никому не звука, если она так хочет, — ответила Фикке.
— А насчет причины отъезда Брюммер советует говорить так: «Долг и учтивость требуют от меня съездить в Россию, как для того, чтобы поблагодарить императрицу за необыкновенную благосклонность, оказанную герцогскому дому, так и для того, чтобы видеть совершеннейшую из государынь и лично поручить себя ее милостям». Я так и буду всем говорить, Фикке. И до приезда в Ригу я, тоже по совету Брюммера, возьму фамилию графини Рейнбок.
Это было страшно интересно! Ехать в Россию, и еще так таинственно — под чужим именем.
Фикке хотелось бы поговорить о путешествии, но мать взялась за письмо Фридриха. Это тоже интересно. Что мог он, гордый, даже надменный в своем царственном одиночестве, написать матери?
Как это ни было странно и удивительно, но король Пруссии, сам Фридрих Великий, писал почти в тех же выражениях и тем же тоном, как и Брюммер:
«Ценя вас и принцессу, любезную вашу дочь, я пожелал, чтобы сей последней достался жребий отменный, и стал обдумывать, нет ли возможности сочетать ее с ее кузеном, ныне русским великим князем».
Как, и король тоже думал о том же, о чем и Брюммер! Там, в Берлине, было совсем не похоже, чтобы он особенно заботился о них.
Фикке чувствовала, как в голове ее что-то туманится. Вот-вот совсем потемнеет. И вдруг все сразу прояснилось: Брюммер, Лесток, другие, да и сам Фридрих — разве это важно и стоит ли думать обо всем этом? Сама императрица ее выбрала, ее захотела.
Императрица зовет! Только это и было важно.
А мать вдруг заговорила о том, что отец и дядя не хотят отпускать ее в Россию.
Да разве это возможно?
Не пускают, и кончено. И не знает Иоганна Елизавета, что ей отвечать и Брюммеру, и королю. А они ждут.
— Я попробую сама поговорить с отцом, — решительно заявила Фикке.
Чем только Христиан Август не пугал дочь, чтобы отговорить ее от поездки!
— Ты не представляешь себе этой мучительной дороги, Фигхен, — говорил он ей. — Подумай только: вам придется ехать на лошадях целый месяц. Зимой иначе нельзя. Время теперь самое холодное. Вы просто можете замерзнуть. А постоялые дворы! Ужасно даже подумать, как там грязно и неудобно. И ехать придется по самым глухим местам. На вас могут напасть разбойники. Ограбят, убьют...
— Все это меня не пугает, отец, — отвечала Фикке. — И мать тоже не боится. А поездка мне кажется очень интересной.
Христиан Август только пожал плечами:
— Смущает меня и сама страна. За последнее время в России так много всяких перемен, еще так недавно там все было так неустойчиво...
— С помощью Божией все устроится, — сказала Фикке. — Мне кажется, что все пойдет хорошо.
Тогда отец нашел уместным рассказать ей печальную историю о принцессе Шарлотте Брауншвейгской.
Как она плакала, как не хотела ехать в Россию, но не ехать было нельзя: ее сватал сам Петр Великий за своего сына и наследника, царевича Алексея. Ей пришлось уступить. Все думали, что она едет за счастьем. Но эта первая немецкая принцесса, вышедшая замуж за наследника престола, в России нашла только одно горе, которое и свело ее в могилу.
— Ты только подумай, Фикке, как тяжело ей было жить и умирать, одинокой, несчастной, в чужой стране, где ей было все непонятно. Один язык чего стоит. Принцесса Шарлотта так и не смогла ему научиться. И живут там, наверное, совсем по-другому, чем у нас. Еще так недавно русские считались почти варварами. Иноземку они, пожалуй, и не полюбят. Принцессу Шарлотту, говорят, они совсем не признавали.
— Я постараюсь сделать все, чтобы меня полюбили. Шарлотта Брауншвейгская не хотела ехать, а я только этого и хочу.
Христиан Август колебался. Имел ли он право бороться с таким определенным и непоколебимым желанием? А вдруг Фикке права? Вдруг это действительно ее счастье? Может ли он, вправе ли он мешать ей? И Фикке представилась ему сразу другой. Он считал ее ребенком, а она смелая, сильная...
А Фикке, подметив его колебание, принялась ему доказывать, что, собственно говоря, путешествие их ни к чему не обязывает.
— Там, уже на месте, мы все посмотрим и сообразим, — говорила она. — Если что-нибудь нам не понравится, мы вернемся. Ведь императрица требует, чтобы мы скрывали, зачем едем. Значит, когда мы вернемся, о главном никто ничего не узнает.
Фикке немного помолчала.
— Умоляю вас, отпустите меня.
— Что же, если ты так хочешь, если ты так уверена в счастье, я не вправе мешать тебе... Поезжай... с Богом.
У Христиана Августа дрожал голос, и на глазах были слезы. А Фикке как только добилась наконец согласия, стало так жаль отца, такого доброго, любящего, что она с плачем припала к его рукам.
— Может быть, ты раздумала? — шепнул ей, целуя ее в голову, Христиан Август.
Но при этих словах она сразу выпрямилась и взглянула отцу прямо в глаза своими синими, как и у него, глазами.
У отца с дочерью глаза были очень похожи: у обоих синие глаза Ангальт-Цербстского дома. Разница была только в выражении. У четырнадцатилетней Фикке в эту минуту было гораздо больше силы, смелости и уверенности в себе, чем у ее отца. Она страдала, но голос ее не дрогнул, когда она сказала:
— Я поеду, отец.
И когда сказала, почувствовала, что иначе ответить и не могла, и не должна была.
Тогда отец обнял ее, поцеловал в мокрое от слез лицо и произнес:
— Только помни одно, моя дорогая Фигхен: когда бы ты ни вернулась в наш тихий Цербст, всегда ты будешь в нем желанной и любимой... А теперь попроси ко мне мать, — другим голосом, уже овладев собой, сказал он дочери.
И Фикке побежала за Иоганной Елизаветой, на ходу вытирая мокрое от слез лицо.
Через час Иоганна Елизавета уже сидела за ответными письмами и все в доме знали, то их высочества куда-то едут вместе со старшей принцессой, что едут спешно и берут с собой Кайн, двух горничных, повара и трех лакеев. О том, куда едут, никто не знал ничего определенного, но все чувствовали, что это не обыкновенная поездка, и это придавало таинственность сборам.
— Неужели ты так и не скажешь мне, Фикке, куда это вы собрались? — допрашивала Бабет, и в голосе ее слышались укоризна и обида.
— Не скажу. Не могу сказать, — отвечала Фикке.
Ей было очень мучительно отказывать. Никогда она ничего не скрывала от своей Бабет.
— Ну что же делать... — вздыхала француженка. Она была очень любопытна, и, кроме того, ее в самом деле сильно обижало и огорчало непривычное недоверие Фикке. — Вижу, что ты меня разлюбила.
— Я слово дала не говорить. Понимаете, Бабет, дала слово! Я не имею права ничего никому сказать. А люблю вас я по-прежнему, даже, уверяю вас, больше прежнего, милая, милая Бабет. — На последних словах голос Фикке дрогнул. Она подумала о близкой разлуке.
Но все-таки скрытность Фикке отдалила ее от Бабет. Между ними появилась натянутость. Сглаживала их изменившиеся отношения только суета в доме, вызванная сборами к отъезду. Кайн должна была ехать в качестве статс-дамы Иоганны Елизаветы. Это определенное и почетное положение очень льстило ее самолюбию, но пока ей более чем когда-либо приходилось уметь все: она и укладывала вещи, и штопала, и наскоро шила что-то новое, и приводила в порядок весь дом, сдавая Бабет то, что обыкновенно было на ее попечении.
Гардероб Иоганны Елизаветы оказался более или менее в порядке, но над вещами Фикке пришлось призадуматься. Она так выросла за последнее время, что ей надо было бы сшить все новое. Но для этого не было, прежде всего, времени. Из Берлина и из Петербурга все время приходили письма, торопившие отъезд. Брюммер писал, что императрица в сильном нетерпении и положительно не может дождаться принцессы с дочерью. Да и денег для каких-нибудь основательных затрат в доме, как всегда, не хватало. Десять тысяч, обещанные императрицей, можно было получить только в Берлине из банка. Решили везти Фигхен с тем, что у нее есть.
Набралось немного: три приличных платья, дюжина рубашек, дюжина чулок и дюжина носовых платков. Постельного белья, такого, чтобы стоило везти так далеко, у принцессы не оказалось. Кайн, с той поры как Фикке выросла, все не могла никак выгадать необходимой суммы на новые простыни. Так и поехала принцесса в Россию без своих собственных простыней. Решили, что можно обойтись: мать обещала ей давать свои.
Но все эти недочеты угнетали только Кайн и Бабет. Иоганне Елизавете было совсем не до того, чтобы перебирать белье Фикке. Ее мечты о будущем блеске и величии все разрастались. Думать и говорить она могла только о том, что ждет ее в России. Она то и дело перечитывала письма, изменившие их судьбу. Когда она долго их не видела, все начинало ей казаться сном. У Иоганны Елизаветы совсем закружилась голова.
И Фикке было тоже не до того, чтобы думать, с каким приданым она едет в Россию.
То, что она теперь переживала, было сложно и трудно и захватило ее целиком. Радость боролась в ней с печалью. Она расставалась с близкими. Особенно жалела она маленькую Елизавету. Девочка уже узнавала ее и тянулась к ней ручками, как только она показывалась в детской. И отца было жаль, и Бабет, и Больгагена. Он так и не приехал к ним на Рождество в Цербст. Не приехал, хотя и обещал. На праздниках они получили от него только письмо о том, что он совсем расхворался и очень ослабел за последнее время. Фикке не могла без слез вспомнить милого старика. «Вот кто, наверное бы, порадовался моему счастью, — думала она. — Но рассказать сама я ему все равно бы ничего не могла, потому что дала слово молчать».
Иногда даже и Фрица становилось жаль. Его вместе с маленькой сестрицей на время отъезда матери решили отвезти в Гамбург к бабушке. Даже скучный Цербст представлялся милым Фикке, когда ей казалось, что, быть может, она уже никогда больше не увидит его.
XI
Пятнадцатого января тысяча семьсот сорок четвертого года Фикке с матерью и с отцом были уже в Берлине, откуда на другой же день принцессы должны были ехать в Россию. Христиан Август собирался их проводить до местечка Шведт, где дорога разделялась. Принц должен был ехать на Штеттин, куда его вызывали по делам, а принцессы — через Кенигсберг в Россию. В Берлине остановились, чтобы отдохнуть, получить деньги из банка, сделать кое-какие необходимые покупки и представиться королю.
В знакомой уже дороге до Берлина не было ничего особенно интересного, ничего такого, что могло бы рассеять тяжелое впечатление отъезда. В ушах Фикке так и оставался громкий плач Бабет. В последнюю минуту сердце подсказало ей, что разлука будет вечной. Дядя Иоганн Людвиг, единственно знавший, куда и зачем едет племянница, подарил ей голубую, затканную серебром материю, самую лучшую из всех, которыми славился Цербст. Фикке давно хотелось такую, но в ту минуту, когда она ее получила, радоваться ей она не могла. Глаза у нее совсем распухли от слез. И когда подозревавшая кое-что тетя Августа шепнула, целуя ее, что завидует ей, Фикке даже не сразу поняла, о чем она говорит.
У чугунных ворот замка собралась толпа горожан. Об отъезде не оповещали, но таинственные слухи проникли в город. Слухам не совсем доверяли, но что поездка предполагалась дальняя — это было очевидно. Многим захотелось взглянуть перед разлукой и на принца, и на его супругу, и на дочь их, принцессу Софию Августу Фредерику.
Фикке долго кивала из окна кареты тем, кто остался у чугунных ворот.
В Берлин она приехала совсем измученной.
Как только путешественники вышли из кареты, к ним сейчас же явился посланный с приглашением на завтрак к королю.
— Вот, начинается! — сказала Иоганна Елизавета. — В мой последний приезд мне удалось видеть его величество только мельком. А теперь... когда я ему нужна... О, без меня ему, конечно, не обойтись.
— Я думаю, что ты преувеличиваешь, Иоганна, — осторожно заметил ей муж.
— Нисколько. Фридриху необходима Россия, чтобы иметь перевес в этой войне за австрийское наследство. И вот ты увидишь, что он возложит на меня важное дипломатическое поручение. А Фигхен я думаю не брать во дворец, — вдруг совсем неожиданно докончила она.
— Не брать?.. — Лицо Фикке выразило такое разочарование, что Христиан Август энергично вступился за дочь.
Но Иоганна Елизавета настаивала на своем:
— И в приглашении про Фигхен ничего отдельно не сказано, и король уже видел ее. И как раз сегодня, после дороги, Фигхен особенно неинтересна. Показывать ее в таком виде большому обществу совершенно не стоит. И придворного платья у нее нет. И, наконец, всего лучше ей перед длинной дорогой отдохнуть дома...
— Но ведь и ты утомлена, и тебе предстоит путешествие, — решился напомнить жене Христиан Август. — А еще до завтрака тебе придется ехать в банк и за покупками.
— Обо мне уж говорить нечего, — сказала Иоганна Елизавета. — Королю меня необходимо видеть, и я должна ехать.
Христиан Август, как всегда, уступил жене. Фикке не настаивала. Ей очень хотелось ехать во дворец, но спорить с матерью она не решилась.
Иоганна Елизавета нарядилась в свое самое нарядное платье на больших фижмах и с длинным шлейфом, сделала прическу в виде башни из напудренных волос, а в башмаки на высоких каблуках вставила еще подпорки для придания себе роста и величия.
— Хорошо, если ты поможешь Кайн уложить купленные вещи, — сказала она на прощание провожавшей их Фикке. — Ведь завтра мы уже едем дальше.
Но Фикке не успела еще ни за что приняться, как к ней в комнату вбежала Кайн:
— Королевская карета у подъезда, — объявила она. — Без вас его величество не садится за стол. Все ждут. Надо одеваться. А у вас и придворного платья нет. И ничего не приготовлено.
Ждет сам король!
Кайн с двумя горничными заметалась по комнатам. От неожиданности и гордости у Фикке даже на минуту закружилась голова.
Фридрих Великий ждет! Фикке вспомнилось его лицо, каким она видела его в театре и у королевы. Особенно у королевы. Могла ли тогда она подумать, что он будет ее ждать!
И Фикке покорно подставляла свою голову под горячие щипцы. Кайн постаралась над волосами. Фикке чуть не задохлась, когда она принялась ее пудрить.
Но когда наконец все, что зависело от усердия, было исполнено, Кайн, отойдя на несколько шагов, внимательно и пытливо оглядела Фикке, и лицо ее выразило растерянность и смущение. Для дамы, без которой сам король не хочет садиться за стол, туалет у Фикке был совсем неподходящий.
И когда смущенная и взволнованная Фикке под руку со старшим братом короля, принцем Фердинандом, вошла в столовую, вероятно, все расфранченные кавалеры и дамы подумали то же самое, что и Кайн.
«Как молода! Как скромно одета! И почему именно ей такой почет?»
Никто ничего не понимал. Но как только вошла Фикке, сейчас же заиграла музыка, и все стали рассаживаться по заранее назначенным местам. А принц Фердинанд подвел свою даму к главному столу, за которым сидел сам король.
— Вот наконец и моя дама! — сказал Фридрих и сделал несколько шагов ей навстречу.
Фикке сидела за завтраком рядом с самим королем. И король был совсем другим, чем в театре и у королевы. Он был любезен, очарователен. Говорил со своей дамой о карнавале, о концертах, особенно много о театре и очень обрадовался, когда Фикке сказала, что уже побывала у него в опере. Вероятно, он нашел Фикке очень интересной, потому что, когда она передавала кому-то варенье, он произнес с самой обворожительной улыбкой:
— Примите из рук амуров и граций!
Никогда еще Фикке никто не говорил столько любезного. Это ей льстило, но, несмотря на все любезности, король на этот раз произвел на нее меньшее впечатление, чем в театре и у королевы. Тогда он больше подействовал на ее воображение. А, кроме того, у нее за столом все время было такое чувство, что во всем, что он говорил и делал, он преследовал какую-то цель, что король не просто любезен, а старается ее очаровать.
И после обеда, когда к ней подошел принц Генрих и они стали вдвоем вспоминать брауншвейгский карнавал, ей было гораздо приятнее и веселее.
Но Фридрих был уверен, что маленькая принцесса, которой выпала на долю блестящая судьба, им очарована и будет счастлива делать ему угодное.
Вечером, когда, по обыкновению, он раскрыл свой дневник, чтобы занести в него свои «королевские мысли», он, как всегда уверенный в себе, записал:
«Из всех соседей Пруссии Русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная: она сильна, она близка. Будущие правители Пруссии также должны будут искать дружбы этих варваров».
И дальше прибавил:
«Российская великая княгиня, выросшая и вскормленная на прусской земле, обязанная своим счастьем королю, не может не служить ему из благодарности».
Но на этот раз умный и проницательный Фридрих ошибся. Маленькая принцесса стала его врагом на всю жизнь, как только поняла, что он враг России.
XII
На другой же день путешественники выехали из Берлина в четырех каретах. В одной ехали принцессы и Христиан Август, сопровождавший их до местечка Шведт. Во второй помещалась Кайн с девушками, а в двух остальных — повар и лакеи вместе с багажом.
Погода стояла ужасная: сильный мороз с ветром, но снегу, несмотря на январь месяц, совсем не было. Ехали на колесах по обледеневшей дороге, лошади то и дело скользили и падали.
И на душе у всех членов семьи было невесело. Особенно печалился Христиан Август: он расставался надолго с женой и, может быть, навсегда с любимой дочерью. Заботил его и дальний, тяжелый путь, который предстоял принцессам. Больше чем месяц они должны были пробыть в дороге.
Прощание в гостинице вышло очень тяжелым. Принц крепился, но Фикке плакала навзрыд.
— Прощай, Фикке, — говорил прерывающимся от волнения голосом отец, целуя ее. — Помни, что ты была радостью моей жизни. Тяжело отпускать тебя в чужую страну, к чужим людям. Очень уж ты молода и неопытна. И вот чтобы хоть сколько-нибудь облегчить тебе трудность новой жизни, я написал небольшое наставление. Я бы хотел, чтобы тебе дозволили сохранить лютеранскую веру. Кроме того, там говорится, как ты должна себя держать относительно императрицы, твоего будущего супруга и приближенных. Постарайся всевозможною нежностью и заботою заслужить доверие и любовь государыни и великого князя. Вручаю это подробно изложенное мной наставление, эту pro memoria, над которой я трудился несколько ночей, твоей матери. Сообразно ему, она будет руководить тобою и по временам присылать мне отчет.
— Экипажи ее сиятельства графини Рейнбок поданы, — раздался в дверях почтительный голос хозяина гостиницы.
Принцессы ехали с подорожной, в которой от имени короля предписывалось не задерживать отпуском почтовых лошадей графиню Рейнбок с дочерью. Все должностные лица Шведта хлопотали, чтобы ни на минуту не задержать знатных путешественниц, которые находились под покровительством самого короля.
Все было готово гораздо раньше, чем путешественники могли надеяться.
Графиня Рейнбок! Это странное, чужое имя заставило вздрогнуть Фикке. Графиня Рейнбок! Под этим именем Фигхен вступала на путь к новой жизни. И тихий Штеттин, и скучный Цербст, и все, что было связано с ними, оставалось позади.
Перед Фигхен была далекая, огромная, чужая ей и таинственная Россия.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





