ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна

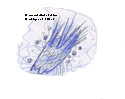

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Манасеина Наталья 1912
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В РОССИИ
I
Путешествие в Россию в те времена было тяжелое и утомительное.
Из Берлина в Петербург шла столбовая дорога, но пользовались ею главным образом только почтари. Россия и после Петра Великого продолжала считаться в Западной Европе страной варваров, снегов и непереносной стужи. Ездили туда очень редко и только в тех случаях, когда это было необходимо.
Торговля тоже шла вяло, и пользовались для нее, конечно, не столбовой дорогой, а морем. Провозить товары водой было куда дешевле и удобней. И немногочисленные путешественники тоже старались ехать водой, предпочитая попадать в холодную и дикую страну в теплое время года. А зима тысяча семьсот сорок четвертого года выдалась к тому же и бесснежная. Стояли сильные морозы, но снега, хотя и Рождество уже прошло, все еще не было.
Принцессам пришлось ехать на колесах. Сносные гостиницы были только в больших городах, в местечках, а в деревнях останавливались на постоялых дворах.
Четыре кареты графини Рейнбок с подорожной от самого короля везде вызывали переполох. В последнее время из-за непогоды проезжих, кроме курьеров и почтарей, на постоялых дворах давно не видали. Знатных дам не знали, как устроить, чем накормить.
На одной из ночевок, когда Иоганна Елизавета с дочерью, усталые, полузамерзшие и голодные, с затекшими от долгого сидения ногами, вышли наконец из кареты, оказалось, что комнаты на постоялом дворе совсем не топлены.
— Прошу покорно извинить! В такую погоду мы никого не ждали... Почтари обыкновенно ночуют вместе с нами в избе, — оправдывался хозяин.
— Господи! Не замерзать же нам! — закричала с отчаянием Кайн, статс-дама графини Рейнбок. — Сейчас же натопите комнату! У нас подорожная от самого короля! Его величество строго предписывает всем властям Померании и Пруссии следить за тем, чтобы графине Рейнбок повсюду оказывали почет и уважение.
Растерявшийся от крика и от имени короля хозяин гостиницы сам побежал за дровами. Сбежалась вся семья, чтобы помочь ему затопить печку.
Иоганна Елизавета и Фигхен неподвижно сидели на стульях. Ждали. Снимать шубы и теплые капоры им не приходило в голову: при дыхании был виден пар. А Кайн бегала по комнате, заглядывала в углы, осматривала кровати.
— Боже мой, Боже мой! — не смолкая ни на минуту, раздавались ее возгласы. — Матрацы как доска, и все как лед. Нет, положительно, в той комнате невозможно оставаться. А это еще что?
Из только что растопленной наконец печки черными клубами повалил дым.
— Скорей ведите нас в другую комнату! Здесь мы задохнемся, — молили женщины.
— Прошу простить, но там еще хуже, — заикаясь от волнения и смущения, говорил растерявшийся хозяин, направляя путешественниц к дверям. — Там совсем летнее помещение. Зимняя комната у меня всего одна, — договорил он это уже во дворе, и последние слова его слились со свистом ветра. — Осмелюсь я предложить вашему сиятельству переночевать у меня в избе. Там тепло, только немного тесновато.
Пришлось согласиться. Ехать ночью все равно было невозможно.
— Слуг ваших я как-нибудь устрою, — успокаивал путешественниц хозяин, отпирая дверь в свое помещение.
Дамы в первую минуту чуть не убежали назад на мороз и на ветер — таким воздухом на них пахнуло и так неприглядно было то, что они увидали.
— Это какой-то свинарник, — ужасалась по-французски Иоганна Елизавета.
В комнате были и дворовая собака, и петух, и куры, и недавно родившийся теленок, и дети: ребенок в колыбели, ребенок на кровати, ребенок на перине, положенной прямо на полу. Четвертый — выглядывал из-за печки.
И, несмотря ни на что, здесь все-таки пришлось остаться. Идти было некуда.
Посреди комнаты поставили деревянную скамью, и на ней уместились все три женщины. Фикке посадили в середину. Кайн, усевшись на одном из концов, вытянула ноги так, что они упирались в печку. Это дало ей устойчивость, а другим возможность дремать, прислонившись друг к другу.
Утром, как только рассвело, подали лошадей.
— Скорей, как можно скорей едем дальше! — заторопилась Иоганна Елизавета. — Может быть, на следующей станции все будет лучше и удобнее. Там мы и умоемся, и приведем в порядок свою одежду.
Поспешно выпив предложенного им хозяйкой парного молока, они надели шубы, капоры и вышли на крыльцо. Лица у них были измученные, глаза едва смотрели после тягостной ночи.
Но уехать «как можно скорей» им не удалось. Несмотря на ранний час, все местные власти с начальником гарнизона, в полной парадной форме, собрались у избы, чтобы приветствовать высоких путешественниц, которыми интересовался сам король. Неожиданно им пришлось выслушать длиннейшую и почтительнейшую приветственную речь. Иоганна Елизавета любила почет, но на этот раз и она была им мало утешена. После речи начались представления. Кайн ворчала, что еще немного, и они все простудятся. Фигхен с трудом удерживалась от смеха.
Парадные мундиры, торжественная речь, почтительные лица — все это так мало подходило к раннему утреннему часу и к убогому крыльцу избы. И у хозяина постоялого двора было такое глупое, растерянное лицо. Да и сами они тоже были хороши: дорожные шубы, капоры. А лица какие! А глаза!
С Фикке от разбиравшего ее смеха сразу соскочил весь сон. Почти бодрая и веселая, впрыгнула она в карету, и опять началась тряска по ухабам, холод, остановки на ужасных постоялых дворах.
— Хоть бы снег выпал! — стонала Кайн. — Ваше высочество совсем побледнели.
— У меня мигрень, — отозвалась слабым, страдальческим голосом Иоганна Елизавета. Она давно сидела с закрытыми глазами, но прислониться к стенке кареты не решалась, потому что голову тогда начинало подбрасывать, и ей становилось хуже.
А Фигхен в это время дышала на замерзшее стекло каретного окна и усердно протирала его носовым платком. Из окошка видна была одна только голая обледеневшая земля, но, оттого что в карете светало, на душе все-таки становилось легче.
— Девушки плачут от холода, — мрачно сообщила на одной из остановок Кайн, перебирая окоченевшими ногами, чтобы хоть как-нибудь согреть их.
— Нам надо торопиться. Мы не можем выжидать погоды, — сказала решительно Иоганна Елизавета.
Но мороз все крепчал, и, когда поезд графини Рейнбок добрался до Штаргарда, дамам пришлось надеть шерстяные маски, чтобы не поморозить лицо.
Эти шерстяные маски, вроде шлемов с отверстиями для глаз и с дырочками на месте носа, надевались так, что прикрывали всю голову, лицо и завязывались под подбородком.
— Душно... шерстит... — жаловалась Фикке. — Я сниму...
— Не хватает, чтобы я довезла тебя с отмороженным носом, — взволновалась Иоганна Елизавета.
Фикке уже стаскивала маску, но при этих словах у нее сразу опустились руки. Когда она думала о том, что ее увидит императрица, она казалась себе дурнушкой, а ей, как никогда, хотелось быть красавицей.
Опять ухабы, тряска и холод: холод в карете, холод на станциях. Иногда принцессы страдали даже от голода.
С ними был повар, но в глухих местечках провизию доставали с трудом. Приходилось довольствоваться тем, что уже было заготовлено для невзыскательных проезжих.
Кайн от всех лишений стала впадать в мрачность.
— Только бы нам живыми добраться до этой России, — вздыхала она, и по лицу ее было видно, что она уже начала предчувствовать.
Ехала она, с той поры как принцессы расстались с Христианом Августом, в одной с ними карете, и укрыться от ее предчувствий было некуда.
Она предчувствовала, что что-нибудь да будет с переправой через Вислу. Переправляться надо было как раз у Мариенвердера.
— Река только что стала... Лед может не выдержать... Это часто случается. Я всегда боялась попасть в полынью, — волновалась Кайн.
Она вскрикивала при каждом толчке и убеждала всех выйти из кареты. Идти пешком ей казалось надежнее.
Переправа прошла благополучно, но это не изменило настроения Кайн. До ночевки нужно было проехать лес, а уже темнело.
— В другой раз мы будем останавливаться засветло, — сказала Иоганна Елизавета, покосившись на окно кареты. У нее тоже было тревожно на душе.
Фикке нагнулась, заглянула в одно окошко, потом в другое. Ничего, кроме толстых стволов по обеим сторонам дороги, а вверху ветер так и треплет черные ветви. И когда кончится этот лес — неизвестно. Стволы, стволы, стволы без конца. Темнеет. Стволы тоже темнеют, сливаются в черноту. Видно, что кучер торопится, едут все быстрее и быстрее.
И вдруг толчок, да такой сильный, что они едва усидели на своих местах. Карета сразу стала. Раздались свистки, крики, женский визг.
Фикке бросилась к окну. С нею к стеклу прильнула и Кайн.
От черных стволов, точно отрываясь от них, выбегали на дорогу серые фигуры с поднятыми огромными дубинами.
— Разбойники! — прошептала Кайн и, обеими руками схватившись за ручку каретной дверцы, изо всей силы притянула ее к себе. — Никого не пущу!
В эту минуту над их головами раздался выстрел, за ним другой, третий...
Кайн только вздрогнула, но ручки не выпустила. Фикке видела, как серые фигуры сразу остановились. Одна из них, размахивая дубиной, бросилась со всех ног назад к стволам. Больше разглядеть она ничего не успела. Иоганна Елизавета, обхватив дочь обеими руками, оттащила ее от окна в глубь кареты.
— Вломятся... убьют... — шептала она, а крики и шум снаружи заглушали ее слова.
Фикке первая пришла в себя, первая узнала знакомые голоса.
— Ваше высочество! Успокойтесь, ваше высочество! Мы их прогнали!
— Наши, это наши! — закричала Фикке. — Пустите же дверь, фрейлейн Кайн!
Кайн с трудом развела затекшие пальцы.
Слуги, кучер и повар, столпившись у дверец кареты, с возбужденными лицами, размахивая руками, говорили наперебой:
— Разбойники, да только ненастоящие... Просто бродяги. Кроме дубин, у них ничего и не было. От первого выстрела все пустились бежать... А теперь надо поскорей ехать. Еще немного, и совсем стемнеет.
После этого происшествия убогая комната постоялого двора показалась уютнее и теплее. Принцессы с наслаждением, не раздеваясь, вытянулись на жестких постелях. Кайн прилегла в этой же комнате на диване. Говорить и жаловаться она больше не могла и только вздыхала.
Было решено, что здесь они проведут два дня. Отдых был им необходим.
Как только принцессы вышли из кареты, им подали уже ожидавшие их письма Христиана Августа.
Фикке прочла письмо отца, адресованное ей, и растрогалась: сколько любви в каждом слове! Сколько заботы! И еще эта pro memoria, которую он дал им при отъезде. Фикке спросила ее у матери. Там по пунктам были расписаны правила ее дальнейшей жизни. Она принялась внимательно читать:
«Ценить волю великого князя, своего господина, отца и монарха, выше всего на свете, никогда не настаивать на своем личном желании...»
Как же это? Никогда ничего не желать?
«Не вызывать шуток и фамильярного обращения, постоянно внушать к себе уважение...»
Не шутить? А она так любила посмеяться!
«Ни с кем в аудиенц-зале наедине не говорить и наблюдать тамошний этикет».
Этот пункт был самый легкий — присмотреться и делать как все. Фикке вздохнула с облегчением. Но дальше пошло опять непонятное:
«Большой игры, в которой могли бы обнаружиться алчность и корысть, избегать и не пристращаться к ней...»
Здесь Фикке остановилась. Она совсем растерялась.
Карты? Но ведь она не играла в карты. И почему это отец написал ей о них?
Она задумалась, но это продолжалось недолго. Фигхен все поняла. Никакого недоумения больше не было на ее лице. Она улыбалась нежной, грустной улыбкой и думала:
«Это все от любви написано. Он только хотел, чтобы мне было все-таки легче без него во всех возможных случаях моей новой жизни... Только этого и хотел он».
Дальше читать она не стала, потому что ей захотелось как можно скорей самой написать отцу, такому любящему, такому заботливому. Ей так хотелось еще раз сказать ему, как она его любит, как ценит все его заботы, советы... Но когда она взялась за письмо, ей захотелось написать его так, чтобы утешить отца сознанием, что его дочь вполне взрослая, хорошо образованная и воспитанная принцесса.
Фигхен старалась выразиться как можно более изысканно. Письмо вышло вроде pro memoria. В красноречии Фикке не уступила отцу, но с орфографией не справилась. В правописании была не сильна. И это ее смущало. Образованная принцесса — и вдруг письмо с ошибками! Она пробовала спрашивать мать в сомнительных случаях. Иоганна Елизавета тоже писала. Ей надо было написать мужу, матери, сестрам. Ни герцогиня-бабушка, ни тетки до сих пор не знали, что случилось с Фикке.
Фигхен своими постоянными вопросами мешала и надоедала матери. Кончилось тем, что Иоганна Елизавета велела ей замолчать. Фигхен пришлось справляться самой.
После многих поправок и переписываний письмо звучало так:
«Ваша светлость! С чувством глубочайшего почтения и с радостью, какую только можно вообразить, получила я письмо, которым ваше высочество удостоили меня уведомить о своем здоровье, о памяти обо мне и своей неизменной ко мне доброте. Умоляю ваше высочество быть уверенным, что ваши советы вечно останутся запечатленными в моем сердце, равно как и семена вашей святой религии останутся в моей душе. Прошу у Господа ниспослать мне силы, необходимые, чтобы удержаться от искушений, которым готовлюсь подвергнуться. Во внимание к молитвам вашего высочества и дорогой моей мамы Господь окажет эту милость, на которую не смели бы надеяться моя молодость и моя слабость. Ваша поддержка мне необходима, и я приложу все старания, чтобы быть ее достойной, равно как и счастья получать добрые вести от дорогого моего папы.
Остаюсь всегда и на всю жизнь неизменно почтительная
София Ав. Принцесса А.-Ц.
Кенигсберг в Пруссии, 29 сего Января 1744».
Кончала это письмо Фикке уже в самый день отъезда. Она очень старалась, но лучше написать не могла.
Из Кенигсберга принцессы выехали уже на санях. За ночь выпало столько снегу, что сразу установился санный путь. Для сокращения пути им посоветовали ехать на Мемель прямиком через залив Куришгоф. Имя короля и здесь подействовало. Впереди знатных путешественниц отправили партию рыбаков, чтобы они своими санями расчищали им путь и пробовали прочность льда.
После мучительной езды на колесах Фикке казалось, что их подхватили крылья, так быстро и легко понеслись они по льду залива. А кругом — только что выпавший снег.
Выглянуло солнце. Всеми цветами радуги вспыхнула снежная белизна и стала рассказывать Фикке прекрасную, с детства любимую сказку про снежную страну.
И там, куда она едет, тоже снега. Снега, о которых она слышала еще от кормилицы Христи.
Христи, Штеттин, Больгаген, Цербст, Бабет, маленькая Елизавета... Все милые, далекие. Но сердце Фикке не плачет о том, что она оставила. Ее ждут в сказочной снежной стране. Печальная, несчастная царевна превратилась в счастливую, гордую царицу. Царица ждет Фигхен в своем дворце. С нею бледный мальчик с большими грустными глазами. Он тоже ждет...
В Мамеле снег опять пропал. Оттепель превратила его в грязь, а потом сразу завернул такой холод, что принцессы замерзали даже в своих шубах.
Прусские владения кончились, а вместе с ними и почтовый тракт. Начиналась Курляндия. Лошадей пришлось доставать у обывателей. Поехали снова на колесах, но на всякий случай к экипажам прикрутили и полозья от саней. Меньше шести лошадей такой отяжелевший экипаж, да еще по плохой дороге вытянуть никак не могли, а таких экипажей у графини Рейнбок было четыре. Содержатели постоялых дворов отказывались доставать столько лошадей.
Курляндцы народ бедный, и нынешняя зима выдалась особенно тяжелая. Много лошадей пропало, а те, которые остались, плохо кормлены и совсем слабы.
Кайн ахала над торчавшими лошадиными ребрами. До какой степени все убого в этой крошечной стране! Она искренне жалела и забитых несчастных людей, и лошадей, но ехать было необходимо. Принцесса-мать изнемогала от усталости. В грязных и холодных помещениях постоялых дворов отдохнуть как следует не было никакой возможности. Принцессы, с той поры как выехали из Пруссии, уже по ночам не раздевались.
Принцесса-дочь, несмотря на утомления и лишения, чувствовала себя, по-видимому, прекрасно. Ее занимало решительно все, и смеялась она при малейшем поводе. Длинный, едва ползущий поезд, с прикрученными, торчащими кверху полозьями, особенно веселил Фикке. Но Кайн и за принцессу-дочь была неспокойна. Ее смущал аппетит Фикке. В дороге он только усилился, а сколько-нибудь приличной еды не было. Иногда, кроме картошки, ничего нельзя было достать. А пиво в одной из гостиниц попалось такое, что Фикке от него расхворалась.
И Кайн, забывая свою жалость, требовала лошадей, грозила королем прусским, объясняла, что графиня Рейнбок едет в Россию по приглашению самой императрицы.
Население местечек вздыхало с облегчением, когда поезд такой невиданно знатной дамы наконец трогался в путь.
— Скорей, как можно скорей выбраться из этой несчастной страны, — говорила Иоганна Елизавета. — И в столице их, Митаве, я не хочу задерживаться. Если бы еще герцог там был, но последний курляндский герцог Бирон, главный советник покойной императрицы Анны Иоанновны, сослан в Сибирь. Нам нечего делать в этом скучном и неинтересном городе.
Но вышло совсем не так, как предполагала Иоганна Елизавета. Как только они добрались до Митавы и расположились в занятой ими комнате гостиницы, к ним явился начальник почетного конвоя, высланного из Риги для встречи их высочеств принцесс Ангальт-Цербстских.
Графиня Рейнбок уже не существовала. Полковник на ломаном немецком языке приветствовал высоких гостей и близких родственниц своей государыни. Чужой язык его плохо слушался, но открытое добродушное лицо старого служаки было красноречивее всяких слов.
Он сказал принцессам, что в Риге уже целую неделю ждут их приезда, но, чтобы встреча вышла достойной высокого положения знатных путешественниц, он просит их остановиться в Митаве. Надо было успеть уведомить об их приезде рижского губернатора.
Принцессы решили ждать, а Иоганна Елизавета, услышав о торжественной встрече, пришла в такое прекрасное настроение, что сразу забыла усталость, и предложила полковнику позаботиться о том, чтобы она с дочерью не умерла со скуки в этом ужасном городе.
Очень скоро, благодаря ее веселости и умению обращаться с людьми, полковник совсем перестал смущаться. Раз навсегда извинившись за свой плохой немецкий язык, он, уже не стесняясь, рассказывал принцессам и о Петре Великом, при котором он начал свою военную службу, и о новой государыне, его дочери.
Фигхен не отрываясь слушала полковника. Рассказывал он очень интересно, но в иных местах, особенно когда увлекался, принцессам становилось трудно следить за его речью.
— Как я жалею, что не знаю вашего языка, — сказала, прощаясь с ним, Фикке. — Только сейчас мне пришло в голову, как это будет тяжело слышать и ничего не понимать.
На другой день — это было тридцатого января — в сопровождении почетного конвоя принцессы тронулись в Ригу, до которой оставалось всего семь миль. На этот раз полозья больше не торчали за экипажами. Ночью выпал снег, и можно было ехать в санях.
— И лошадей дали сносных, — радовалась Кайн.
— Я надеюсь, что в Риге нас устроят как надобно, что мы отдохнем перед Петербургом, — прибавила Иоганна Елизавета. — Я мечтаю о хорошей постели, о теплой комнате. Полковник говорил про торжественную встречу. Меня занимает, как это все будет.
Вот наконец и Россия!
В первый раз за всю дорогу сердце Фикке тревожно сжалось при этой мысли.
Чужая страна, чужие люди, чужой, непонятный язык. И сама она всем чужая. Припомнилась ей Шарлотта Брауншвейгская. А вдруг и с нею будет то же, что с этой несчастной принцессой? Одинокая, никем не любимая...
Но Фигхен не могла представить себя несчастной. Она так хотела счастья, так мечтала именно о том, что ей посылала судьба! Несчастья быть не могло.
«И ведь я другая, совсем другая, чем Шарлотта Брауншвейгская, — думала она. — Принцесса Шарлотта даже их языку не могла научиться. А я неужели не научусь?»
Но неожиданная остановка прервала нить ее мыслей. Карета остановилась на берегу Даугавы. На противоположном берегу раскинулась Рига.
Кто-то снаружи быстро распахнул каретную дверцу. Перед принцессами стоял один из самых изящных и образованных царедворцев, бывший посол в Лондоне, а теперь камергер государыни, Нарышкин.
Огромный, драгоценный меховой воротник на его плечах прежде всего бросился Фигхен в глаза. «Вот они, русские меха!»
Из-под распахнутой на груди собольей шубы виднелись драгоценные кружева, украшавшие атласный камзол, блестели на груди бриллиантовые пуговицы и орден, усыпанный каменьями, блестела драгоценная рукоятка шпаги, которую придерживала рука, затянутая в белую лайковую перчатку.
А в морозном воздухе громко и торжественно, на самом прекрасном французском языке раздавались слова:
— От имени ее величества государыни императрицы послан я приветствовать ее светлость, владетельную княгиню Ангальт-Цербстскую с дочерью. Государыня поздравляет принцесс с благополучным прибытием в пределы России и ждет их в своем любимом городе — Москве.
Дальше Нарышкин прибавил, что государыня желает, чтобы ее высокие гостьи, прежде чем ехать к ней, остановились на два дня в Петербурге, как для отдыха, так и «для приготовления платьев такого покроя, какой употребляется в стране».
В заключение всего Нарышкин передал Иоганне Елизавете письмо от Брюммера и попросил принцесс пересесть в ожидавшую их придворную золоченую карету.
— Вот как торжественно нас принимают! — произнесла Иоганна Елизавета, когда карета тронулась дальше.
— И как все кругом роскошно! — прибавила Кайн, смотря на обитые штофом и позументом стенки. — Какая драгоценная шуба на королевском после!
— Брюммер пишет, что ее величество не может дождаться нас, — сообщила Иоганна Елизавета, пробегая глазами письмо. — Она ежедневно осведомляется, скоро ли мы будем в Москве. И еще здесь написано, что мой племянник Петр Ульрих, который теперь называется, по обычаю русских, Петром Федоровичем, пока ничего еще не знает о нашем приезде. Раньше времени его не хотят волновать. Скажут ему только в последнюю минуту.
Здесь Фикке собралась что-то спросить, но не успела.
Карета опять остановилась. Все думали, что это уже Рига, но к Риге только еще подъезжали, а у въезда в город знатных путешественниц встречали губернатор, офицерство, депутаты от дворян и толпа народа. Не выходя из кареты, принцессы слушали приветствия. Нарышкин им кого-то представлял, чьи-то головы почтительно и низко склонялись перед ними, кто-то подходил к их руке. А из города неслась пушечная пальба, приветствовавшая вступление высоких гостей в пределы Российской империи.
Все, что было дальше, было так неожиданно и так великолепно, что походило на самый очаровательный сон. Даже смелые мечты Иоганны Елизаветы никогда не рисовали ей той пышности, блеска и торжества, среди которых она вдруг очутилась.
После тринадцатидневного скитания по постоялым дворам, после тряски, холода, иногда даже и голода принцесса попала в какое-то волшебное царство.
Вокруг ее золоченой кареты скакали гоф-курьеры и кирасиры полка великого князя, у подъезда ее встретил почетный караул. Часовые в сенях, часовые у каждой двери внутренних покоев. Звуки труб и литавр, барабанный бой. Всюду золото, бархат, шелк, серебро. Низкие поклоны, почтительные лица, придворные реверансы...
Камергер Нарышкин от имени императрицы подносит прицессам драгоценные собольи шубы, собольи палантины и меховые, крытые парчой полости, чтобы накрываться в санях.
Торжественный ужин... Музыка... Тосты... Блестящие мундиры военных.
Кайн, как настоящая статс-дама, принимает приезжающих, разряженных городских дам и провожает их к ее высочеству владетельной принцессе. Вид у нее самый гордый, даже слишком гордый. Фикке не ожидала, что Кайн может быть такой торжественной. И все это у нее оттого, что она всеми силами хочет подчеркнуть и выставить в чужой стране высокое значение Ангальт-Цербстского дома.
Статс-дама при таком дворе обязана держаться с достоинством. И Кайн высоко поднимает голову на длинной сухой шее. Сознание, что наконец-то членам Цербстской семьи оказывают подобающий им почет, прогоняет всякую усталость после ужасной дороги.
«У меня от всего этого просто кружится голова, — в тот же день писала Иоганна Елизавета своему супругу. — Все происходит здесь с таким величием, почетом и роскошью, что кажется каким-то сном. Мне представляется, что я нахожусь в свите ее императорского величества или какой-нибудь великой монархини. Мне и в голову не приходит, что все это для меня, для бедной, для которой в других местах едва били в барабаны, а в иных и того не делали».
Далее принцесса-мать прибавляла:
«Наша дочь так бодра и весела, что я только дивлюсь».
Иоганна Елизавета мало знала свою дочь и потому могла только удивляться.
Перед тем, что происходило теперь вокруг нее, все прошлое казалось Фикке тусклым сном, и, радостно возбужденная, она всем своим существом принимала новую жизнь, как единственную для нее настоящую. Трубы, литавры, барабаны — вся эта музыка, оглушившая ее мать, весь блеск и великолепие, ослепившие Иоганну Елизавету, нисколько не поражали ее дочь.
Россия с самого раннего детства представлялась ей волшебной страной. Никаким великолепием не могла эта страна удивить Фигхен. Как от сказки, ждала она от нее всего чудесного и прекрасного.
...Принцесса с матерью покидали Ригу. Весь город провожал высоких гостей. Под пальбу пушек, под звук труб, литавр и под барабанный бой принцессы сели в ожидавшие их у подъезда присланные за ними из Петербурга императорские сани.
Сани были такие длинные, что принцессы могли лежать в них, вытянувшись во весь рост. Для этого положены были шелковые матрацы, набитые лебяжьим пухом. Внутри сани обиты соболями. Пространство между лошадьми и кузовом было такое большое, что сани не встряхивало даже на ухабах, как объяснил сопровождавший принцесс Нарышкин.
Десять прекрасных придворных лошадей, запряженных парами, подхватили сани, и при восторженных криках толпы принцессы тронулись в путь. Впереди их мчался эскадрон Кирасирского его высочества полка, а за ними — отряд Лифляндского полка, рижский губернатор и комендант, сани девицы Кайн, сани камергера Нарышкина, ряд саней с лицами свиты, представителями дворянства, магистрата и офицерами.
Никогда еще принцессы не ездили с такой пышностью и с такой быстротой. Вскоре они обедали уже в Дерпте. В Нарву прибыли поздно вечером. Город встретил их иллюминацией.
Из Нарвы принцессы выехали в полдень и на другой же день прибыли в Петербург.
II
Морозно и солнечно.
Среди сверкающих белых снегов по направлению от Нарвы к Петербургу мчатся во весь опор ярко-красные сани с серебряной отделкой. В санях, закутанные в великолепные собольи шубы, под парчовой, подбитой соболями полостью, сидят Цербстские принцессы — мать и дочь. Напротив них в тех же санях камергер Нарышкин, статс-дама Кайн. Впереди саней скачут кирасиры. Этот почетный конвой выслан наследником — это его полк. За санями светский поезд: здесь и метрдотель, и кондитер, и повар с поварятами, и дворецкий с помощниками, и лакеи, и курьер.
В красных санях не смолкает болтовня, слышатся шутки, веселый смех. Иоганна Елизавета оживлена и остроумна.
Торжественные встречи приятно взволновали ее. Она мечтает о блестящем приеме в Петербурге, Москве, и эти мечты, о которых она не говорит, оживляют каждое ее самое простое слово.
Кайн почти с Риги не раскрывает рта. Разговор идет на французском языке, а она никакого другого, кроме своего немецкого, не знает. Но она не скучает. И кирасиры, и блестящая свита, и красные с серебром сани, и драгоценные шубы, и парчовая полость, и шестерка запряженных цугом лошадей — все это восхищает и умиляет ее.
Наконец-то принцессы, «ее принцессы», окружены подобающим им почетом! И как идут ее высочеству принцессе-матери эти драгоценные меха! И принцесса Фредерика очаровательнее, чем когда-либо. Как разрумянились у нее щеки! Как потемнели голубые глаза! От румянца ли на щеках или от близости снега, которого так много вокруг, но они кажутся синими, почти такими же темно-синими, как бархат ее дорожного капора.
По белой пустыне несутся красные сани. Из-под лошадиных копыт отлетают снежные комья. Серебряная снежная пыль окутала поезд. Дорога отличная, но иногда попадаются и ухабы.
Сани неожиданно ныряют. Иоганна Елизавета вскрикивает. Кайн хватается за край саней. Нарышкин успокаивает обеих дам. О третьей ему не приходится беспокоиться. Если Фикке и вскрикивает, то это только от удовольствия. Чувствует она себя отлично, и ей очень весело. Ее веселит все: и ухабы, и комья снега. Один комок попал в самое лицо, залепил глаза, нос... Фикке только смеется. Говорить ей совсем не хочется, да если бы и захотелось — все равно нельзя, некуда слова вставить.
Иоганна Елизавета закидала вопросами Нарышкина. Он не успевает отвечать ей одной.
Почему кругом такая пустыня? Петербург через час, а не видно никакого жилья! Трудно поверить, что подъезжают к столице. И когда же наконец они увидят бояр: бородатых людей в тяжелых шапках, унизанных драгоценными камнями, и в шубах до самой земли? Говорят, эти бояре запирают своих дочерей и жен? Держат женщин точно в темницах?
Нарышкин человек светский, бывал за границей, по-французски говорит не хуже самой Иоганны Елизаветы, но и он растерялся. Не знает, с чего начать.
— Со времени Петра Великого у нас уже нет бояр, ваше высочество, а есть, как и повсюду во всей Европе, генералы, генерал-аншефы.
Отец Нарышкина был одним из последних стольников старого времени, пожалованным Петром в камергеры. Близкий родственник царя по матери, Наталии Кирилловны Нарышкиной, он усердно помогал ему в деле проведения всяких новшеств. В словах сына старого боярина слышится, как он гордится тем, что Россия догоняет Европу. Но Иоганна Елизавета разочарована:
— Ах, как жаль! Генералы — это так обыкновенно. А мне очень хотелось посмотреть на бояр.
— И женщин теперь не запирают, — продолжал Нарышкин. — Со времени Петра Великого они везде бывают свободно.
Иоганна Елизавета как будто и этим не совсем довольна. Это тоже обыкновенно.
Настроение у нее портится. Однообразие и безлюдье ее утомили. Ей хочется шума, блеска. Трубы, литавры, барабанный бой, пушечная пальба, праздничные огни... И все для нее. Склоненные перед нею головы, низкие, почтительные поклоны... Она не успела насладиться всем этим. Скрип полозьев по снегу ее раздражает.
— И почему так пустынно? — настойчиво допрашивает она.
Нарышкин ей напоминает, что Петербург построен среди болот и непроходимых лесов. Сорок лет тому назад на месте города почти не было человеческого жилья.
— Только Петр Великий был в силах сделать здесь морскую резиденцию, о которой он мечтал. Но для того чтобы осуществить свою мечту, он сам работал с плотниками и каменщиками, сам осушал болота, проводил каналы, отводил воду.
Нарышкин увлекся. Он всегда увлекается, когда говорит о великом царе. Но вдруг он замолчал.
— Я боюсь, что после Берлина и Парижа Петербург не удовлетворит вас, ваше высочество. — В голосе Нарышкина слышится тревога и сомнение.
— Особенно теперь, когда вы увидите город в невыгодном свете. Вслед за государыней из него постепенно выезжает вся знать, все должностные лица, все, кто имеет хоть какое-нибудь отношение ко двору.
— Но я не задержусь в Петербурге. Отдохнем, займемся туалетами и сейчас же в Москву, к государыне, — отвечает Иоганна Елизавета. — Пустыня! — еще раз повторяет она, оглядываясь по сторонам.
— Снежное царство! — не громко, точно про себя, говорит Фикке.
Нарышкин быстро оборачивается к ней.
Молоденькая принцесса точно постучалась этими словами ему в сердце.
«И как мила», — думает он и любуется ее синими глазами и всем немного смущенным лицом.
— Как вы это хорошо сказали, ваше высочество! — с восторгом говорит он и повторяет: — Снежное царство.
«Не так, конечно, красива, как мать, но, пожалуй, даже лучше ее... Значительнее...» — думает он и, обернувшись к принцессе-матери, говорит:
— Сейчас Петербург!
Фикке вздрогнула и насторожилась.
Окончен путь. Она в царстве своей царевны. Но царевна еще далеко. Если бы ее воля, Фикке так и понеслась бы дальше в этих красных санях до самой Москвы. Скорее к ней! Она ждет. И наследник тоже ждет. Нарышкин рассказал, что ему уже сообщили об их приезде. Фикке вспоминается запуганный, печальный мальчик. Да, таким он был тогда в Эйтине. Теперь он не может быть таким. Наследник престола! Как он, должно быть, вырос, как изменился!.. Вот и Петербург!
Сани несутся мимо елового леска на месте нынешней Лиговки, мимо занесенных снегом огородов. Попадаются бревенчатые избушки вперемежку с каменными строениями. Повсюду серебряные от инея сады.
— Невская перспектива, — объясняет Нарышкин.
Прямая широкая улица, в два ряда обсаженная заиндевевшими липами и березами.
Здесь людно. Время праздничное: воскресенье и к тому же еще как раз масленица. Полдень. Люди отобедали, принарядились по-праздничному, спешат на Царицын луг. Там балаганы, игры, качели.
Диковинный поезд вызывает переполох. Прохожие бросаются с улицы на бревенчатый тротуар. Верховые и сани летят во весь дух. Того и гляди, кого-нибудь раздавят. Извозчики с номерными бляхами на спинах дергают своих кляч, чтобы поспеть свернуть в сторону. Кто-то с разбегу налетел на зазевавшуюся пирожницу, опрокинул лоток: пироги с печенкой и перцем раскатились во все стороны. Спичечник засмотрелся — рассыпал товар. Сбитенщик с медной бляхой прислонился к фонарю, раскрыл рот. Продавец лубочных картинок застыл на месте, смотрит вслед уже промчавшимся саням.
Фонтанка, или Фонтанная, как тогда говорили, считалась границей города. Здесь у приезжих обыкновенно смотрели паспорта, но императорские сани, конечно, никому не пришло в голову задерживать.
Они мчались безостановочно. Миновали караульную будку у деревянного Аничкова моста.
— А это что же за домики выглядывают из-за деревьев? — спросила Иоганна Елизавета.
— Это дачи, — объяснил Нарышкин. — За ними Аничковская слобода. От нее и мост, по которому мы только что проехали, называется Аничковым.
За дачами и садами потянулись городские дома. Попадались лавки с модными товарами.
— У нас торгуют немцы, но теперь больше всего французы, — сказал Нарышкин. — Все французское в такой моде, что торговцы едва успевают подвозить товары... А вот сейчас и Зимний дворец.
Зимний дворец тогдашнего времени, хотя и отстроенный знаменитым итальянцем-художником Растрелли, не отличался особенной красотой. Начат он был при Петре Великом, ценившем в постройках, главным образом, простоту и симметричность. Строили медленно. Не торопились. Царь жил у церкви Спаса на Петербургской стороне, в маленьком домике из двух комнат. Для его рабочей жизни ему было достаточно его более чем скромного помещения. Царица жила через Неву от него в Летнем дворце.
Дворец после Петра Великого так и остался незаконченным. Заканчивали его уже при Анне Иоанновне. Снаружи его не изменили. Он так и остался квадратом под железной крышей. К квадрату приделали только три балкона: один на Неву, другой на Адмиралтейство, третий на большой луг. Однообразие каменных стен скрасили двадцатью восемью массивными медными драконами на верху водосточных труб. Каждый дракон весил по три с половиной пуда. К лестнице из белого камня поставили два каменных столба и деревянные балясины с поручнями столярной работы. Вот и все, что было сделано для наружного украшения дворца. Все старания ушли на его внутреннюю отделку. Особенно старались над устройством двух средних этажей, где помещались приемные покои и жилые комнаты государыни. Уже при Анне Иоанновне дворец поражал роскошью обстановки, а при Елизавете, после ее распоряжения «работать с поспешанием» над новой отделкой, дворец по великолепию мог сравниться только с прославленным на весь свет французским Версалем.
Для наружной отделки сделали опять очень мало. Поставили только на верху дворца две вызолоченные фигуры, держащие в руках золоченый вензель императрицы.
Только эти ярко блестевшие в полуденном солнце фигуры и бросились в глаза принцессам, когда сани их подъезжали ко дворцу. Больше ничего они рассмотреть не успели. Их оглушила пушечная пальба. Палили и с Адмиралтейства, и с крепости.
Утомленные с дороги, озябшие и голодные, они сразу попали в ожидавшую их у подъезда чужую толпу.
Начались приветствия, представления. Опомнились они только в отведенных им комнатах.
Но отдохнуть как следует, в тишине и теплоте обитых голубым и розовым штофом покоев, им не пришлось.
Надо было переодеться и выйти в зал, где собрались все желавшие быть представленными приезжим принцессам.
Шелк, бархат, штоф, серебро, золото — повсюду, и на стенах, и на мебели, и на людях. Солнце переливается в хрустале огромной люстры, или паникадила, как тогда ее называли. На стенах приемного зала портреты во весь рост Петра Великого, Екатерины, Анны Иоанновны. Огромные зеркала во всю стену отражают сановников в орденах, звездах и лентах.
Схлынула толпа.
Несколько человек приглашены Нарышкиным к столу принцесс.
Прусский посланник, барон Мардефельд, сидит рядом с Иоганной Елизаветой. Вид у него сияющий. Невеста прислана его королем. Союз с Россией, которого он так долго и тщетно добивался, кажется ему обеспеченным. Мардефельду рисуются награды и почести от короля, первенствующее место при русском дворе.
Мардефельд шутит, смеется. Его поддерживает французский посол, маркиз де ла Шетарди, один из самых блестящих кавалеров восемнадцатого века. Его прическам, костюмам и манерам подражают все щеголи при русском дворе.
Маркиза послали в Россию с поручением свергнуть немецкую партию и постараться, чтобы в невесты наследнику выбрали французскую принцессу.
Выбрали немецкую, но Шетарди, как настоящий француз, быстро примиряется с неудачей и не только примиряется, а старается получить как можно больше приятного и полезного от нового положения дел.
Обед прекрасный — Иоганна Елизавета блестящая собеседница, а кроме того, она старая знакомая маркиза. Он встречал ее и в Париже, и в Берлине. Они вспоминают веселые праздники в Версале, концерты, маскарады, иллюминации.
Фикке посадили рядом с обер-гофмаршалом графом Бестужевым.
Это уже пожилой боевой генерал, один из сподвижников Петра Великого, родной брат всесильного канцлера императрицы графа Алексея Петровича Бестужева.
Сам канцлер уже в Москве. Обер-гофмаршал задержан в Петербурге. Неожиданно его назначили послом в Швецию. Бестужев сразу почувствовал, что он в опале. Но за что — понял только теперь, когда его вдруг пригласили обедать с принцессами.
Так вот невеста для великого князя! Дочь прусского генерала, который служит ненавистному Фридриху. Ничего, кроме беды, от этого брака Бестужев не ждет. Он, как и брат его, — оба уверены, что прусский король ненавидит Россию, презирает русских, считает их варварами. Его раздражает, что об этой варварской стране заговорили как о могущественной державе, что ее считают сильнее даже самой прославленной Пруссии. Фридрих завидует России. Он рад был бы раздавить ее, а между тем заискивает перед императрицей, льстит ей, всячески угождает. И все почему? Только потому, что без России ему не справиться с Австрией. И он лицемерит, старается обойти государыню и ее советников. Теперь вот прислал этих принцесс!
Синеглазая девочка раздражает старика. Дочь прусского генерала! Старик должен сделать над собой усилие, чтобы заговорить со своей дамой:
— Долгая поездка, по всей вероятности, сильно утомила ваше высочество?
Фикке сразу встрепенулась. Обрадовалась, что наконец-то суровый старик заговорил.
— Устала? Нисколько. И ехать было так интересно, и Россия такая чудесная страна! Мне кажется, что я попала в снежное царство, — говорит она. — Никогда не представляла себе, что у вас так хорошо!
— Да вы и про Россию, ваше высочество, по всей вероятности, в первый раз услыхали, только как вас сюда повезли? — насмешливо вставляет старик. Слова грубоватые, и глаза старика так недобро смотрят на Фикке из-под седых насупленных бровей.
Но Фикке не из пугливых.
Старик ошибается. Надо ему доказать, что он не прав.
И она ему рассказывает о том, что еще маленькой девочкой ей много приходилось слышать о России. И про Петра Великого ей говорили. При этом имени глаза старика сразу становятся добрее:
— Что же вы слышали о нашем великом императоре?
— Очень много интересного. Мне говорили, как он работал, как просто жил, просто одевался, как по пояс в воде вел своих солдат через реку. Рассказывали, как он под чужим именем ездил в Европу, чтобы поучиться всему, что там есть хорошего. И как встретился с принцессой Шарлоттой...
— Я был в свите царя как раз в это время, — не выдерживает Бестужев.
— Были?
И Бестужев, и Фикке уже другими глазами смотрят друг на друга. Старик забыл, что перед ним дочь прусского генерала. Увлекся, рассказывает про Петра, про его дочь, теперешнюю государыню Елизавету.
Фикке слушает. Суровый старик чем-то напомнил ей Больгагена. А на противоположном конце стола маркиз Шетарди, указывая глазами Иоганне Елизавете на Бестужева, говорит ей:
— Запомните, ваше высочество, что Бестужевы, оба брата, — это главные враги ваши и вашей дочери. Обергофмаршал, правда, не страшен, вся сила в канцлере. Он и умен, и хитер, и необходим государыне.
— Да, без него обойтись мудрено. Он единственный из всех приближенных обладает даром слова, — вмешивается в разговор барон Мардефельд. — При дворе обновленной России все-таки мало образованных людей, — язвительно добавляет он.
— И потому он всесилен, непобедим даже, — вставляет Шетарди.
— Но вместе нам, может быть, и удалось бы одолеть этого на вид несокрушимого врага? — Мардефельд остановился и выжидательно смотрит на Шетарди.
— О, я не сомневаюсь, что мы раздавим его, если только ее высочество окажет нам хоть маленькую поддержку, — отвечает маркиз, с любезной улыбкой склонившись в сторону Иоганны Елизаветы.
— Я охотно обещаю вам свою поддержку, — без всякого колебания соглашается польщенная принцесса.
«Вот, уже начинается, — думает она. — Мне предлагают принять участие в большой политической интриге». Ей представляется, что она будет иметь влияние при русском дворе, почет при прусском.
— Король уже дал мне кое-какие указания в этом направлении, — сдерживая радостное волнение, с достоинством продолжает она. — Я обещаю вам сделать все возможное...
Аббатство для сестры кажется ей уже обеспеченным. Для того чтобы свергнуть своего главного врага Бестужева, Фридрих ничего не пожалеет. Христиан Август тоже что-нибудь получит за это, и герцогиня-мать, и братья...
III
После обеда все идут осматривать дворец.
Принцессам показывают тронный зал. Под балдахином из красного бархата, горностая и парчи стоит на возвышении резной трон государыни. К нему ведет несколько ступеней. Здесь сидит государыня во время торжественных приемов. Из тронного зала идут в галерею. Из зеркальных окон видна покрытая льдом Нева, за нею крепость, как будто тоже сложенная из льда и снега.
В галерею собираются на вечера, или, как их называют, куртаги. Здесь устраиваются концерты, даются небольшие театральные представления, ставятся балеты. Для настоящих представлений есть во дворце особая театральная палата. Галерея только для куртагов. В ней расставляются пальмовые ломберные столики, обитые зеленым бархатом. Те, кто постарше, играют в карты, молодежь танцует, забавляется разными играми.
— Перед отъездом в Москву сам великий князь играл здесь на скрипке, — сообщил Нарышкин и заговорил о необыкновенной музыкальности наследника.
— А как идут его занятия? — перебила Нарышкина Иоганна Елизавета. — Мне помнится, что в детстве учение ему не давалось.
— Его высочество много труда положил на изучение нашего языка, но еще недавно он тяжело хворал, и ему на долгое время запрещены были всякие занятия, — уклончиво ответил Нарышкин и сейчас же перевел разговор на другое — предложил принцессам заглянуть в комнаты для приема гостей.
Таких комнат было семь. Все они выходили на галерею. Во всех были штофные обои, золоченые карнизы, огромные зеркала в золоченых рамах. Одна комната предназначалась для игры в шахматы, другая для бильярда. Бильярд выписан из Англии.
— Вот в этой комнате играла в карты Анна Леопольдовна в последний вечер своего правления,— сказал Шетарди.
— А где же ее покои, где покои младенца императора? — заинтересовалась Иоганна Елизавета.
— Все следы этого недолгого царствования уничтожены, — ответил Нарышкин. — Государыня не любит, чтобы что-то напоминало ей и правительницу, и ее сына. Ей тяжело это.
Нарышкин проговорил все это так, что любопытная принцесса удержалась от дальнейших расспросов. Да и время для них было неподходящее. В эту минуту принцесс попросили накинуть шубы, чтобы выйти во двор — им было приготовлено небольшое развлечение. С Фонтанной, где помещался так называемый слоновый двор, привели четырнадцать слонов, присланных государыне в подарок шахом персидским.
Как только принцессы показались на подъезде, все четырнадцать слонов по знаку дрессировщика-араба опустились на колени. А когда принцессы подошли поближе, по знаку того же одетого в белое одеяние араба все слоны, как один, поднялись с коленей и замерли в почтительных позах со склоненными головами. Так обыкновенно приветствовали они государыню, для которой их часто вызывали во двор Зимнего дворца.
Затем араб заставил слонов показать все то, чему они были обучены. И в то время как они делали «лестницу», снимали шапки с сопровождавших их служителей-армян, поднимали их на воздух и сплетались хоботами, изображая различные фигуры, Нарышкин рассказывал увлеченной представлением Фикке о том, как живут эти слоны.
Государыня их любит, и для них делают все, чтобы они чувствовали себя хорошо на чужбине. На Фонтанной у них есть особое помещение. Летом прямо в Фонтанку ставят сходни, и слоны спускаются по ним для купания. Кормят их сорочинским пшеном, пшеничной мукой, сахаром, пряностями. Дают виноградное вино, даже водку. Для моциона водят по улицам, и для этих прогулок пришлось укрепить Аничков мост, иначе он бы не выдержал их тяжести.
Слоны очень позабавили гостей. Освеженные морозным воздухом, вернулись принцессы во дворец. Им хотелось отдохнуть, и они прошли в свои комнаты. Здесь их встретила сильно возбужденная Кайн:
— У государыни пятнадцать тысяч платьев! Никогда не надевает она ни одного по два раза. А шелковых чулок у нее два огромных сундука. Всевозможных лент тысячи аршин, тысячи разных туфель, башмаков. Мне кажется, что фрейлин смешит наш ничтожный багаж.
— Но в туалетах я и не собираюсь соперничать с государыней России, милая Кайн, — попробовала отшутиться хорошо настроенная Иоганна Елизавета.
Но Кайн не была расположена шутить:
— Здесь, в этой стране, все в роскоши подражают государыне. Каждое платье придворной дамы — это целое состояние. Золото, серебро, драгоценные камни, бриллианты... Откуда мы возьмем все это? Ах, мне делается просто дурно при мысли, что среди всей этой роскоши принцессы одного из достойнейших европейских домов не будут на высоте положения.
— Не волнуйтесь так, милая Кайн, — остановила свою статс-даму Иоганна Елизавета. — Государыня поручила сказать мне, чтобы я не стеснялась в расходах. Платит за все она.
Это успокоило Кайн, но не совсем:
— Надо иметь время, чтобы заказать туалеты. Как можно скорей займитесь с портными и портнихами. Они давно ожидают вас. И закажите всего побольше, я сию минуту пошлю вам главную мастерицу.
Кайн бросилась к дверям, но Иоганна Елизавета ее остановила:
— Прежде всего откройте окошко, чтобы освежить комнаты. — Иоганна Елизавета почти с ужасом посмотрела назад. За ее спиной стояла печка на золоченых ножках, от которой несло жаром. — Дышать трудно!
— Вы думаете, окна здесь открываются? — опять взволновалась успокоившаяся было Кайн. — Никто здесь зимой комнат не освежает. Форточек даже нет. Утешают, что в окошки достаточно дует и к утру бывает даже холодно. Ах, ваше высочество, много странного в этом краю! Я хотела немного разложиться, но нет ни комодов, ни шкапов. Говорят, все увезли в Москву. И это всегда так: куда только ни ездят — а переезжают, кажется, здесь очень часто, — мебель везут за собой. И все это портится, ломается.
Видно было, что пораженная всеми неожиданными открытиями Кайн никогда не остановится, если только чем-нибудь очень решительно не направить ее энергию на другое дело.
— Времени у нас мало. Пускай войдут портнихи, — распорядилась Иоганна Елизавета и обратилась к дочери: — Фикке, нам надо обсудить, что заказать. Придется, вероятно, задержаться в Петербурге...
Но вечером же было окончательно решено ехать не позднее седьмого февраля. Мардефельд и Шетарди взволновали Иоганну Елизавету сообщением, что десятого февраля — день рождения великого князя.
— Государыня выражала желание, чтобы принцессы приехали к этому дню, — говорил Шетарди.
Он сидел с Иоганной Елизаветой за шахматным пальмовым столиком в галерее, и они оба делали вид, что заинтересованы игрой.
Фикке в противоположном конце болтала с молоденькими фрейлинами. Они обещали ей завтра утром показать самую модную прическу.
— Постарайтесь, чтобы недоброжелатели не задержали вас в Петербурге, — посоветовал Иоганне Елизавете, подойдя к ней, барон Мардефельд. — Задержка может испортить впечатление от вашего приезда.
Решено было пожертвовать туалетами и выехать через два дня.
Решала Иоганна Елизавета. Фикке во всех переговорах не принимала никакого участия. Мать попробовала заговорить с ней о недоброжелателях, о том, что они окружены интригами, что им стараются вредить.
Фикке выслушала все с таким видом, точно это относилось совсем не к ней. А когда мать посоветовала ей быть осторожной, она только сказала:
— Пускай себе сердятся, будут недовольны. Меня вызвала государыня, и я никого не боюсь. Только бы мне понравиться ей и великому князю. А ехать в Москву, и как можно скорее, я очень рада.
В тот же день Иоганна Елизавета вместе с письмом к мужу и матери написала и государыне. Она благодарила ее «за неизреченно оказанные в прибытии ее отличности» и уведомляла, что седьмого февраля отъезжает в Москву.
IV
На другой день фрейлины показали Фикке, как обещали, самую модную прическу.
Прическа оказалась совсем необыкновенной. Она так стягивала виски, что глаза казались косо посаженными. Кроме локонов, больших и маленьких, на нее требовалось целых двадцать аршин лент.
Ленты спускались концами, завязывались бантами, в банты засовывались мелкие цветы. И когда все это было наконец устроено, из двух локонов, спущенных вдоль щек, вытянули волосы, сделали из них по колечку и каждое колечко приклеили к щеке.
Фикке взглянула на себя в зеркало и зажмурилась. Такой ужасной она себе показалась.
— Неужели вам не нравится? — Фрейлины были удивлены. — Совсем не нравится? Странно! Это была любимая прическа Анны Леопольдовны.
Этого оказалось довольно, чтобы прекратить дальнейшие колебания Фикке. Она вспомнила, как говорили о нелюбви государыни к тому, что хоть сколько-нибудь напоминает Анну Брауншвейгскую...
«Я могла сделать ей неприятное? — с ужасом думала Фикке в то время, как Кайн устраивала ей уже обыкновенную прическу. — И неужели эти фрейлины не знают вкусов своей государыни? Или знают, но просто хотели подвести меня?»
Но ей некогда было разбираться в этих тревожных мыслях. Надо было торопиться примерять туалеты, потом торопиться одеваться, чтобы идти в приемные комнаты, где принцесс ждали новые представления и приветствия.
После обеда им предложили прокатиться по городу.
К подъезду подали запряженные цугом, обшитые внутри малиновым бархатом сани. Сведенные вместе полозья были сомкнуты серебряной медвежьей головой. Наружная отделка саней тоже была из серебра.
Принцессы сели на бархатные подушки. Нарышкин и Шетарди прикрыли им ноги собольей полостью.
— На Царицын луг, — сказал Шетарди кучеру, и сани помчались, а впереди них поскакали, расчищая путь, гайдуки, рейт-пажи и лейб-форейторы в кафтанах зеленого сукна с красными обшлагами и золочеными пуговицами.
Уже издали принцессы услышали поразивший их странный гул.
— Народное масленичное гулянье, — поспешил объяснить Шетарди, заметив их удивление.
Сани подъехали к теперешнему Марсову полю.
По расчищенной круговой дороге, огибавшей площадь, медленно двигались сани с катающимися. Были здесь сани щеголей и богачей, запряженные тоже цугом, богато отделанные серебром и бронзой, с серебряными и золочеными головами львов, медведей и медуз на тех местах, где сходились полозья.
Некоторые из господ правили сами. Наряженные греками, албанцами и персами жокеи только пощелкивали длинными бичами. Правили и сами ездоки, нанявшие себе для катанья извозчичьи сани. Извозчики, в желтых шапках, с желтыми кушаками, сидели позади своих саней, похожих на ломовые дроги.
Гул, доносившийся издали, оглушил принцесс, когда они подъехали ближе. В этом гуле был и скрип перекидных качелей, и крик Петрушки, и завывание балаганщиков, и выкрикивание разносчиков, и свист дудок, и треньканье балалаек, и хохот, и крики катающихся с ледяных гор.
Над всей темной, почти сплошной толпой стоял едкий чад от расставленных повсюду печурок, на которых непрерывно жарили блины.
Сани принцесс некоторое время ехали стороной. Толпа, увлеченная тем, что происходило на площади, не обратила на них никакого внимания.
Когда сани присоединились к медленно огибавшим луг по расчищенной круговой дороге саням других катающихся, принцессы, присмотревшись, стали различать отдельные фигуры в темной массе людей. Им бросились в глаза ряженые, балаганный дед с трясущейся мочальной бородой, много такого, что они видели в первый раз в своей жизни.
Впечатление от чуждой простонародной толпы с ее гулом непонятных слов получалось почти жуткое. Нарышкин заметил это и поспешил увезти принцесс с гулянья.
Он приказал кучеру ехать к дворцу на Марсовом поле, на то самое место, где впоследствии разместились павловские казармы.
Здесь жила государыня в то время, когда она была еще цесаревной, и дворец так и сохранил название «цесаревиного».
— Вот окно спальни, где государыня, тогда цесаревна, молилась в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое ноября, — сказал Нарышкин. — Лесток, ее домашний врач, знавший цесаревну с самого дня рождения, в это время ходил вокруг Зимнего дворца и заглядывал во все окошки, чтобы убедиться, что там все тихо и спокойно.
— Вот подъезд, где цесаревну ожидали сани, — вставил Шетарди. Он случайно знал о замыслах Елизаветы, и хотя все ее ближайшие помощники постарались скрыть от него время их выполнения, он при всяком случае напоминал о себе, как об одном из главных участников.
— Меня всегда интересовали все подробности этого замечательного события, — сказала Иоганна Елизавета. — Расскажите мне, как все это происходило. Куда же направилась цесаревна из своего дворца?
— Если вы интересуетесь этим, ваше высочество, то мы проедем по всему пути, который сделала цесаревна в эту знаменательную ночь, — предложил Нарышкин и велел кучеру ехать шагом.
— Вот у этого подъезда цесаревну, как вам уже сказал маркиз, ждали сани. В них она и села с Лестоком. На запятках стали Воронцов и два брата Шуваловы. В других санях поместился Алексей Петрович Разумовский и Салтыков. Вот мы переехали опять Царицын луг и поедем сейчас мимо Летнего сада, как раз по улице, где ехала цесаревна в эту ночь. Было пустынно и тихо. Все крепко спали. Вот мы подъезжаем к казармам Преображенского полка.
По знаку Шетарди сани остановились перед вытянутыми в ряд деревянными домиками. (На этом месте потом возвели церковь Спаса Преображения.)
— Здесь помещались тогда рядовые. Офицеры жили на квартирах. Вот здесь солдат на карауле, увидев в такое непривычное время сани, испугался и ударил тревогу. Лесток живо соскочил с саней и распорол ему барабан. Тридцать солдат, знавших заранее, чтó будет, бросились в казармы скликать товарищей именем Елизаветы. В несколько минут перед ее санями, вот на этом самом месте, была целая толпа. И к этой толпе Елизавета вышла из саней.
Здесь, под звездным небом, в ночной тишине, перед замершей в ожидании толпой, она назвала себя дочерью великого царя.
Здесь отказалась идти к трону, когда солдаты, выразив готовность следовать за нею, обещали перебить всех ее врагов. Здесь она заставила их присягнуть перед крестом, что не будет пролито крови. И вот отсюда уже за ее санями двинулась толпа в триста человек.
Шетарди махнул рукой кучеру, и сани тронулись быстрее.
— Вот как едем теперь мы, так ехала и цесаревна, а за ней двигалась толпа. Сани проехали по Невскому до самого Адмиралтейства. И когда уже был виден дворец, она, чтобы избежать шума, вышла из саней и пошла пешком. Вот через эту засыпанную снегом площадь. Но идти в шубе ей было трудно, да и ноги вязли в снегу. Солдаты подхватили ее и понесли. А потом уже все произошло необыкновенно быстро и просто, караул сейчас же перешел на ее сторону. Ничего не подозревавшая легкомысленная Анна Леопольдовна была арестована. Арестовали и ее мужа. Малютку, бывшего императора, сама Елизавета осторожно, чтобы не разбудить, вынула из колыбели и, закутанного в собственную шубу, привезла к себе во дворец.
— А потом что с ним сделали, с этим малюткой? — спросила Иоганна Елизавета.
— Государыня по своей доброте не хотела причинять дальнейших огорчений Брауншвейгской принцессе и повелела отпустить за границу всю семью, предав крайнему забвению все их предосудительные поступки, — ответил Нарышкин.
— Но к счастью, в это дело вмешался Фридрих Прусский, — прибавил Шетарди. — Брауншвейгская фамилия уже была в Риге, когда он дружески посоветовал убрать куда-нибудь подальше всю семью «для предотвращения на будущее время зловредных затей».
— И где же они все теперь? — спросила Иоганна Елизавета.
— Пока они в Раненбурге. Это город Рязанской губернии, а летом их хотят переслать на Крайний Север в один старинный монастырь.
Теперь Фикке знала, почему государыня не любит воспоминаний о Брауншвейгской принцессе и ее сыне. И Фридрих Прусский сделался для нее еще неприятнее, чем был прежде.
V
Всенощная в церкви московского Анненгофского дворца, отстроенного при Анне Иоанновне в Лефортове на берегу реки Яузы, только что отошла.
Государыня Елизавета Петровна, в темном платье и без обычного ослепительного блеска бриллиантов и драгоценных камней по случаю Великого поста и говенья, плавно и торжественно спустилась с клироса, где пела с певчими, и направилась к выходу.
За нею в обычном порядке потянулась свита. Первым шел высокий, статный красавец, граф Алексей Григорьевич Разумовский. Мальчиком он пас волов на хуторе своих родителей в Малороссии, юношей попал в певчие в дворцовую церковь, а когда потерял голос, сделался управляющим дворца и имения опальной царевны. Теперь, пожалованный в графы, награжденный орденом за верную службу, безмерно богатый, он был главным советником государыни, ценившей его за преданность, необычайную честность, доброту и простосердечие.
Рядом с Разумовским, сгорбившись, склонив голову и зорко исподлобья следя прищуренными глазами за всем и за всеми, двигался всесильный канцлер граф Бестужев. Все, что Разумовскому далось легко, точно счастье в сказке, Бестужеву приходилось завоевывать у судьбы и у людей. Пятнадцати лет Петр Великий послал его за границу учиться, потом, когда он вернулся, приблизил его к себе, то есть заставил вместе с собой работать изо всех сил. И Бестужев работал. Никто, как он, не понимал царя в его самом заветном стремлении заставить Россию догнать далеко ушедшие от нее вперед европейские государства и, догнавши их, сделать ее между ними великой. И царь, и помощник оба верили в свою Россию. Но царь не кончил задуманной работы. После него для Бестужева наступило тяжелое время.
Он выстрадал вместе с Россией все истерзавшие ее смуты. И вдруг опять счастье! На престоле дочь Петра. С какой радостью на рассвете, в торжественный день писал он манифест о ее воцарении!
Вместе с государыней и он опять у власти, опять может работать для родины. Но у него враги. И сколько их! Одни завидуют, другим он мешает. Держится он все время только государыней, да еще тем, что без него трудно, почти невозможно обойтись. Он знает прекрасно языки, хорошо говорит, кратко и сильно излагает свои мысли на бумаге.
Разве таких, как он, много в России? И вот, несмотря на все его достоинства, враги торжествуют. Бестужев чует это. Он даже сам слышал, как придворные, не заметив его, говорили, что «прежней конфиденции государыня к нему уже не имеет». И все из-за чего? Из-за какой-то Цербстской принцессы! О, как ненавистна ему эта ставленница льстивого Фридриха!
Теперь кончено. Он побежден. Через три часа невеста будет уже во дворце. При этой мысли еще ниже склоняет голову недавно всесильный канцлер, еще больше хмурит он седые нависшие брови.
За Разумовским и Бестужевым двигаются статс-дамы, фрейлины, лейб-медик граф Лесток, министр иностранных дел граф Воронцов, женатый на двоюродной сестре государыни, граф Румянцев, принц Гессен-Дармштадтский, женатый на сестре Бецкого, сам Бецкий и остальная придворная знать. К последним лицам государыниной свиты присоединяется великий князь Петр Федорович со своей свитой.
Высокий узкоплечий наследник в мундире Кирасирского полка кажется особенно тонким рядом с коренастым Брюммером.
— Прямее держитесь, ваше высочество, — шепчет ему воспитатель.
Петр Федорович раздраженно дергает плечом.
Завтра ему исполнится шестнадцать лет. Он уже не ребенок. Через несколько часов к нему приедет невеста. Неужели Брюммер и при ней будет делать ему замечания?
Церковная служба с ее стоянием всегда расслабляет его. Он чувствует, как у него дрожат колени. Он знает, что у него бледное лицо и, наверное, сию минуту задергается левая щека. «Хорошее» впечатление произведет он на невесту, если не удастся отдохнуть как следует!
Из коридора, устланного красным ковром и освещенного по концам круглыми фонарями, шествие двигается по приемным покоям. Проворные пажи распахивают золоченые двери.
Плавной, торжественной поступью, с гордо откинутой назад прекрасной головой, в венце из собственных, почти не тронутых пудрой золотых волос шествует государыня. Темно-синий штоф платья с серебряными и шелковыми цветами особенно подчеркивает ослепительную белизну ее лица и лебединой шеи. Целую неделю государыня, говея, не пропускает ни одной службы, но ни в лице ее, ни в фигуре, ни в поступи не заметно утомления.
В последней приемной перед дверью в свои жилые покои она останавливается и, повернувшись лицом к толпе, движением руки подзывает к себе великого князя.
— Я молилась сегодня, чтобы выбор мой оказался удачным. От всего сердца желаю я, чтобы избранница моя пришлась тебе по душе.
Сказала она это негромко. Дальние ее слова не могли разобрать. Когда Петр Федорович нагнулся поцеловать ее руку, она нежно и крепко поцеловала его в высокий красивый лоб. Затем, слегка склонив голову и обведя придворных взглядом, она движением руки дала им разрешение расходиться и исчезла за бесшумно затворившимися за нею дверями.
В опочивальне, убранной по французской моде мягкими креслами, канапе, с огромной кроватью под балдахином красного штофа, с двуглавым золотым орлом наверху, государыню давно уже поджидала Анна Степановна, сестра бывшей кормилицы Елизаветы, Василисы Степановны. Хотя Анна Степановна, как и все при дворе, одевалась в платье французского покроя, но все на ней как-то сразу приобретало чисто русский вид. Очень помогала этому заячья душегрея, покрытая цветною камкой, и синий шелковый платочек, из-под которого выглядывали гладко причесанные и уже тронутые заметной сединой волосы. Припудрить их Анна Степановна никогда не соглашалась, несмотря на уговоры самой государыни.
— Старишь ты меня, Анна Степановна. Все знают, что мы погодки. Хоть бы для меня ты свои седины скрывала, — говорила ей иногда с досадой Елизавета, но особенно на пудре и на фижмах для Анны Степановны не настаивала.
Анна Степановна дальше внутренних покоев никуда не показывалась и не хотела показываться, и с ней, такой, какая она была, государыня любила отдыхать от пышности и шума дворцовой жизни. Она, да еще ее сестра, бывшая кормилица, обыкновенно сопровождали государыню во всех ее переездах. Только теперь Василисы Степановны в Москве не было. Государыня оставила на нее свою любимую школу в Царском Селе, где воспитывались маленькие сироты персы, арабчата, татарчата и другие народы.
Анна Степановна ходила теперь одна за государыней.
С той поры, как ее маленькой девочкой привезли, чтобы играть с царевнами, она так и осталась при дворце. Вместе с царевнами ездила она по царским пригородным селам, вместе с царевнами водила с деревенскими девушками хороводы, песни пела, плясала, а зимой тоже вместе с ними скатывалась с ледяной горы на связанных ремнями санях, и царьградскими стручками да сбоиной маковой тоже все вместе они угощались.
Когда же Анна Петровна уехала с мужем в Голштинию, Анна Степановна с ней в чужую землю поехала. При ней и Петр Федорович родился, на ее руках и Анна Петровна скончалась.
Много в жизни Анны Степановны было такого, что связало ее связью крепкою с государыней Елизаветой Петровной.
Ловкими любящими руками помогла она ей освободиться от тугого, точно кираса, лифа на фишбене — китового уса, от широчайшей юбки на фижмах. Подала ей тафтяную гладкую серую юбку, белую канифасовую [Канифас — старое название льняной ткани.] кофточку и белый шелковый платочек прикрыть голову.
В этом незатейливом наряде лучше всего отдыхала царица.
— На канапе присядь, государыня-матушка. Вот я тебе подушечку под локоток положу. Устала, притомилась ты, красавица, — вглядываясь с тревогой в лицо Елизаветы, суетилась вокруг нее Анна Степановна.
Теперь, когда государыня уже не считала нужным владеть собой, ее сразу осунувшееся лицо выдавало и уже немолодой ее возраст, и все ее беспокойное прошлое, и все не затихавшие тревоги настоящего.
— Устала я, плохо спалось мне, — жаловалась она. — Столько тревоги у меня, Анна Степановна, что я себе даже ночью покоя не нахожу. А сегодня я совсем замучилась. Все думаю: и какая она, и понравится ли племяннику, и как он ей сам покажется? Ох, как-то это все будет?
Государыня взяла на ложечку подставленного ей ее любимого черносмородинного варенья и запивала его мятным квасом из серебряного жбанчика.
Только вареньем и квасом всю эту неделю питалась государыня. Рыбного она не выносила, а посты строго держала.
— Племяннику моему труднее, чем кому другому, невесту сыскать, — вытерев губы платочком, продолжала она. — Ведь знаешь ты, Анна Степановна, не меньше меня самой про все его недохватки.
Анна Степановна тяжело вздохнула:
— Не печалься, государыня-матушка. С Божией помощью Петр Федорович с годами за ум возьмется.
— Я ли не надеялась на него, — продолжала государыня. — Я ли его не любила. Ведь не чужой он мне. Сын любимой единственной сестры. Сама его я и молитвам с голоса учила, сама за указку посадила.
— Жена хорошая достанется, и все образуется, — утешала Анна Степановна.
— Да, только на жену и надеюсь. А один он своей головой не проживет, не процарствует. Помощь ему во всем нужна.
Государыня печально опустила голову и сидела некоторое время молча. Анна Степановна, сложив руки под душегреей, только смотрела на нее любящими огорченными глазами. Нарушить раздумье государыни она не смела.
— Дай мне подушку с постели, Анна Степановна, — подняв голову, обратилась к ней царица.— Устала я очень, вздремну здесь на канапе. А как время будет одеваться для встречи, ты кликнешь моих статс-дам да фрейлин.
Анна Степановна сделала все, как хотелось государыне. Подушку ей подала, парчовой душегреей на беличьем меху ноги прикрыла, а потом на цыпочках, затаив дыхание, вышла из опочивальни.
VI
Фикке вдоволь могла насмотреться на золотые маковки бесчисленных церквей и на заваленные снегом крыши московских домов.
В двух верстах от города, в селе Всесвятском, куда принцессы прибыли девятого февраля около пяти часов вечера, их задержали. Государыня пожелала, чтобы въезд состоялся, когда уже стемнеет.
На первой неделе Великого поста, во время говенья, надо было избежать праздничного убранства улиц. Так сказали принцессам. Но была еще и другая, тайная причина задержки. Невесту выбирали за глаза. Могло случиться, что ее придется отправить обратно, — не время еще было показывать ее народу как невесту великого князя.
Для приема гостей приготовили дом, где они могли отдохнуть. А отдохнуть им было необходимо. Все пространство в семьсот с лишком верст от Петербурга до Москвы они проехали за пятьдесят два часа. Ехали день и ночь, с короткими остановками для обеда и ужина. И путешествие вышло не из удачных.
На одном из поворотов, возле какой-то деревни, они с разбегу ударились об угол избы, и так сильно, что обеих принцесс выбросило в снежный сугроб. Фикке осталась невредимой, но Иоганну Елизавету немного зашибло крюком, на котором держался верх саней. Она испугалась, чувствовала себя разбитой и была рада отдохнуть перед представлением государыне.
Фикке с Кайн помогли ей лечь. Иоганна Елизавета уговаривала и дочь прилечь, но она не согласилась. Слишком была взволнована тем, что должно было случиться через несколько часов. Пока солнце совсем не зашло и не потухли золотые кресты на церквах, она все стояла у окна, все смотрела на город. А в комнате, переговариваясь с Иоганной Елизаветой, суетилась Кайн. Она вынимала платья, перебирала драгоценности в шкатулке. Потом долго вдвоем с матерью совещалась о том, как причесать Фикке.
Решили в конце концов сделать ей самую простую прическу. Почти всю из своих волос и почти без пудры. К платью из муара серебристо-розового цвета, совсем узкому и без всяких фижм это было самое подходящее. И никакими драгоценностями ее не украсили. Отсутствие их должно было особенно подчеркнуть скромность невесты. Всем, что было в шкатулке, Иоганна Елизавета украсила себя. И Фикке казалась особенно тонкой и юной с разряженной матерью, в огромной прическе из своих и чужих волос, в тяжелом платье цербстского шелка на самых больших фижмах.
И когда бывший Карл Петр Ульрих, герцог Голштинии, а теперь наследник российского престола и великий князь Петр Федорович, увидел перед собой принцессу Софию Шарлотту Фредерику Цербстскую, она в первую минуту их встречи показалась ему похожей на облачко, зарозовевшее от утренней зари. В родной Голштинии на рассвете ему случалось видеть такие облачка.
Фикке не верила глазам.
Перед ней стоял высокий, стройный юноша, с узким лицом и красивыми тонкими чертами. Только огромные глаза с тревожным выражением напомнили ей жалкого эйтинского мальчика. Красавец принц в кирасирском мундире с бриллиантовой звездой на груди, принц богатой могучей страны, склонился перед ней, и за ним, точно колосья от ветра, склонились перед принцессами все напудренные головы его блестящей свиты. Запинаясь от волнения, великий князь произнес свою приветственную речь.
После заключительных слов: «Государыня ожидает дорогих гостей» — принцесс торжественным шествием повели по устланной коврами лестнице, через длинный ряд ярко освещенных приемных, в глубину дворца.
Когда шествие дошло до приемной государыни, широко распахнулись обе половины золоченых дверей опочивальни, и на пороге появилась Елизавета. В платье из серебряного глазета, в бриллиантах на голове, на шее, на груди и на руках, она показалась Фикке разубранной в искрящийся иней и снег прекрасной царицей снежного царства.
— Повергаю к стопам вашего величества чувства глубочайшей признательности за все милости, оказанные моему дому, — проговорила Иоганна Елизавета и наклонилась, чтобы поцеловать руку Елизаветы.
Тогда государыня нежно обняла ее и поцеловала в лоб.
— Я сделала малость в сравнении с тем, чтó бы я хотела сделать. Моя кровь мне не дороже вашей, — взволнованным голосом сказала она, и все, кто был в комнате, поняли, что в эту минуту она вспомнила любимого жениха, родного брата Цербстской принцессы.
Обняв и поцеловав не спускавшую с нее восторженных глаз точно завороженную Фикке, она пригласила обеих принцесс и племянника к себе в опочивальню.
— Побудем здесь немного без чужих, — сказала она и стала расспрашивать Иоганну Елизавету об их путешествии. Разговаривая, она внимательно вглядывалась в принцессу-мать, и лицо ее с каждой минутой делалось все более взволнованным и расстроенным.
Иоганна Елизавета была удивительно похожа на умершего брата.
Наконец государыня больше не могла выдержать, поспешно извинившись перед гостями, она прошла в соседнюю комнату.
Вернулась она через несколько минут, уже овладев собою, но с заплаканными глазами, и опять стала разговаривать с Иоганной Елизаветой.
— Я ждал вас с величайшим нетерпением, — между тем говорил Петр Федорович Фикке. Он стоял вместе с ней в нескольких шагах от государыни. — С нашей встречи в Эйтине я не забывал вас.
— И я вас не забывала, — ответила Фикке. — Но как вы изменились! — Эти слова у нее вышли так, что Петр Федорович понял, что он изменился к лучшему.
— А помните, как мы собирались идти за ландышами?
— Еще бы! И как я злилась на вашего ужасного Брюммера. Ведь это он увез вас тогда. Надеюсь, что хоть теперь он сделался другим?
— Нет, к сожалению, Брюммер все тот же, — нахмурившись, ответил великий князь. Его лицо сразу перестало быть радостным. — И вообще в жизни у меня, как и тогда, много тяжелого и неприятного, — доверчиво сказал он. — Все это я вам как-нибудь расскажу. Как хорошо, что вы моя родственница, моя кузина! — уже с прояснившимся лицом и по-прежнему весело прибавил он. — Ведь это прежде всего значит, что я могу быть с вами совсем откровенным. Вы позволяете?
— Я очень хочу этого, — просто ответила Фикке.
Так дружески разговорились они в первый же час встречи.
Государыне, следившей за ними, с каждой минутой становилось легче и радостнее на душе. Фикке очаровывала ее юностью и изящной простотой каждого движения. Племянника она не узнавала. Она привыкла видеть его недовольным, хмурым, с выражением подозрительности и упрямства в больших глазах. Теперь он точно другой. Будто посветлел. Никогда не подозревала Елизавета, что у него такие лучистые, прекрасные глаза. Таким он, конечно, может понравиться невесте, да и не одной невесте. Его полюбит двор, полюбят все, весь народ.
Государыня забывала все тревоги и сомнения, но теперь, успокоившись, она сразу почувствовала, как сильно устала от этого тяжелого дня.
— Как я рада, что вы поспели к дню рождения великого князя, — обратилась государыня к Иоганне Елизавете. — Именно с вами мне хотелось отпраздновать его шестнадцатилетие.
И с этими словами она распрощалась с принцессами, извинившись, что вследствие крайней усталости по случаю говенья не будет присутствовать на парадном ужине в честь их приезда, а поручает дорогих гостей заботам племянника, графа Разумовского, Лестока, Бецкого и других близких людей.
За ужином Фикке сидела рядом с великим князем.
Разговор за столом вначале был общим и шел, как это было принято при дворе, на французском языке, но по мере того как Иоганна Елизавета и ее старые знакомые Бецкий, Брюммер и граф Гессенский, увлеченные воспоминаниями, заговорили о своем, то и другие, уже не стесняясь, тоже затеяли свои разговоры.
Нарышкин, сидевший напротив Фикке, рядом с графом Разумовским, стал ему рассказывать подробности того, как он встретил принцесс, как они ехали, как принцесса-дочь, восхищаясь страной, назвала ее снежным царством. Нарышкин начал по-французски, но Разумовский, когда увлекался, всегда переходил на русский язык. По-французски он объяснялся с трудом, а ему хотелось расспросить как можно подробнее про эту выписанную за глаза принцессу. Расспросить и потом все рассказать наедине государыне. Все, что говорил Нарышкин, ему очень нравилось, и он ласково поглядывал на Фикке своими черными блестящими глазами.
— Это, вероятно, говорят по-русски? — спросила Фикке великого князя, прислушиваясь к голосам сидевших напротив нее. — Какой красивый, звучный язык! Как я завидую вам, что вы его уже знаете.
— Знаю? Ну нет. Можно сказать, двух фраз не скажу на нем. Меня, правда, как всегда, хотели заставить делать то, что мне противно, но, к счастью, учитель мой не выдержал. Сбежал. Другого охотника преподавать мне не нашлось. Так я и освободился от этого варварского языка.— Все это Петр Федорович проговорил с веселым, плутоватым видом школьника, который ловко надул своих учителей.
— Варварский язык? — с недоумением повторила Фикке. — Как можете вы считать варварским язык вашей страны?
— Ах, да и сама страна, уверяю вас, тоже варварская, здесь куча всяких дикостей. А кроме того, я совсем не считаю Россию «моей» страной. Голштиния моя родина, и ей я буду верен до той минуты, пока навеки не закрою своих глаз. — Последние слова Петр Федорович произнес с большим чувством и даже торжественно.
Освещенное огнями, его сразу сильно побледневшее лицо поразило Фикке своим тоскующим выражением.
Она немного помолчала. Не решалась дольше расспрашивать, но через минуту все-таки решилась спросить о самом главном:
— Я не понимаю, как можете вы считать чужой страну, где должны быть королем? И разве народ и его язык может быть чужим своему королю?
Она опять помолчала. Ее глаза, внимательные, спрашивающие, точно заглядывали в глубину его души.
Он вдруг раздражился. Левая половина лица передернулась нервной судорогой. Взгляд сделался диким.
— Разве я хотел этого царства? — Петр Федорович буквально выкрикнул эти слова, но никто из сидевших за столом не обратил на них внимания. Их заглушил стук и звон золотой и серебряной посуды, и они не нарушили веселого торжественного гула. — Разве я хотел? — уже тише, очевидно справившись с собой, продолжал он. — Разве меня спрашивали, когда везли сюда? Спрашивали, когда за мной явилось шведское посольство и мне представился случай сделаться королем цивилизованного народа? Никто не спрашивал меня. Со мной делали что хотели. А если бы вы знали, как я страдал! Одна мысль, что я не увижу больше мою дорогую Голштинию, сводила меня с ума. Каким одиноким я себя чувствовал!
Он помолчал. Мрачность и раздражительность постепенно исчезали с его лица. Оно становилось светлым, как в первый час встречи. С глубокой нежностью, глядя прямо в синие глаза своей невесты, он сказал:
— Но все это кончилось с вашим приездом. Я больше не одинок. И какое счастье, что приехали ко мне вы, моя дорогая кузина, а не какая-нибудь совсем чужая, незнакомая принцесса. Вот было бы ужасно!
И лицо Петра Федоровича в эту минуту стало такое смешное, что Фикке не выдержала и засмеялась. Засмеялся и он.
— А как хорошо, что завтра мое рождение. Мы вместе отпразднуем его! — весело заговорил великий князь. — А в прошлом году, что было в этот день! Вспомнить не могу. Штелин со своими виршами, а потом здешний ученый стихотворец Ломоносов с длиннейшей и скучнейшей поздравительной одой, из которой я, конечно, не мог понять ни слова. Вот тогда, может быть, я и возненавидел этот русский язык.
— Да, это, должно быть, очень скучно, когда ничего не понимаешь, — согласилась Фикке. — Но я не хочу быть в таком положении и постараюсь как можно скорей научиться по-русски. Может быть, я догоню вас, и тогда мы будем учиться вместе. Хорошо?
— И вообще мне хочется, чтобы мы стали друзьями. Согласны вы быть мне другом?
— Я очень хочу этого, — серьезно ответила Фикке и спросила: — А вам завтра ведь шестнадцать лет?
— Да, шестнадцать.
— А мне будет пятнадцать двадцать первого апреля.
Им почему-то сразу стало так весело, что они опять рассмеялись.
И как раз в эту минуту в столовую чуть-чуть приоткрылась боковая дверь, обитая тем же штофом, что и стена, и потому незаметная.
Государыня уже легла в постель, но ей так захотелось еще раз взглянуть на невесту, убедиться еще раз в своем удачном выборе, что, накинув шелковый шлафрок, отделанный собольими хвостиками, она потайным ходом подошла по коридору к столовому покою.
Отыскав среди пирующих жениха с невестой, она долго и внимательно смотрела на них, а потом тихо, никем не замеченная, растроганная и счастливая, вернулась к себе в опочивальню.
VII
На другой день все, что было чиновного, богатого и знатного в Москве, с самого утра стало собираться во дворец, чтобы поздравить государыню и великого князя.
Семь лет тому назад пожар истребил бóльшую часть города. Сгорела вся главная часть его с Кремлем, и огонь уничтожил почти все боярские дома. Все постройки старой Москвы были деревянные, и редкий день проходил без пожара, но такого еще никогда не бывало. Пришлось все строить заново. И хотя Москва перестала быть царствующим градом и вся знать проживала большею частью в Петербурге, но для наездов в Москву, особенно частых при Елизавете, необходимо было иметь жилье, и вельможи отстроили себе новые дома.
Строилось все наспех. Рабочих рук не хватало, знающих архитекторов не было. С Кремлем так до Елизаветы и не справились. Отстроили несколько приемных покоев и пользовались ими в особенно торжественных случаях, а для жилья наскоро сколотили деревянный дворец возле Кремля, а потом перенесли его в Лефортово. Елизавета украсила этот дворец, сделала новые пристройки и уже всегда жила в нем, когда приезжала в Москву.
Вельможи тоже строились наспех, по старым образцам, складывали дома из бревен, как и раньше. И когда Москва была наконец отстроена, у знати, стремившейся во всем подражать французам, из-за дощатых заборов выглянули прежние бревенчатые особняки, довольно безобразного вида, с маленькими, подслеповатыми окошками.
К деревянным крыльцам этих особняков в торжественных случаях подавались часто выписанные из-за границы, украшенные живописью и золотом кареты, и по ступенькам деревянных лестниц к ним спускались разодетые по последним образцам французских модных журналов кавалеры и дамы. Они садились в раззолоченные кареты и, окруженные гайдуками, гусарами и скороходами, выезжали на немощеные, ухабистые улицы. А домашняя, босоногая и в лохмотьях, крепостная челядь, которой в каждом богатом доме было не меньше, чем тараканов и прочих насекомых, глазела изо всех щелей и окон на выезд своих господ, торжественность которого нарушалась нырянием в ухабы.
Зимой по улицам, заваленным снегом, передвигаться было все-таки легче, чем в другое время года, когда грязь и ямы делали езду иногда совсем невозможной. Утром десятого февраля санный путь был так еще хорош, что скороходы и форейторы должны были кричать во все горло свое «пади-пади-берегись», чтобы не задавить прохожего или не налететь на какой-нибудь воз.
Вся площадь перед дворцовым крыльцом была заставлена каретами на полозьях, санями открытыми и закрытыми. По дворцовой лестнице, расходясь по приемным на положенное для каждого место, поднимались сановники в расшитых золотом мундирах, в орденах и звездах, послы иностранных держав и знать в богатых цветных кафтанах с драгоценными каменьями вместо пуговиц, с бриллиантами на эфесах сабель и даже на пряжках у башмаков. Все в напудренных париках. Дамы — в широчайших штофных, расшитых золотом и серебром робах на необъятных фижментах, с уборами из брюссельских и брабантских кружев.
Выхода государыни пришлось подождать.
Ожидавшие передавали друг другу разные новости, говорили главным образом о приезде невесты наследника, расспрашивали у тех, кто уже ее видел, какова она, эта приезжая принцесса, какой рост, какие у нее глаза, насколько она приятна в обхождении.
Всех сильно занимала Фикке, но почти никто не обратил на нее должного внимания, когда она, вызванная вместе с матерью к государыне, торопливо пробиралась через толпу к опочивальне Елизаветы. Почти никто, кроме стоявших возле самых вдруг распахнувшихся и так же быстро закрывшихся дверей, не заметил тонкой фигурки в белом, проскользнувшей вслед за дамой в пышной робе.
— Невеста, невеста, — пронеслось по залу.
— Говорят, государыня очарована ею, и великий князь тоже очень доволен.
И когда через несколько времени золоченые двери опять открылись и в них появилась Фикке с матерью, обе украшенные только что пожалованными им бриллиантовыми знаками ордена св. Екатерины, сверкавшими на ярко-красных лентах, толпа всколыхнулась. Люди вытягивали шеи, становились на цыпочки, а в задних рядах просто вставали на стулья.
Фикке знала, что понравилась государыне и великому князю, знала, что нравится всем, кто теперь на нее смотрит, и со счастливым лицом, отвечая на поклоны, проходила вместе с матерью к покоям наследника, где они должны были ждать возвращения Елизаветы из церкви.
К племяннику государыня зашла очень ненадолго. В этот день она шла к исповеди и не могла быть на парадном обеде. Приласкав великого князя и громко порадовавшись его счастливому виду, она нежно обняла молоденькую принцессу, поцеловала ее в лоб и сказала:
— От души желаю, чтобы вы как можно скорее привыкли к новой обстановке и к чужой вам стране, милое дитя.
Фикке немного смутилась, но не растерялась.
— Страна, куда я милостиво вызвана волей вашего величества, не может быть чужой для меня,— ответила она. — Я хочу только попросить ваше величество еще об одной милости: дозвольте мне, и как можно скорей, приступить к изучению русского языка.
— С величайшей радостью исполню вашу просьбу, милое дитя, — сказала императрица. — С завтрашнего же дня я вам дам наставника.
И с этими словами, склонив голову с прощальным приветом, государыня вышла из комнаты.
— Какая вы странная! Сами напросились на уроки, — сказал Фикке великий князь, улучив удобную минуту, когда все, бывшие в его комнате, занялись своими разговорами и перестали обращать на них внимание.
— Я вчера еще решила начать учиться, и как можно скорее, — ответила Фикке.
— Думаете, это весело? Я так рад, что освободился наконец и от моего законоучителя иеромонаха Симона Тодорского, и от скучнейшего преподавателя русского языка Исаака Веселовского. Теперь у меня остался один Штелин. Этого я еще могу переносить. Он меня забавляет. Никогда не приходит на урок с пустыми руками. Приносит медали, выбитые по его рисункам по случаю разных торжеств, показывает мне проекты разных иллюминаций.
— Но чему же, собственно, он должен вас учить? — спросила Фикке.
— Математике и географии, ну, еще и истории. Мы выучили с ним наизусть имена всех великих князей и русских царей до Петра. Но особенно мудрить я этому Штелину не позволяю. Если мне что-нибудь не понравится, кончено: я перестаю его слушать. И вообще, я ненавижу книги, глобусы, астролябии. Вот старичка балетмейстера Лоде я люблю. Недавно я разучил целый балет с фрейлинами, и мы танцевали его на куртаге перед императрицей. — И, наклонившись к Фикке, он вдруг почти шепотом и с таинственным видом спросил: — Хотите, я вам покажу свое любимое занятие?
Заинтересованная Фикке кивнула головой.
— Тогда выйдем в соседнюю комнату.
И они незаметно для других проскользнули в дверь.
— Вот это я люблю больше всего, — сказал Петр Федорович, указывая на большой и узкий деревянный стол, занимавший середину комнаты.
На столе помещалась сделанная из раскрашенной папки крепость.
— Видите, как здесь всё чудесно устроено. Здесь и ворота, и подъемные мосты, и сторожевые башни. А вот и пушки на валах. Вот мои часовые. Вот мое войско.
Петр Федорович при этом указал на крошечных двухвершковых солдатиков, сделанных из свинца и из жести.
— Я делал их из воска и даже из хлеба, но эти всего прочнее. Тех у меня как-то поели ночью крысы. Нравится вам моя крепость и мое войско?
— Все это очень искусно сделано, но с самого детства я равнодушна к игрушкам, — ответила Фикке. — Она была удивлена, что великий князь еще играет в солдатики.
А он обиделся.
— Игрушки? — переспросил он крикливым, раздраженным голосом. — Мои солдаты — это не игрушки, а те же книги, по которым я учусь, чтобы со временем быть полезным моей Голштинии и величайшему монарху в свете, его величеству королю прусскому. Вы ведь знаете, что с девяти лет я числюсь уже лейтенантом в его полку?
Но Фикке этого не знала.
— О, я должен вам непременно рассказать о счастливейшем дне моей жизни! — воскликнул Петр Федорович.
Он уже забыл свое раздражение, глаза его радостно заблестели, и голос потерял крикливость.
— Это был как раз день моего рождения. Мне исполнилось девять лет, и у нас был устроен парадный обед. Отец поставил меня, как унтер-офицера, каким я числился, на часы у дверей в столовую. Я смотрел, как ели разные вкусные вещи, и у меня текли слюнки. Я был страшно голоден, ноги у меня дрожали от усталости. После жаркóго я думал, что не выдержу — упаду. И вдруг отец встает и торжественно, по распоряжению короля, поздравляет меня с лейтенантом. О, какая это была минута! Я был счастлив, так счастлив, что уже от счастья не мог ничего проглотить, когда меня сию же минуту после производства, уже как лейтенанта, посадили за парадный стол.
— Счастливая минута? — проговорила в недоумении Фикке. Ей было только жаль маленького девятилетнего лейтенанта, и она не понимала восхищения Фридрихом. И как это наследник России по первому зову прусского короля пойдет в его войско — она тоже не понимала.
— У меня еще есть театр марионеток, — рассказывал между тем Петр Федорович. — Есть чудесные собаки...
— Ах, вот собак я очень люблю! — Фикке обрадовалась, что наконец-то у них нашлись общие вкусы. Но разговор на этом прервался. Их позвали обедать.
VIII
Чуть посветлели от рассвета спущенные гроденаплевые зеленые занавеси и едва приметно стали выступать из темноты стулья, кресла и канапе желтого штофа, как Фикке уже проснулась и подняла с подушек голову с немного съехавшим набок ночным чепцом.
«Неужели уже пора?» Ей очень не хотелось вставать. На широкой мягкой постели под балдахином желтого штофа было так тепло и уютно. Накануне они с матерью засиделись на вечернем собрании. Танцев по случаю Великого поста не было, но веселились очень. Был концерт. Пели итальянские певцы, играл на скрипке великий князь. Довольно плохо играл, но все придворные восхищались его игрой. Потом государыня и все, кто постарше, уселись за ломберные столики, стали играть в карты и шахматы, а молодежь, и с ними Фикке и великий князь, принялась за фанты. И это было самое веселое. Разошлись до того, что, когда на один из фантов выпало изобразить ambassade turque, фрейлины стащили в одной из приемных чехлы с мебели и сделали из них чалмы, а потом жгли в камине пробки и чернили брови и бороды. Государыня, а за ней и все игравшие, заинтересованные возней, шумом и смехом, бросили карты и пришли посмотреть на молодежь. У Фикке в ушах так и остался звонкий смех императрицы. Никогда не слыхала она такого красивого заразительного смеха. А лицо! Фикке все еще не может присмотреться к его красоте. Каждый день государыня кажется ей по-новому прекрасной.
А спать все-таки очень хочется. Но никак нельзя. Тогда урок русского языка так и останется неприготовленным. Утром урок Закона Божьего, потом катанье, потом обед, потом визиты, потом урок танцев у балетмейстера Лоде, а потом у них гости. Учиться положительно некогда. Фикке решила, что будет заниматься, пока еще все спят. Решила — и занимается. Зажгла свечу на ночном столике. Вытащила из-под подушки азбуку.
— Буки, аз — ба. Веди, аз — ва, — спотыкаясь на непривычных звуках, шепчет она. — Надо еще повторить. — Она переводит костяную указку назад к первому слогу. — Ужасно трудно. А все-таки я выучу. Сказала, что выучусь русскому языку, и выучусь. Без языка я как глухонемая.
В комнате все светлеет. В ближней церкви ударили к заутрене. В Лефортове долгое время жили исключительно иноземцы, и потому церквей здесь не так уж много. Но в остальной, старой Москве их столько, что комната Фикке гудит от утреннего благовеста.
Вспомнился тихий далекий Штеттин. Там тоже Фикке часто просыпалась под колокольный звон. Но то был совсем другой звон. Ничего похожего на торжественное гудение московских церквей в нем не было. И все там было по-другому. И в Штеттине, и в Цербсте... Фикке делается немного грустно. Ей вспомнились Бабет, Больгаген, сестрица, Фриц. Бабет она еще ни разу не написала. Пишет только отцу. А письмо Бабет только начнет и бросит. Бабет написать очень трудно. Ей надо сказать слишком много, мало — не стоит. А с того дня, как они распрощались, Фикке столько перевидала, передумала и переиспытала, что с чего и начать не знает.
Благовест и мысли о доме разогнали последний сон. Фикке накинула легкий белый шелковый шлафрок, нерешительно взглянула на туфли. По тогдашней моде они были на очень высоких деревянных каблуках и стучали. А рядом с комнатой Фикке спали с одной стороны Кайн, а с другой все четыре приставленные к принцессе фрейлины. Сообразив все это, Фикке босыми ногами подбежала к окну. Быстро сунула занавеси в подхваты из зеленого гродетура с серебряным узорчатым позументом и долго стояла у окошка, глядя на занесенный снегом анненгофский сад. Великий князь рассказывал ей, что в саду много фонтанов, каскадов, затейливых беседок, что он весь изрезан каналами, по которым весной и летом катаются в расписных шлюпках, выезжают на реку Яузу. Река начиналась здесь же, за садом. Из окна Фикке был виден и бывший дворец любимца Петра, женевца Лефорта, на другом берегу узкой Яузы.
За дворцом — оперный дом, построенный Елизаветой в год ее коронации. Дальше раскинулись недавно отстроенные особняки знати, потянувшейся вслед за царями в Лефортовскую слободу.
Возле окна стоял письменный стол. Фикке подошла к нему. Полюбовалась своей первой покупкой в России. Только вчера по ее распоряжению были куплены серебряная чернильница и серебряное перо. Она не успела еще и рассмотреть их как следует. Здесь же, на столе, оставалась со вчерашнего дня раскрытая тетрадь. Фикке должна была написать к уроку русский алфавит. Она присела к столу. Решила, что напишет сейчас же.
Сегодня почему-то все шло у нее быстро и удачно. Слоги она выучила, новое серебряное перо писало прекрасно.
Фикке дописала страницу и только тогда почувствовала, что у нее захолодели ноги.
Немного погревшись в постели, она стала одеваться. Умылась, накинула пудермантель и позвонила в серебряный колокольчик. Когда ей было нужно, она обыкновенно так вызывала приставленных к ней молоденьких фрейлин.
Сегодня, может быть, потому, что она не проспала и ей удалось хорошо позаниматься, ей было особенно весело. Захотелось пошутить, посмеяться. Она позвонила, а сама проворно юркнула между спинкой кровати и спущенной полой штофного балдахина.
Четыре фрейлины, стуча высокими каблучками, влетели в комнату и остановились на пороге, отыскивая глазами ту, которая им позвонила.
Но комната казалась пустой. Фрейлины заглянули под кровать, бросились в уборную, опять прибежали в опочивальню, потрогали запертую задвижку на двери в комнату Кайн.
Фикке следила за ними из своего убежища и с трудом удерживалась от смеха.
Фрейлины метались по комнате с испуганными, растерянными лицами, заглядывали под канапе, под кресла и стулья. Одна из них даже открыла дверцу у изразцовой печки, и этого было довольно, чтобы все четыре девицы, присев на корточки, со страхом и ожиданием заглянули туда.
Фикке больше не выдержала. Со смехом выскочила из своей засады, подхватила одну из растерявшихся фрейлин и завертелась с ней по комнате. Вышло это так увлекательно, что сейчас же составилась и вторая пара. А потом они кружились все вместе, взявшись за руки, и при этом так смеялись и так стучали высокими каблучками, что к ним прибежала испуганная Кайн и объявила: еще немного, и они разбудят ее высочество.
Фрейлины, точно испуганные мыши, бросились врассыпную, Фикке же подбежала к Кайн и крепко расцеловала ее в обе щеки.
— Милая фрейлейн Кайн, вы явились как раз вовремя. Я не хочу заставлять ждать почтенного Симона Тодорского. А времени до урока осталось так мало.
— Одевайтесь же поскорей! Вы еще и не причесаны, — стараясь сохранить серьезность и строгость, ворчливо говорила Кайн. — Вы опять без чулок!
Фикке как раз сбросила свои ночные туфли.
— Как лед! — возмущалась Кайн, трогая руками застывшие ноги Фикке. — Разве здесь можно ходить без чулок! — Кайн в голову не пришло, что Фикке долго была босая. — Здесь надо быть очень осторожной. Жарко натопленные печи и огромные щели и в окнах, и в дверях. Что может быть хуже, — говорила она, волнуясь и торопливо натягивая чулки Фикке.
Через час одетая и причесанная Фикке вышла в приемную. Как только она показалась в дверях, навстречу ей с дубового резного кресла, обитого материей с серебряной ниткой, поднялась черная фигура монаха. Это был иеромонах Симон Тодорский, один из самых образованных людей того времени.
Ему поручили наставить невесту великого князя в духе православной церкви.
Симон Тодорский слушал лекции в заграничных университетах и хорошо говорил по-немецки. Фикке сразу полюбила его уроки, больше походившие на увлекательные разговоры, чем на обыкновенные уроки. У нее с детства, со времени скучных уроков пастора, пугавшего ее Страшным судом и не признававшего никаких вопросов, так и осталась неудовлетворенной потребность поговорить о многом, что ей было не совсем ясно. Симона Тодорского она могла спрашивать, сколько ей было угодно. Ученица была в восторге от своего учителя, а учитель не мог нахвалиться на свою ученицу.
IX
Фикке училась. Иоганна Елизавета ездила в гости, принимала гостей, дружила с Бецким, с его сестрой, женой принца Гессен-Гомбургского, дружила с маркизом Шетарди, с Брюммером, с графом Лестоком и вообще со всеми врагами Бестужева.
Благодаря стараниям этого кружка, положение канцлера стало таким тяжелым, что он сказался больным, чтобы не бывать при дворе.
Иоганна Елизавета и ее единомышленники делали все возможное, чтобы он и не возвращался. Союз с Пруссией им казался уже обеспеченным.
В субботу на второй неделе Великого поста государыня поехала в Троице-Сергиеву лавру.
— Мы должны торопиться. Надо сделать так, чтобы ее величество по возвращении немедленно удалила графа. Король прусский в каждом письме напоминает о возложенном на меня поручении, — постоянно повторяла Иоганна Елизавета членам своего кружка.
С дочерью это время она виделась урывками. Ей было совсем не до нее, и она не замечала ни утомленного вида Фикке, ни того, что она похудела за последнее время.
Фикке давно перемогалась.
Училась она даже больше прежнего, но у нее вдруг точно ослабела память, и, когда она писала, ей часто мешала ноющая боль в боку. Временами ее познабливало, кружилась голова.
Императрица уехала в субботу, а во вторник на следующей неделе Фикке уже не могла подняться с постели, чтобы рано утром выучить урок. Потом ей стало лучше. Она оделась. Была на уроке у Симона Тодорского, но перед обедом ей стало опять нехорошо.
— Мне нездоровится. Я бы хотела остаться у себя в комнате, — сказала она матери.
Иоганна Елизавета уже переодевалась к обеду, когда к ней пришла дочь. В этот день принцессы должны были обедать в покоях великого князя. Иоганна Елизавета знала, что обед готовится парадный, с приглашенными.
«Великому князю будет скучно без Фикке, он надуется и испортит всем настроение», — подумала она и сказала дочери:
— Вид у тебя совсем недурной, цвет лица прекрасный, глаза живые, блестящие. Пообедай с нами, а потом уже, если тебе не будет лучше, ложись в постель.
Фикке не стала возражать. Она вдруг почувствовала страшную слабость, и ей как-то сразу стало все все равно. Только бы не раздражить вспыльчивую мать, только бы добраться до своей комнаты. А там пускай и Кайн, и фрейлины делают с ней что хотят.
Но в то время, когда все приглашенные уже собрались в приемной великого князя и только поджидали запоздавшую Фикке, чтобы идти в столовую, Иоганне Елизавете дали знать, что с дочерью ее обморок.
Фикке потеряла сознание. Она никого не узнавала, всё окружающее сразу перестало для нее существовать.
Ей казалось, что она лежит в своей прежней штеттинской комнате, что кто-то страшный хватает ее цепкими руками, сдавливает ей грудь, впивается костлявыми пальцами в бок.
— Бабет, Бабет! — раздается на всю комнату отчаянный крик.
Но Бабет не приходит. Кто-то страшный, черный хочет надеть на Фикке железный корсет. Это так ужасно, что у нее не хватает голоса кричать. Ей кажется, что она умирает. Уже умерла. Лежит в склепе рядом с Вилли и маленькой сестрицей. Не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Умерла!
Умерла? Но ведь это не склеп. Это сугроб. Огромный снежный сугроб. Это она вывалилась из саней. В Россию едет. Лошади с санями умчались, а она в сугробе. Как холодно! Она замерзает. Где-то вдали замирает звон колокольчиков... Делается все тише и тише. И вдруг — бум! Над самой ее головой ударили в большой колокол. Она в Москве. У царевны в Москве. Но царевны нет. Фикке ищет и не находит ее среди белых холодных снегов: пропала царевна. Позвала Фикке, а сама скрылась. Ушла дальше в свое снежное царство. Но Фикке ее отыщет. На край света за ней по снегам пойдет. Только холодно ее босым ногам. Ноги стынут. Надо башмаки отыскать. И вдруг со всех сторон к ней бегут какие-то чудовища: люди ли, звери — не разберешь. Один, точно волк с лицом Нарышкина, издали показывает ей башмаки. Фикке знает, что ей стоит сказать слово, и башмаки будут у нее на ногах. Но слово она забыла. Учила и позабыла. Звери и дорогу к царевне знают. Только спросить Фикке не может. Губы застыли, не шевелятся...
Иоганна Елизавета совсем потеряла голову. Она не сомневалась, что у дочери начинается оспа, и, хотя вызванные доктора уверяли, что никаких признаков этой ужасной болезни пока нет, она стояла на своем.
— Оспа, оспа! — в ужасе повторяла она. — Дочь моя здесь погибнет, как погиб мой несчастный брат.
И она не позволяла докторам подойти к постели, боялась, что они пустят больной кровь.
— Не позволю ее уморить, как уморили брата! — кричала она.
Доктора пробовали ее разубедить, уговаривали. Она ничего не хотела слушать.
Дали знать о случившемся государыне. Она сейчас же села в сани и примчалась в Москву. Прямо с подъезда, только сбросив на ходу захолодевшую шубу, поспешила она в комнату больной. За ней вошли лейб-медик граф Лесток и хирург-португалец Санхец.
Уже несколько дней Фикке не приходила в себя. У нее был страшный жар. Она стонала, металась.
Государыня вглядывалась в изменившееся лицо своей любимицы и едва удерживалась от слез.
— Если нет другого средства и доктора продолжают настаивать на кровопускании, надо его сделать, — сказала она.
Иоганна Елизавета попробовала опять возражать, но ее уже не слушали.
Императрица села у изголовья постели, нежно обняла голову больной и крепко прижала ее к себе.
— Теперь пускайте кровь, — сказала она.
И когда через несколько минут Фикке пришла в себя, первое, что на увидала, было склоненное над ней прекрасное лицо.
— Царевна, — прошептала она и с этими словами опять потеряла сознание.
Сейчас же после кровопускания государыня прислала больной чудесные бриллиантовые серьги, но Фикке не могла на них полюбоваться. Ей сделалось хуже.
Доктора стали намекать на возможность плохого исхода. Иоганна Елизавета давно считала дочь погибшей и только умоляла воспользоваться первой минутой, когда она придет в себя, чтобы пригласить пастора.
Но когда Фикке очнулась и ей сказали, что придет пастор, она пожелала видеть не его, а Симона Тодорского.
Двадцать семь дней была она между жизнью и смертью. Два доктора, португалец Санхец и Бургав, дежурили у нее по очереди, сменяя друг друга. Шестнадцать раз ей пускали кровь. А был и такой день, когда ей сразу сделали четыре кровопускания. Надежды на выздоровление оставалось так мало, что решались на крайние средства.
Иоганна Елизавета исстрадалась. Докторам, лечившим кровопусканиями, она не доверяла, но в России в то время иначе почти не лечили. Спокойно подчиняться очевидной необходимости она не могла. Каждое новое кровопускание пугало, приходилось ее уговаривать, на время операции удалять из комнаты и, чтобы она неожиданно не ворвалась, запирать даже дверь на задвижку.
Все это не только волновало, но и сердило Иоганну Елизавету. Она раздражалась даже на государыню, которая всегда была на стороне докторов и только просила их «делать все возможное, чтобы спасти дражайшее дитя».
По нескольку раз в день заходила она к Фикке. У дверей ее обыкновенно дожидался наследник. Он был в отчаянии, и государыня лаской и уговорами старалась поддержать и сколько-нибудь утешить племянника.
Даже иногда ночью Елизавета вставала с постели и шла в комнату больной, а потом, вернувшись к себе в опочивальню, подолгу молилась перед образом Знамения Богородицы, тем самым, перед которым она молилась в ночь переворота.
Только в воскресенье на Вербной неделе случился кризис. Фикке сильно и мучительно закашлялась. Назревший нарыв в боку лопнул, и с этой минуты она уже больше не теряла сознания.
Она стала поправляться, но силы возвращались к ней очень медленно. Когда в Вербную субботу к ней от вечерни зашла государыня с вербой, перевязанной зеленой лентой, Фикке улыбнулась серебристо-серым пушистым шарикам и протянула к ним руку, но удержать веток не могла. Слабые, исхудавшие пальцы ее еще не слушались.
Святая пришла. За окошком уже отстучала капель, с веселым стеклянным звоном разбились о мокрую землю все ледяные сосульки, и повсюду, журча, побежали ручейки.
Весна пришла, а Фикке все еще не поднималась с постели.
В Светлое Христово Воскресенье к ней приходила государыня с великим князем.
Петра Федоровича первый раз пустили к больной. Она показалась ему такой исхудавшей и бледной, что он едва не расплакался и почти не мог говорить, только смотрел на нее своими огромными тревожными глазами.
Государыня поспешила его увести.
Фикке осталась одна.
Солнце ударило в два золоченые яичка, оставленные для нее на столике, и два золотых зайчика побежали по зеленым шелковым обоям.
Следя за зайчиками, Фикке увидала в окошко кусочек голубого неба.
«Весна! — подумала она и вздрогнула от острого чувства радости. — Как долго я болела! Уж и зимы давно нет. По небу где-нибудь ходят пушистые белые облачка... Жаль, что их не видно с подушек. Снег стаял. Хорошо бы взглянуть, что делается в дворцовом саду. Может быть, и подснежники распустились. Только бы не пропустить ландышей!» И с этой мыслью о ландышах Фикке заснула крепким сном выздоравливающей.
Проснулась уж в сумерки. Открыла глаза и удивилась, что проспала так долго. Лежала, не шевелясь. Радовалась, что возвращаются силы.
Из открытых в соседнюю комнату дверей доносился шепот. Невольно она прислушалась. Различила голос графини Румянцевой, пожилой дамы, приставленной к ней на время болезни. Графиня говорила с кем-то незнакомым Фикке. Разговаривали по-французски, часто упоминали Цербстских принцесс.
В первую минуту Фикке хотела подать знак, что не спит, но ей было лень пошевелить губами. А потом она задумалась.
Точно весенние облачка, скользили ее мысли, сменяя друг друга: «Государыня, троюродный брат, жених... Ландыши с белыми головками...»
А шепот в соседней комнате делался все яснее. Разговаривали уже почти громко. До постели доносились отдельные слова.
— Не может быть! Просто не верится, — возражала кому-то графиня Румянцева.
А незнакомый голос уверенно ответил:
— Нет, это доказано. Как только потеряли надежду на ее выздоровление, Брюммер начал переписку с Дармштадтским двором. Он писал, что «из расположения к герцогскому дому будет стоять при новом выборе за Дармштадтскую принцессу».
— Поторопился!
— Ловкий человек. Теперь, когда принцесса поправляется, он опять, как и прежде, уже разыгрывает преданного друга.
Фикке поняла, что разговор идет о ней. Поведение Брюммера ее не удивило. Всегда считала она его лицемером.
А в соседней комнате разговор продолжался:
— И у Фридриха Прусского оказалась уже наготове невеста. Он заикнулся насчет Вюртембергской. Только государыня не захотела и слышать о новом выборе.
— А что же Бестужев?
— О, тот откровеннее. Враг, так враг. Все знают, что он ненавидит принцессу. Недавно еще его спросили: знает ли он, что невеста захворала оттого, что до свету вставала учиться русскому языку, а чтобы никому не мешать, ходила по комнате босыми ногами? А он ответил на это: «Рассказывайте что угодно, но я остаюсь при своем. Из-за плеча этой принцессы выглядывает льстивое лицо Фридриха Прусского. Я не доверяю ничему и никому, что идет от этого лицемерного ненавистника России».
Фикке вспомнилось лицо короля, каким она его видела во время проезда через Берлин. Он хотел очаровать ее, и у него было именно льстивое лицо. Бестужев прав. Ей жаль, что она не может этого сказать. Старик всегда смотрит на нее таким острым, недоверчивым взглядом. Он думает, что ее прислал в Россию Фридрих. Ей хотелось бы ему сказать, что она приехала, потому что сама захотела ехать. Государыня позвала, и она поехала. А Фридриха она не любит. Как и Бестужев, не доверяет ему. А если он к тому же еще и враг России, то Фикке может быть только врагом врага своего второго отечества.
Наступила Фомина неделя. Фикке еще была в постели, но дворцовая жизнь уже вошла в обычную колею. Начались куртаги, концерты, балы, маскарады.
Иоганна Елизавета теперь только заходила к дочери. Фикке поправлялась, уход за нею был прекрасный. Приставленная к ней старая графиня Румянцева не раз напоминала и самой Иоганне Елизавете, что доктора предписали полнейший покой выздоравливающей принцессе, что в ее комнате не следует ни чересчур болтать, ни громко смеяться. Иоганна Елизавета часто уходила обиженная. У нее было такое чувство, что отнимают дочь, хотят отдалить Фикке от матери.
Она обижалась, но в то же время ее тянуло к людям и увеселениям. Она соскучилась за болезнь дочери. Теперь целыми днями она выезжала, принимала, посещала все парадные обеды, не пропускала ни одного куртага. Ко всему этому она еще стала брать в манеже уроки верховой езды. Государыня прекрасно ездила верхом и не раз говорила принцессе, что, как только просохнут дороги, она будет устраивать обычные кавалькады в загородные дворцы.
У Иоганны Елизаветы не возникло даже мысли, что кто-то куда-то поедет, будет развлекаться, веселиться, смотреть на что-нибудь интересное — и вдруг без нее.
Она сейчас же принялась за учение в манеже. А потом надо было обдумать фасон амазонки. Иоганна Елизавета заказала себе целых три, но забыла про платье для торжественного приема австрийского посольства. Когда же Кайн напомнила про платье, оказалось, что нигде нет подходящей для него материи. Все лучшее уже разобрали, а повторения Иоганна Елизавета не захотела.
Она пришла в отчаяние, не знала, что придумать, и вдруг вспомнила про материю, подаренную Фикке цербстским владетельным принцем.
— Бегите скорей к моей дочери, — приказала она Кайн, — и принесете мне из ее сундука голубую материю.
У Кайн сразу поднялись брови.
— Какую материю, ваше высочество? — спросила она.
— Голубую с серебром, — уже нетерпеливо пояснила Иоганна Елизавета.
— Но ведь это свадебный подарок дяди ее высочества.
— Делайте, что вам приказано, фрейлейн Кайн!
Статс-дама замолчала. Ей оставалось только повиноваться.
Фикке сидела в подушках, и лицо у нее было очень печальное в ту минуту, когда к ней вошла Кайн.
— Здравствуйте, милая Кайн, — сказала она. — Вот я попробовала почитать склады, и оказывается, я все позабыла.
На коленях Фикке, остро торчавших под одеялом, лежала раскрытая русская азбука.
— Не всё сразу, не всё сразу, моя милая, дорогая Фикке! Надо Бога благодарить, что вы выздоравливаете. А книгу я уберу. Вам еще рано учиться.
И Кайн засуетилась возле постели. Поправила одеяло, подняла повыше подушки.
«Ну, точно Вилли. Похудела-то как! Не руки, а палочки».
Кайн с трудом сдерживала волнение, так ей было жаль Фикке. Страшно не хотелось говорить про материю, но не сказать было нельзя.
И она сказала.
В первую минуту Фикке так растерялась от неожиданной просьбы, что сразу ничего не ответила, только смотрела на Кайн встревоженными глазами. От худобы щек они казались огромными, эти синие глаза.
— Материю? Голубую с серебром? Ту, что подарил дядя? Может быть, вы не поняли маму, фрейлейн Кайн? — взволнованно, прижимая к груди руки, переспросила она.
Кайн только головой кивнула. Еще никогда в жизни она не была так возмущена Иоганной Елизаветой.
— Это ведь память из Цербста. Мне так не хочется с ней расставаться, — нерешительно звучал слабый голос Фикке. Но как только она это сказала, все колебания ее кончились. — Возьмите поскорей эту материю, фрейлейн Кайн, и отнесите маме, — решительно проговорила она.
Графиня Румянцева, наблюдавшая эту сцену из соседней комнаты, пришла в негодование и все рассказала государыне.
Императрица сейчас же прислала Фикке несколько кусков шелковых материй разных цветов. Между ними была и голубая, и тоже с серебром. Но Фикке она понравилась всего меньше именно потому, что она напоминала ее любимую, но была совсем другая. И цвет был не тот, и узор другой.
Неприятная материя!
Фикке казалось, что она навсегда разлюбила и голубой цвет, и серебряное шитье.
Вечерело, когда государыня, услышав, что Иоганна Елизавета уехала к принцессе Гессен-Гомбургской, пришла вместе с великим князем навестить Фикке.
Никогда еще не была она так нежна, как в этот вечер. Каждое ее слово, каждый взгляд были лаской. И ласков, и тих был золотой весенний закат, заглянувший в комнату сквозь зеленые гроденаплевые занавеси.
За окошком мелькали садовые ученики в серых кафтанах с красными воротниками и отворотами. В саду шла весенняя работа: перекапывались клумбы, дорожки настилались цветным камнем, чинились фонтаны и каскады.
Фикке вспомнились штеттинские вечера. Вспомнился Больгаген. Он приходил в такие же сумерки. Приходил и рассказывал. Вероятно, и государыне припомнилось многое. Она сидела молча и задумчиво смотрела через окно в сад, потом перевела глаза на Фикке, взглянула на племянника и сказала:
— Люблю, когда зацветает сирень. В селе Коломенском, где я родилась, ее много. Вот поправитесь, милая племянница, и мы съездим туда втроем. Дорожка там есть, вся в лиловой сирени. С сестрицей Аннушкой, твоей покойной матерью, — государыня нежно коснулась плеча сидевшего рядом с нею Петра Федоровича, — мы часто взапуски сбегали по ней к реке.
Елизавета остановилась, помолчала. То светлело, то темнело ее лицо от проносившихся в памяти воспоминаний.
— Кажется, не было весны краше той, когда батюшка из-за границы вернулся, — опять начала она.
— А в ту пору сколько было лет моей матери? — поинтересовался Петр Федорович. Он спросил по-немецки, хотя разговор шел по-французски. Но тетка на этот раз не остановила его, как делала это обыкновенно.
— Аннушке было одиннадцать, мне, значит, лет десять. И радовались же мы с матушкой, встречая батюшку! Нас тогда она в испанские платья для встречи нарядила.
И государыня, чувствуя, что заинтересовала «своих детей», как она часто в минуты нежности называла жениха и невесту, начала им рассказывать про свое детство и юность.
Рассказала она, как отец ее по возвращении из-за границы завел ассамблеи, то есть собрания, на которые являлись не одни мужчины, как это было принято до тех пор на Руси, а с женами и дочерьми. Как сам царь, чтобы подать пример, выводил своих девочек-дочерей на эти ассамблеи.
Сестер разодевали в шитые золотом и серебром платья, сделанные по заграничным фасонам, устраивали им прически из локонов и выводили к гостям.
— Робу газовую с серебряными цветами батюшка на мне больше всего любил, — рассказывала государыня. — Не раз говорил: «В этой робе ты, Лизанька, всего авантажнее».
— А что делали на этих ассамблеях? Как веселились? — спросила Фикке.
— Пожилые, как и теперь, играли в карты, в шахматы, курили, закусывали, попивали вино, а те, кто помоложе, танцевали. Английскую кадриль танцевали, польские танцы. А только я всего больше, как и теперь, менуэт и русскую любила. И так я эти танцы танцевала, что батюшка не выдерживал, бросал шахматы, карты и шел в танцевальную меня смотреть.
— Весело вам жилось, хорошо! — вырвалось у Фикке.
— Весело, хорошо, — подтвердила государыня. — Счастливое это было время. Зимой мы с батюшкой часто в санях катались. Летом на Неве — в лодках. Для этих случаев у нас даже с Аннушкой особый наряд был. Нарядом сардинских корабельщиков назывался. Кофточка канифасовая, юбочка красная, на голове небольшая круглая шапочка. Так мы в Петербурге катались. Вот и вас, милая племянница, в золоченой галерке покатаем. Поправляйтесь скорей. А ты, Петя, не подумай, что мы только веселились, — вдруг обернулась государыня к племяннику и, лукаво улыбаясь, пригрозила ему пальцем: — Дедушка твой и нам не давал лениться. Учились мы и по-немецки, и по-итальянски, и по-французски. И рада я теперь, что слушалась да училась. Жалею, что мало еще учили. Государям много чего знать требуется, — и, обратясь уже к Фикке, прибавила:
— Жду не дождусь, когда мы с вами по-русски поговорим. Вдвоем мы и с Петей справимся. И он у нас заговорит.
— Пробовала я на днях повторить пройденное... — начала было Фикке.
— Ах, да разве возможно вам уже заниматься! — Государыня даже руками всплеснула. — Утомлять вам себя нельзя. Вы только поправляйтесь, набирайтесь сил. Весной это скоро пойдет. А завтра я прикажу вам окошко в сад выставить. Воздух душистый, теплый.
X
Двадцать первого апреля Фикке исполнилось пятнадцать лет.
К этому дню она получила много поздравительных писем. Ей написали отец, бабушка, все тетки, Бабет. Даже от Фрица она получила письмо с целой кучей ошибок.
Бабет писала, что маленькая Елизавета уже начинает ходить, что бабушка, ее высочество герцогиня Альбертина Фредерика говорит, будто малютка вылитая мать, и что в этом году в их саду будет урожай тюльпанов.
Письма были получены накануне, и Фикке, ложась спать, положила их на ночной столик. Проснувшись, она все их опять перечитала, и ей сделалось грустно, что в такой день она далеко от своих. И даже когда увидится с ними, она не знала.
Ей вспомнился Цербст. Красные тюльпаны, ярко-зеленые лужайки, пруд, в котором чуть не утонули Вилли с Фрицем, детская маленькой Елизаветы. Все это Фикке любила по-прежнему, но еще меньше, чем прежде, хотела бы прожить в Цербсте свою жизнь.
Тетка Августа с ее птицами, мопсы другой тетки, унылые длинные вечера, разговоры о том, что давно переговорено...
В России Фикке точно проснулась от скучного сна.
В осторожно приоткрытую дверь заглянула в комнату Кайн:
— Вы уже проснулись, ваше высочество? Поздравляю вас.
И она подошла, улыбающаяся, разодетая в свое самое парадное шелковое платье. На спине ее развевались ленты праздничного чепца, а в руках был большой букет желтофиолей.
— В наших цербстских оранжереях они тоже распустились ко дню вашего рождения, — сказала она и, положив букет на одеяло, крепко расцеловала Фикке. Потом села на стул возле постели и принялась рассказывать: — Государыня хочет с пышностью отпраздновать день вашего рождения. Приемную при наших покоях начали убирать еще ночью при сальных свечах. Туда принесли из оранжерей пальмы и лавры, расставили большой стол для обеда, скатерть убрали по краям гирляндой из переплетенных алых и зеленых лент. Весь стол уставили цветами, а между ними кондитер — мастер-француз со своими учениками — разложил пирамидами всевозможные сладости. Это все для обеда приготовлено, а в большой дворцовой приемной все уже устроено к балу. В канделябрах и в люстрах вправлены перевитые золотом восковые свечи. В большом столовом покое, где будут ужинать, накрыты банкетные столы. Все в лентах, в цветах, целые горы конфект. Повсюду в огромных кадках цветущие померанцевые деревья. Можно задохнуться — такой от них запах!
Фикке заторопилась вставать. Сегодня она первый раз после болезни должна была показаться в приемных покоях. Она настолько поправилась, что радовалась этому, но, когда заглянула в зеркало, ей захотелось остаться у себя в комнате: такой ужасной она себе показалась. И не только себе.
Молоденькие фрейлины первый раз увидели принцессу после болезни и так были поражены ее видом, что не могли сдержать себя. После первых церемонных реверансов и поздравлений они заглушили птичий щебет за окошком своими возгласами:
— Ах, как вы изменились, ваше высочество! Вас узнать нельзя. И какая вы бледная! Как выросли! А это что же?
Фикке как раз причесывали, и гребень слоновой кости был весь покрыт волосами.
— Ах, ах! Вот ужасно-то! А вдруг вы сделаетесь совсем лысой?
Но в эту минуту в дверях показалась графиня Румянцева, и фрейлины, боявшиеся ее как огня, сразу прикусили язычок.
В белом платье, с белой лентой в волосах, Фикке встретила государыню и великого князя.
Государыня сама застегнула на ее шее свой подарок — бриллиантовое колье. Великий князь надел ей на руку бриллиантовый браслет.
Бледность и худоба невесты, особенно заметные в нарядном платье и высокой прическе, видимо, поразили и государыню, потому что она спросила, не хочет ли Фикке, чтобы отменили парадный обед и бал.
— Я боюсь, что это вам еще не по силам, дорогое дитя, — сказала она.
Но Фикке ответила, что чувствует себя хорошо. И ей действительно было хорошо и радостно. Особенно когда пришла в комнату и мать, и они сидели все вчетвером у открытого окна.
Деревья только что разлиствились, и из сада пахло свежей зеленью.
— Сегодня я хочу и вам сделать подарок, — обратилась государыня к Иоганне Елизавете. — Вот этим перстнем я скреплю наш дружеский союз. — Она сняла со своей руки кольцо и надела его на палец принцессы. — Много лет тому назад оно предназначалось для вашего брата.
Иоганна Елизавета в трогательных выражениях благодарила за подарок, но вид у нее был смущенный и растерянный.
Фикке встревожилась: «Что с матерью? Почему у нее такое странное, точно виноватое лицо?»
Но Иоганна Елизавета уже весело болтала и заливалась на всю комнату звонким смехом. Когда же она осталась вдвоем с дочерью, ее лицо сделалось озабоченным.
— Не знаю, что и делать, — сказала она. — Твой отец не соглашается на то, чтобы ты приняла православие, а государыня настаивает.
«Вот что встревожило маму», — с облегчением подумала Фикке. Ее всегда сильно угнетало, когда она чего-нибудь не могла себе объяснить.
— Позвольте, я напишу отцу. Жаль, конечно, что он сам не может поговорить с Симоном Тодорским. Я так уверена, что этот мудрый и почтенный человек убедил бы и его. У меня он уничтожил всякие колебания и сомнения. Я знаю, что должна делать. Уверена, что иначе и нельзя. Я хочу молиться в одной церкви с народом, и вера его должна быть моей верой. И мне легко и спокойно на душе с той поры, как я поняла это. Все, что говорил мне Тодорский, я напишу отцу, надеюсь, что мне удастся убедить и его.
— Конечно, напиши, и как можно скорее напиши, — только успела сказать Иоганна Елизавета.
В дверях стояла разряженная графиня Румянцева в широчайшей малиновой робе и с целой башней чужих волос на голове.
— Ваше высочество, вся приемная полна желающими приветствовать вас с торжественным днем вашего рождения.
Поздравления продолжались до самого обеда, который подали ровно в полдень. Обедали, как всегда в особенно торжественных случаях, на золотой посуде, и во все время обеда в маленькой приемной, рядом со столовым покоем, играл итальянский оркестр. Пили шампанское за здоровье ее высочества Софии Августы Фредерики принцессы Ангальт-Цербстской.
Никогда еще день рождения Фикке не праздновался с такой пышностью. Бледные щеки ее разгорелись ярким румянцем, глаза блестели. Она была очень довольна, но под конец обеда сильно устала. И когда подали кофе в фарфоровых чашках с синими травками по белому полю, нарочно для этого случая выданных из кладовой, государыня посоветовала ей пойти к себе в комнату отдохнуть.
Вечером, когда Фикке одевалась к балу, ей принесли от государыни баночку с румянами.
Тогда румяна были в такой моде, что дамы без них не обходились. Государыне же хотелось, чтобы ее любимица всем понравилась. Она боялась, что Фикке будет чересчур бледна.
Фикке попробовала подкрасить щеки, но, заглянув в зеркало, так себе не понравилась, что сейчас же все стерла. И ни одной мушки, из тех, которые ей подарила утром графиня Румянцева в золотой коробочке, не решилась себе налепить на лицо. Не решилась, хотя знала, что все дамы на балу будут с мушками.
Коробочка с мушками и табакерка считались тогда такой же необходимостью парадного туалета, как и веер. Фикке табаку не нюхала, но положила себе в карман золотую, усыпанную драгоценностями табакерку и золотой венецианский флакон для духов, или, как тогда называли, ароматик.
Эти две вещицы были подарками государыни, и ей не хотелось расставаться с ними. Еще раз, перед тем как выйти в залу, взглянула на себя в зеркало и нерешительно покосилась на баночку с румянами, но вовремя вспомнила свое накрашенное лицо. И хорошо поступила, что не накрасилась.
Волнение и смущение сделали ее как раз в меру румяной в ту минуту, когда она при блеске огней под сотнями устремленных на нее глаз открывала бал, танцуя менуэт со своим женихом.
И это был ее единственный танец за весь вечер. Больше танцевать ей не разрешили ни доктора, ни государыня. А когда она танцевала, ей вспомнился ее менуэт в Брауншвейге с Генрихом Прусским, граф Менгден, его предсказание: «...Три короны... Но быть может, их будет и еще больше»...
В парке зажгли иллюминацию.
Подстриженные аллеи, каналы, пруды — все выступило из темноты, точно опоясанное пестрыми ожерельями из разноцветных фонариков. Вечер был теплый, и приглашенные поспешили в сквозную галерею, а оттуда спустились в сад.
В опустевшем вдруг зале остались только Фикке и ее фрейлины. Она еще не могла выходить вечерами на воздух, и фрейлины скрепя сердце должны были остаться при ней.
Петр Федорович так любил иллюминацию, что одним из первых очутился в саду.
— Идите и вы в сад, веселитесь, — предложила Фикке фрейлинам.
— А как же вы? Останетесь одна, ваше высочество? — раздались нерешительные голоса.
— Я устала и сейчас же пройду к себе, — ответила она.
В эту минуту взвилась первая ракета. Фрейлины вскрикнули и, точно птицы из клетки, вылетели из зала.
Фикке еще немного постояла у окна — смотрела, как отъезжала от освещенной огнями пристани на пруду золоченая расписная галера, вся унизанная разноцветными фонарями. Ей казалось, что она различает государыню, мать, Разумовского, Нарышкина, Бецкого...
Она уже засыпала в своей комнате, а в саду и в покоях все еще горели праздничные огни и гремела музыка.
XI
Первого июня государыня с великим князем выехали из Москвы в Троице-Сергиеву лавру.
Это был так называемый «обетный поход».
Государыня совершала его ежегодно в память спасения своего отца в стенах обители во время стрелецкого бунта.
Принцессы остались в анненгофском дворце, и каждая опять устроила свою жизнь по-своему.
Иоганна Елизавета принялась за свои интриги. Болезнь дочери заставила ее на время забыть о Бестужеве. Теперь она наверстывала потерянное время.
Фикке тоже спешила наверстать упущенное. Училась еще усерднее, чем до болезни. Когда же ей хотелось отдохнуть, она звала своих фрейлин и гуляла с ними по огромному дворцовому парку. Часто они катались по подстриженным аллеям в маленькой, обитой бархатом колясочке, запряженной пони. Иногда садились в золоченую яхту, и гребцы, привязав над их головами зелеными лентами навес, катали их по садовым каналам.
Но и во время прогулок, среди смеха и болтовни, Фикке часто спрашивала, как называется по-русски тот или иной предмет.
Фрейлины только удивлялись. Говорить по-русски при дворе, где были увлечены всем французским, считалось почти неприличным. И почему принцесса, прекрасно владевшая французской речью, хотела учиться грубому языку, на котором говорили исключительно слуги,— этого они никак не могли понять, но было так смешно слушать, как ее высочество коверкала слова, как старалась добиться их правильного произношения, что они охотно подчинялись ее фантазии.
Принцессы думали, что проживут одни около двух недель.
Государыня часть пути в лавру всегда шла пешком, и это затягивало путешествие. Но на третий день во дворец неожиданно прискакал посланный. Он сообщил, что государыня ожидает принцесс на последнем переходе, чтобы вместе с ними торжественно войти в обитель.
Елизавета Петровна не выносила задержек и признавала только очень быструю езду. В угоду ей принцесс примчали к последнему переходу к лавре с такой быстротой, что они не успели прийти в себя от суеты неожиданных поспешных сборов. Едва их карета приблизилась к стоянке, как весь только их поджидавший поезд тронулся в путь.
Мимо кареты принцесс пронеслась украшенная резьбой золоченая карета государыни, запряженная в цуг белыми лошадьми с белыми султанами на головах. За каретой промчался отряд лейб-гусаров, промелькнули скороходы, лейб-пажи, лейб-форейторы в зеленых кафтанах с красными обшлагами. Наследник в мундире Кирасирского полка ехал верхом.
Фикке увидела, что лицо у него усталое, недовольное. Когда он поравнялся с их каретой, она закивала ему из окна. Он сразу увидел ее. Придержал лошадь.
Лицо у него сразу сделалось совсем другим. Но видно было, что удивился он очень. Он был уверен, что невеста в Москве. Но остановиться и расспросить было нельзя. Петр Федорович и так своей остановкой вызвал замешательство в поезде.
И великий князь ускакал.
Фикке его уже не видела. Карета ей вдруг показалась тесной и душной. Ей захотелось на простор.
Как хорошо было бы добежать до ближайшего леска, набрать цветов в поле!
Точно огромная змея, развертывался царский поезд среди зеленых полей и лесов, и, точно чешуя змеи, сверкали, переливаясь на ярком летнем солнце, золото, серебро и яркие краски его богатого убранства.
Замыкался поезд подводами, нагруженными дарами царицы для монастыря. Везли только что присланную икру, рыбу с Волги, холсты из пригородных поместий государыни, лимоны и мешки с медной казной для раздачи нищей братии. Далеко, чуть не за версту, по полям и лесам разносился гул царского обоза. Крестьяне, крестьянки, малые дети, деревенские попы с попадьями, прослышавши о царском поезде, спешили на дорогу.
Некоторые успевали захватить с собой что было лучшего в доме. Каждому хотелось кто чем богат поклониться государыне-матушке. Слух о ней шел, что не спесива царица и к простому народу ласкова. Говорили, что она на свадьбах у своих слуг не гнушается пировать, бедных невест сама к венцу одевает.
Заметив среди зеленого простора полей или у опушки леса серую кучку крестьян с согнутыми спинами, государыня иногда приказывала остановить лошадей. Трясущиеся от волнения и невольного страха мужицкие, заскорузлые на работе руки подавали в золоченую карету хлебные караваи, иногда еще теплые лепешки, оладьи, клюкву в расписных чашках, пучки пахучих ландышей.
Выползали на дорогу и дряхлые старики, и старухи чуть что не столетние, и нищие, и убогие, и калеки разные, и слепцы с поводырями. У царского поезда был доверенный, который наделял всех милостыней.
Не доезжая до лавры, поезд остановился. Государыня, а за нею вся свита и принцессы вышли из карет и пешком направились к обители, сверкавшей на солнце золотыми главами своих церквей. А из монастырских ворот им навстречу двинулись архимандрит с крестом в руках, духовенство в черных одеждах, в клобуках, с черными мантиями, монахи, семинаристы в белых одеждах с венками на головах и с зелеными ветвями в руках, певчие.
Под стройное пение молитв государыня, набожно склонив голову, прошла в монастырские ворота и направилась к так называемым царским кельям, где она останавливалась, когда бывала у Троицы.
Принцессам отвели помещение рядом с великим князем. Обедали все у себя. Общего стола не было. Всем нужен был отдых после дороги. Но едва принцессы кончили обедать, как к ним пришел наследник.
— Как я обрадовался! Просто не поверил глазам, когда увидал вас в окно кареты! — сказал он радостно возбужденным голосом. — Но почему случилась такая перемена? Зачем вас вызвали?
— Зачем? — Принцессы и сами этого не знали. Но они были в восторге и от дороги, и от того, что им пришлось увидеть.
— Вероятно, государыне просто захотелось, чтобы мы посмотрели на все это, — решила Иоганна Елизавета, и все успокоились на этой мысли.
Принцессам хотелось знать, как все будет дальше, что им еще покажут, куда поведут.
— А мне больше всего хотелось бы на простор, в поле, в лес. Какие тропинки я видела из окна кареты! — вдруг сказала Фикке. — В лесу еще ландыши есть...
У Петра Федоровича оживилось лицо:
— Вот отлично-то! Пойдем... И как можно скорей. Надо же наконец мне с вами набрать букет ландышей. Давно ведь собираемся. С самого Эйтина... — И вдруг остановился. Лицо его точно потемнело. — Без разрешения нам идти никуда нельзя, — с раздражением вырвалось у него. — Государыня...
К этому он не успел прибавить ни слова. Дверь с шумом распахнулась. На пороге стояла сама государыня, и они все трое замерли под ее гневным взглядом.
Лицо, которое Фикке привыкла видеть светлым и ласковым, точно потемнело. Глубокие складки прорезали высокий лоб. Государыня тяжело дышала, а когда заговорила, голос ее обрывался.
— Прошу вас, ваше высочество, последовать за мной в соседнюю комнату, — обратилась она к Иоганне Елизавете.
Та вспыхнула, как-то вся сжалась и покорно, не проронив ни слова, заторопилась за государыней.
— Что же это? Что случилось? — спрашивала жениха пораженная Фикке. Но он ничего не понимал. Они стояли растерянные, испуганно прислушиваясь к доносившемуся громкому гневному голосу императрицы.
Через комнату, не обратив на них никакого внимания, торопливо прошел граф Лесток. Разговор в соседней комнате сделался еще громче. Доносились отдельные слова, но понять, в чем дело, было нельзя.
— Что же это? Государыня гневается. Мне кажется, что мать плачет, — сама чуть не плача, говорила Фикке.
Дверь, за которой разговаривали, в эту минуту опять открылась. Вышел Лесток.
Теперь он сразу увидел принцессу и наследника и направился прямо к окошку.
— А ведь вам, пожалуй, придется укладываться, — сказал он, обращаясь к Фикке. — Укладываться и ехать обратно домой в Цербст.
И прежде чем жених с невестой успели опомниться от этих неожиданных и грубых слов, шаги Лестока уже тяжело и гулко отдавались по всему длинному монастырскому коридору.
«Домой? Куда же это? — подумала Фикке. — Разве Цербст теперь мой дом?»
От волнения у нее подгибались ноги.
— Что же все это значит? — спросила она жениха.
— Уж и не понимаю, — с растерянным видом ответил он. — Но с тетей это бывает. Иногда так сразу рассердится, что ужас, а потом все так же сразу у нее и пройдет. Может быть, и теперь все обойдется. Давайте присядем. Вот здесь, на подоконник. У меня ноги даже трясутся.
Они оба взобрались на подоконник и замерли, прислушиваясь к тому, что происходило в соседней комнате.
Когда государыня вдруг показалась в дверях, оба разом вздрогнули и заторопились соскочить с подоконника. А она остановилась, посмотрела на них и улыбнулась. Уж очень смешными детьми показались они ей. И чем больше она на них смотрела, тем смешнее ей становилось. Лица у обоих были испуганные, с подоконника они так и не соскочили, все еще сидели, и ноги их не доставали до полу.
Государыня подошла к ним, со смехом крепко расцеловала обоих и ушла, не сказав ни слова.
Фикке, уже когда государыня ее целовала, знала, что в Цербст ее не отошлют, но она много и долго страдала от всей этой истории, в которой была замешана ее мать.
Дело было в том, что враги, думавшие погубить Бестужева, сами попались ему в руки.
Иоганна Елизавета дружила с маркизом де ла Шетарди и, не скрываясь, поверяла ему все свои огорчения и неудовольствия. Шетарди же как раз в это время был всем недоволен. Он считал себя одним из участников переворота и думал, что будет первым лицом при дворе, мечтал влиять на государыню, принимать участие в управлении государством. Но Елизавета сразу поняла, что интересы Франции другие, чем интересы России, и стала отдалять от себя посла. Разочарованный и раздраженный неудачей, он срывал свое раздражение: насмехался над государыней, даже бранил ее.
В таком духе он и составлял свои депеши во Францию. Для того чтобы придать им больше веса, он подкреплял их неосторожными словами Иоганны Елизаветы. Писал подробно, что они делают, чтобы уничтожить Бестужева, сообщал, что принцесса Цербстская получила на этот счет полномочия от короля прусского.
Все эти депеши были перехвачены, доставлены Бестужеву, а тот передал их самой государыне.
Шетарди был сейчас же арестован, у него отобрали пожалованные ему ордена и приказали в двадцать четыре часа выехать из Москвы и, не заезжая в Петербург, через Ригу ехать к себе обратно во Францию. Иоганне Елизавете был сделан «строжайший выговор, и поставлено на вид, что неуместно ей в ее положении вмешиваться в дела, которые никоим образом ее касаться не могут».
Тем и кончилась эта неприятная история.
Но государыня о ней уже никогда не забывала. С Иоганной Елизаветой она обращалась очень холодно.
Обласканная ею принцесса слишком оскорбила и огорчила ее. Относиться к ней по-прежнему доверчиво и ласково Елизавета Петровна уже не могла. Фикке видела это, страдала за мать, жалела ее, но понимала, что государыня права.
С Фикке Елизавета Петровна была еще ласковее и нежнее, чем прежде.
Через несколько дней после возвращения из лавры получили наконец и давно ожидаемый ответ Христиана Августа на письмо дочери. Он давал свое согласие на то, чтобы она приняла православие.
Государыня и великий князь были очень рады. Великий князь выпросил себе письмо и несколько дней с ним не расставался, носил его в рукаве, постоянно перечитывал и даже целовал.
После ответа Христиана Августа начали готовить Фикке к принятию православия. Оно было назначено на двадцать восьмое июня, а двадцать девятого, в день именин великого князя, должно было состояться обручение.
До двадцать восьмого оставалось всего две недели. Теперь Симон Тодорский стал ходить к Фикке ежедневно, и занимались они по два часа. Фикке надо было к двадцать восьмому знать наизусть весь Символ Веры. По-русски она едва составляла самые простые фразы. В Символе — не понимала ни слова. Ее учитель перевел молитву на немецкий язык, и уже потом Фикке принялась учить ее наизусть по-русски. Ужасно трудно было справиться с непривычными словами, но наконец она все выучила. Симон Тодорский остался доволен и похвалил свою ученицу.
Но Фикке захотелось еще раз проверить себя, и она попросила русского учителя Ададурова выслушать ее. Тот остановил ее на первых же словах. Симон Тодорский был малоросс и выучил Фикке украинскому произношению.
— Так нельзя, — горячился Ададуров. — Вы будете говорить молитву при целой толпе народа. Над вами будут смеяться.
Фикке растерялась. Она так трудилась, так была уверена, что все хорошо, и вдруг оказывается, что все ее труды пропали.
— Что же мне делать? — спрашивала она Ададурова.
Но Ададуров тоже не знал, что делать. Решили пригласить на совет Симона Тодорского. Фикке еще раз начала читать Символ. Ададуров ее останавливал, поправлял. Симон Тодорский не соглашался с поправками. Оба учителя разгорячились, стали спорить, доказывать друг другу свою правоту. Ученица недоумевающе переводила глаза с одного учителя на другого. Которому из них поверить, она положительно не знала. Оба говорили с одинаковым жаром, с одинаковой убедительностью, и оба, как видно, одинаково верили в свою правоту.
Спор так ничем и не кончился. Наставники разошлись очень недовольные друг другом и в своем волнении как-то совсем забыли о главной виновнице спора.
«Что же мне теперь делать?» — недоумевала Фикке.
Она решила посоветоваться с женихом. Но и тот не мог ей ничего сказать наверное. Слишком плохо знал русский язык. Пришлось Фикке разбираться во всей этой истории самой. Она принялась расспрашивать, соображать, и скоро для нее стало ясно, что нужно послушаться Ададурова.
Как только она это поняла, так, уже не теряя времени, заново переучила весь Символ.
За три дня до двадцать восьмого июня она начала поститься и почти не выходила из своей комнаты.
Иоганну Елизавету смущало серьезное, сосредоточенное лицо дочери. Оно ей мешало смеяться, говорить о привычных вещах. Каждый раз, когда она заходила к Фикке, она чувствовала себя так неуютно, что спешила как можно скорей уйти из комнаты.
Накануне двадцать восьмого к невесте зашел великий князь.
— Я соскучился и пришел посидеть с вами. Вы позволите, Фигхен? — спросил он. Они называли друг друга по именам с той поры, как было получено письмо от Христиана Августа.
— Через день уже не будет больше Фигхен: София Августа Фредерика сделается Екатериной Алексеевной. — Фикке улыбалась, но голос у нее был серьезный.
— Могли бы вам оставить хотя бы Софию. Ведь это тоже православное имя, — заметил Петр Федорович.
— Нет, это совсем невозможно. Разве вы забыли, что так звали сестру вашего дедушки? Царевна Софья сделала столько зла отцу государыни, что ей тяжело о ней вспоминать.
Фикке немного помолчала, а потом проговорила:
— Да я и не жалею, что имя мое переменится. Через день для меня ведь изменится все. Я точно стою у запертых дверей. За ними останется все, что было моим, и чужая страна сделается моей, чужой народ станет моим народом, и вера его будет моей верой.
Петр Федорович с удивлением смотрел на Фикке. Странно и торжественно прозвучали эти ее последние слова. В эту минуту она показалась ему такой чужой и непонятной, что он почувствовал себя одиноким.
— Мне иногда кажется, что о стране вы думаете больше, чем обо мне, — обиженно, с укором глядя на нее, проговорил он.
Она как будто растерялась от этих его слов. Не сразу ответила. Молчала, проверяя себя.
— Мы будем вместе любить наше новое Отечество, нашу прекрасную огромную страну, — сказала она. — Вместе любить, вместе учиться, вместе работать. Хотите?
И она протянула ему руку.
Он послушно подал ей свою и, подчиняясь ее голосу, захваченный силой, которая была в ней, ответил:
— Хочу.
«Вера народа становится моей верой!» — Так думала Фикке, когда на другой день шла торжественно рядом с взволнованной государыней через толпу придворных в дворцовую церковь. Опустив глаза, с бледным и серьезным лицом, встала она на колени в назначенном для нее месте. Она очень волновалась, но Символ Веры прочла громко, внятно и с таким глубоким чувством, что и государыня, и многие из бывших в церкви плакали от умиления.
В этот же вечер двор переехал в Кремль.
На следующее утро — это были как раз именины наследника — в Успенском соборе состоялось обручение, и после него архиепископ прочел указ, которым повелевалось принцессу Цербстскую Софию Августу Фредерику, нареченную Екатериной Алексеевной, почитать русскою великою княжною с наименованием «ее Императорским Высочеством».
Целый день до обеда шли поздравления. Поздравлял Синод, Сенат, послы, сановники. Гудели колокола, палили пушки. За обедом новая великая княжна Екатерина Алексеевна сидела на троне вместе с государыней и наследником. С этого дня Екатерина Алексеевна всюду показывалась вместе со своим женихом.
В это время начались празднества по поводу мира со Швецией. Мир этот был заключен еще год тому назад, но празднества все откладывали. Так было много торжеств, что приходилось соблюдать очередь.
Екатерина Алексеевна была и в Кремле на молебствии, и в Грановитой палате, где раздавались награды и повышения.
Как раз в это время был наконец подписан союз с Австрией, о котором хлопотал Бестужев, и граф был пожалован «великим канцлером».
Екатерина Алексеевна подошла поздравить старика с таким радостным видом, что он не устоял, и, вероятно, на этот раз «льстивое лицо» не выглянуло на него из-за плеча великой княжны, потому что он ответил ей тоже радостным и ласковым взглядом.
Едва кончились празднества по поводу мира, государыня приказала жениху с невестой и ее матерью «без замедления и с поспешностью» собраться в дальнюю дорогу — в Киев. Сама она располагала выехать туда же на другой день.
Давно, с самых первых дней царствования, задумала Елизавета Петровна побывать на Украине. Хотелось ей поклониться святыням киевским и своими глазами взглянуть на красоту Украины, о которой ей столько рассказывал «ее друг нелицемерный», как она его называла, Алексей Григорьевич Разумовский.
Давно и дороги везде починили, и мосты поправили, и дворцы для остановок построили, и версты раскрашенные везде поставили, а государыня все не трогалась в путь. Мешала война со шведами, мешало прихварывание наследника, задержал приезд невесты, ее болезнь, потом обручение.
Теперь, когда все было наконец устроено, государыня решила тронуться в долгий путь.
XII
Накануне отъезда, уже в сумерки, после катания на лодке, Екатерина Алексеевна пришла по зову государыни в ее опочивальню и застала ее в любимом для домашнего отдыха наряде — в белой канифасовой кофточке, в серой юбке, с белым платочком на голове. Елизавета Петровна сидела в кресле и, подпершись рукой, слушала Анну Степановну, которая, примостившись у ее ног на скамеечке, рассказывала ей сказку.
— Обождите немного, милое дитя, — обратилась Елизавета Петровна к вошедшей княжне. — Давно мне не было досуга послушать Анну Степановну. А я люблю ее сказки, напоминают они мне далекое светлое детство в родном селе Коломенском... Сюда присядьте. — Она указала на стул возле своего кресла. — А ты, Анна Степановна, опять уж с самого начала сказывай.
— В некотором царстве, в некотором государстве... — послушно начинает Анна Степановна.
Екатерина Алексеевна старается схватить непривычные слова, старается понять их смысл.
«В некотором царстве, в некотором государстве», — повторяет она про себя. Но сказка не ждет. Хочет Екатерина Алексеевна поймать слова, а они, как жемчуг, спущенный с нитки, одно за другим так и катятся. Не поймать, не удержать их.
Слушает Екатерина Алексеевна сказку, как слушают журчание реки.
В комнате пахнет свежим черносмородинным вареньем. Государыня с ним только что чай пила.
С большой клумбы потянуло политыми перед вечером левкоями, резедой. Клумба под самым окошком, но ее не видно. Государынина спальня во втором этаже.
Смотрит Екатерина Алексеевна на потухшее небо, на государыню смотрит. Без румян, с гладкими волосами Елизавета Петровна кажется ей еще красивее, чем всегда.
К концу сказки подходит Анна Степановна. Захватила ее речь заветная, речь о великой земле поднебесной, с ее реками глубокими, с раздольицами широкими, с лесами темными, непроходимыми.
Молодо и звонко голос ее звучит, и сама она точно помолодела. А когда кончила, государыня обернулась к Екатерине Алексеевне и сказала:
— Жаль, что вы этого еще понять не можете.
— Пока слушала, казалось мне, что я все понимаю. Это странно, но это так, — ответила Екатерина Алексеевна. И, помолчав, прибавила: — В музыке ведь тоже слов нет.
— Скоро, надеюсь, вы и слова понимать будете. Ведь вы продолжаете учиться по-русски, дорогая племянница? — С этими словами государыня поцеловала княжну. Звала же я вас вот зачем, — сразу перейдя на деловой тон, продолжала она. — Двадцать шестого, значит, завтра, в четыре часа пополудни, вы с вашей матушкой и великим князем выезжаете из Москвы. Я еду днем позднее, но в Козельце мы съедемся и в Киев уже въедем все вместе. Посмотрите вы нашу Русь, дорогая племянница, а вернемся в Москву, вместе станем слушать сказки Анны Степановны. Она и поет чудесно.
— Певала когда-то, а теперь уж время мое не то, чтобы петь, — отозвалась Анна Степановна, прибиравшая чайную посуду.
— Не скромничай, — шутливо остановила ее государыня и, обратившись к великой княжне, прибавила: — Когда вернемся, и сказки, и песни будем слушать.
Но так долго дожидаться сказок Екатерине Алексеевне не пришлось.
На другой же день, как только она с матерью, Кайн и графиней Румянцевой села в дорожную карету, самая первая сказочница, сама Русь великая, принялась рассказывать сказки новой княжне.
Но не сразу Екатерина Алексеевна расслышала их.
Мешала ей духота в карете, жара, пыль невыносимая. И дурное настроение спутниц мешало.
Все друзья Иоганны Елизаветы остались в Москве, а графиню Румянцеву, которую ей посадили в карету, она терпеть не могла. Старуха тоже с трудом выносила принцессу. Характер у графини вообще был не из приятных, а жара и отсутствие привычной карточной игры делали ее особенно придирчивой. Третья спутница — Кайн сразу впала в мрачность и стала припоминать разные случаи солнечных ударов.
— Ах, Боже мой, Боже мой! — поднимая руки, вздыхала она. — В этой стране ни в чем нет приятной середины. Зимой здесь люди замерзают, летом пекутся. Мне говорили, что до этого Киева целых семьсот пятьдесят верст. Удивительно будет, если мы благополучно доберемся туда.
И в карете Петра Федоровича было не веселее.
Ехал он с Брюммером и двумя офицерами, его помощниками. Брюммер, как всегда, делал ему замечания, давал советы на будущее, вспоминал оплошности прошлого.
— Невыносимо! — пожаловался Петр Федорович на одной из стоянок своей невесте. — На зубах у меня песок хрустит, от пыли дышать нечем, а тут еще Брюммер досаждает. Выдержать невозможно!
— Да и у нас тоже невесело, — сказала Екатерина Алексеевна. — Надо что-нибудь придумать.
И они стали обсуждать, как бы им получше устроиться. Кончилось тем, что придумали, и придумали отлично.
Потихоньку от Брюммера великий князь приказал в повозке с постелями устроить сиденья из досок. На следующей же стоянке все было готово, и Иоганна Елизавета была посвящена в заговор. Ей тоже было невыносимо скучно в ее карете. Она обрадовалась повозке и веселому приятному обществу молодых остроумных людей.
Помощники Брюммера, отправленные на поиски за исчезнувшим великим князем, выбились из сил, но Петра Федоровича так и не нашли. Брюммер был вне себя от раздражения. Пошел искать сам. Из повозки наблюдали за всем переполохом, смеялись над Брюммером, а когда он заглянул туда, то и Петр Федорович, и его невеста, и Иоганна Елизавета, и все их спутники со смехом заявили ему, что из повозки никого не выпустят и туда больше не примут ни одного человека, что у них такой договор и что они поклялись его не нарушать даже в том случае, если бы им пришлось стоять на одном месте целый год.
Оглушенный шумом, смехом и криком, Брюммер уступил и, ворча, уселся в свою карету, а Петр Федорович так больше к своим наставникам не возвращался.
Теперь ехать было превесело. Смех и шутки в повозке ни на минуту не прекращались. В карете первое время дулись и ворчали, а потом догадались и для себя подобрать подходящее общество. Когда же появились карты, то игроки забыли не только о повозке, но и обо всем на свете. Ни жары, ни духоты, ни пыли больше не замечали.
А по обеим сторонам дороги расстилались золотые, уже созревшие поля, пестрели цветами луга, покрытые второй травой, шумели темные густые леса, серебряными лентами среди зеленого простора бежали быстрые полноводные реки.
Великая земля поднебесная, всей красотой лета украшенная, свои сказки новой русской княжне говорила. Слушала их Екатерина Алексеевна, в помутневшее от дорожной пыли каретное окно смотрела.
— Царство мое, царство прекрасное! — тихо шептала она, вспоминая слова сказки.
Остановилась карета среди цветущего луга. До путевого дворца, где будут ночевать, уже близко. Успеют до темноты доехать, а в лугах в закатный час так хорошо, что всех потянуло на простор из душной, пропыленной повозки. Все по лугу разошлись, цветы собирают.
У Екатерины Алексеевны в руках уже целый сноп, а ей все мало.
— Еще, еще! — просит она, и Петр Федорович рвет ей цветы.
— Ромашек на длинных стеблях, пожалуйста, — говорит она. — Какая красота. Хорошо как!
И она смотрит вокруг восхищенными глазами. А Петру Федоровичу вдруг делается грустно. Ему всегда бывает тоскливо, когда что-нибудь напоминает родину. Зеленые луга как и там, возле Киля и Эйтина, а милая сердцу Голштиния так далеко...
— Что же бы вы сказали, если бы попали на наши голштинские луга? Там вот действительно чудесно, — проговорил он.
Но Екатерина Алексеевна не верит в голштинские луга.
— Такой красоты, как здесь, нигде нет и не может быть, — с убеждением произносит она.
Петр Федорович обижается. Он начинает спорить, бранить Россию.
Екатерина Алексеевна примолкла. Ей делается тоскливо.
Было так хорошо, и вдруг ссора, и как глупо ссориться в такой вечер.
— Пьер, милый, — нежданной лаской звучит ее голос, — давайте скорей вашу руку и бежим вон до того пригорка.
Петр Федорович сразу меняется. Он будто светлеет, и тонкое лицо его делается прекрасным. Взявшись за руки, они бегут, теряя по пути набранные цветы. Петр Федорович хочет остановиться, поднять ромашки, но она не выпускает его руки.
Хорошо ей мчаться с ним по цветущему лугу. От травы легкий холодок и душистая сырость, волны теплого воздуха от разогретой дневным жаром земли...
— Где вы? Ехать пора! — кричат им с дороги, из остановившейся повозки.
Еще в Москве было решено, что великокняжеский поезд съедется с поездом государыни только в Козельце на Украине. Здесь, возле хутора Лемеши, где прошло детство Разумовского, построил он для приема государыни роскошный дворец. В наскоро же сколоченных путевых дворцах по дороге через Серпухов, Тулу и Севск не было достаточно места для приема обоих поездов, и потому их разделили. Первым отправили меньший, великокняжеский, и уже за ним тронулся настоящий — царский. Свиты одной в этом поезде было больше двухсот человек, карет около сотни. На каждой стоянке для перемены требовалось не менее восьмисот лошадей. А сколько провианта нужно было, чтобы всех накормить! Сколько курят, индюшат, свиней, поросят, разной рыбы, яиц, масла, крупы, муки, сена, овса должны были поставить для царского поезда местные помещики и крестьяне!
Все это везли и гнали к путевым дворцам. Государыня в Москве задержалась, а когда выехала, то ехала не торопясь. Развлекалась по пути охотой и прогулками пешком. Задерживали и встречи. Повсюду приветствовали ее колокольным звоном и выходили к ней с крестным ходом. Как только показывались хоругви, она останавливала карету и в каждый город входила пешком.
Под Глуховом, на границе Украины, государыню встретили войска в новых синих кафтанах, в широчайших шароварах и в разноцветных по полкáм шапках. В Глухове, в Батурине и в Нежине царицу принимали малороссийские старшины и провожали ее карету от одного города до другого верхом с обнаженными саблями. Вечерами на стоянках жены и дочери знатнейших малороссиян в богатых национальных нарядах веселили царицу песнями и плясками.
— Дай, Господи, чтобы ты в царствии своем возлюбил меня, как полюбила я эту страну светлую, с ее народом ласковым и незлобивым, — говорила очарованная Украиной государыня.
А Разумовский радовался, что она полюбила его прекрасную родину.
Задолго до приезда начал он хлопотать, чтобы и Украину, и семью его государыня увидела в самом привлекательном свете. Много писем с наставлениями о том, как следует держать себя при приеме царицы, получали от него и родные, и мать его Наталья Дементьевна, или Разумиха, как все ее называли.
Но Наталью Дементьевну учить было нечего. Она все сама знала прекрасно. Государыню она встретила в Нежине, в малороссийском наряде, с портретом Елизаветы Петровны на голубой ленте через плечо. Этот портрет вместе со званием статс-дамы был ей пожалован, когда она ехала на коронацию в Москву.
Вместе с Натальей Дементьевной государыня и в Козелец приехала.
Огромный дворец сразу сделался тесным — столько народу в него нахлынуло.
Екатерина Алексеевна занимала всего одну комнату с матерью. Кайн и графиню Румянцеву поместили в прихожей. Петра Федоровича поселили вместе с Брюммером.
Теснота раздражала всех.
Иоганна Елизавета как-то раз раскричалась на великого князя за то, что он опрокинул ее шкатулку с драгоценностями.
— Вы это сделали нарочно, — укоряла она его и не хотела слушать никаких объяснений.
Попробовала заступиться за жениха Екатерина Алексеевна, но мать и ее выбранила. В раздражении Иоганна Елизавета бывала очень несдержанной. А Петр Федорович долго помнил обиды, и отношения между ними испортились. Как ни старалась Екатерина Алексеевна примирить жениха с матерью, из ее стараний ровно ничего не вышло.
И вообще жизнь в Козельце слагалась для Екатерины Алексеевны как-то невесело. Все собравшееся общество или охотилось, или играло в карты. Екатерина Алексеевна из-за болезни не успела научиться ездить верхом и потому в охотах участия не принимала. Карты она не любила, а Петр Федорович увлекался и тем и другим.
Екатерина Алексеевна страдала от одиночества, заброшенности, но из гордости делала вид, что чувствует себя прекрасно.
Как-то раз, когда она, проводив веселую кавалькаду, сидела одна у себя в комнате, к ней неожиданно зашла Наталья Дементьевна и предложила проехаться на ее хутор Алексеевщину.
С этого дня началась их дружба.
К этому времени Екатерина Алексеевна уже сделала такие успехи в русском языке, что могла понимать даже Разумиху, постоянно пересыпавшую свою речь малороссийскими словами. Слушать Наталью Дементьевну она могла без конца. И хутор ее она полюбила. Любила весь белый снаружи и внутри дом среди большого фруктового сада. Любила веселых дочерей Разумихи. Одна из них была замужем за ткачом, другая за портным, третья за простым казаком. Все внуки и разные племянники и племянницы, наполнявшие дом, были милы Екатерине Алексеевне. Но милее всех была ей сама хозяйка с ее постоянными рассказами об удачливых сыновьях:
— Алеша и Кирюша у меня с малых лет счастливчиками были. В лес соберутся — больше всех ребят ягод или грибов натащут, а как в пастухи нанялись, сразу люди приметили, что скотина добреть начала.
И после этих рассказов еще больше нравился Екатерине Алексеевне бывший лемешевский пастух — граф Алексей Григорьевич Разумовский. Задаренный, окруженный всеми почестями и величием, какие только могут присниться человеку, он делался добрее от всякой новой удачи.
— А где теперь Кирилл Григорьевич? — поинтересовалась Екатерина Алексеевна.
— За границей Кирилл. Учится там, — с гордостью ответила Разумиха. — Для чести дома, для порадования семьи отправил его Алеша.
И про сон свой вещий рассказала Разумиха.
Когда сыновья еще маленькие были, а она бедной вдовой нанималась чужие хаты мазать, приснилось ей, что в ее хате под потолком и солнце, и месяц, и звезды вдруг в один раз засветились.
«В некотором царстве, в некотором государстве...» — вспоминается Екатерине Алексеевне. Приставить начало это к рассказам Натальи Дементьевны — сказка о счастье выйдет.
Сказочная, счастливая страна! Ласковое синее небо, темные теплые ночи с крупными золотыми звездами, белые хаты, огороды, садочки, звонкие песни...
И Наталья Дементьевна полюбила княжну. Только хотя и полюбила, но не сразу согласилась к ней на свадьбу приехать.
— Зовет государыня, а я все раздумываю, — говорила она. — Уж очень скучно да трудно там у вас. Долго выдержать я и в первый приезд не могла.
И она рассказала, как по зову государыни поехала она к ней в гости, когда Елизавета Петровна только что сделалась царицей.
— Приехала я в малороссийской рубахе, в плахте, в монистах, в очипке на голове. Все самое лучшее для такого случая надела, а и это нехорошо показалось. Мигом меня напудрили, нарумянили, высокую прическу сделали, мушек налепили, нарядили в фижмы и велели, как только государыня покажется, разом на колени стать. Вывели меня в большую залу, и не успела я оглядеться, как с другого конца мне навстречу государыня идет. Не долго думая, бухнулась я на колени. Опомнилась от такого хохота, какого в жизни моей не слыхала. Насмешила я всех: ведь за государыню-то я сама себя в зеркале приняла. Никогда я таких огромных зеркал в глаза не видала, да и себя-то в фижмах, да в прическе, да нарумяненную признать не могла. Вот что у меня вышло.
И долго вместе с Натальей Дементьевной смеялась Екатерина Алексеевна над ее рассказом.
— А только я скоро все эти робы, пудру да мушки забросила, — продолжала Разумиха. — Без всего этого непривычного мне полегче сделалось. Но хотя и хорошо мне во дворце было, хоть и ласки и почета много видела, а долго все-таки выдержать не могла. По дому соскучилась, по своему садочку, по добрым ласковым соседям. Уж назад к себе на Украину и добраться не чаяла.
Жаль было расставаться с Алексеевщиной великой княжне, но в последних числах августа, отгостив в Козельце две недели, великокняжеский поезд, на этот раз уже вместе с государыниным, выехал в Киев.
На берегу синего Днепра, как раз у моста к раскинутому по холмам городу, встретило государыню все население. В золоченой колеснице, запряженной крылатыми конями, которых представляли рослые и крепкие семинаристы, окруженный воспитанниками духовной академии, наряженными греческими богами и героями, к Елизавете Петровне подъехал величественный старик с короною на голове и с золотым жезлом в руках. Старик изображал основателя города киевского князя Кия. Он обратился к государыне с торжественной речью, приветствуя ее как свою наследницу, и в заключение вручил ей золотые ключи от города.
В Киеве государыня пробыла с неделю.
Она ходила по церквам и монастырям. Везде оставляла богатые вклады, помогала нищим, убогим.
Екатерина Алексеевна и Петр Федорович в этих ее богомольных походах почти не принимали участия. Государыня находила, что им по слабости здоровья следует избегать утомления. На поклонение угодникам она их тоже не взяла. Боялась, что им повредит сырой и спертый воздух в пещерах. Предоставленные самим себе, они пользовались свободой, гуляли по городу и катались в лодках по Днепру.
Восьмого сентября поезд тронулся в обратный путь.
— Боже мой, Боже мой! На семьсот пятьдесят верст ни одного владетеля, кроме нашей государыни! Какое обширное, какое богатое владение! — восхищается Кайн.
Екатерина Алексеевна и Кайн сохраняют бодрость, а всех других путешествие заметно утомило. Хорошие дни, по мере того как отъезжают от Киева, становятся все реже. Колеса вязнут в размытых дождями дорожных колеях.
В наскоро поставленных путевых дворцах дует во все щели.
— Добраться бы поскорей до Москвы! Сегодня ночью я не мог заснуть от холода. Ну и постройки же в этой варварской стране! — возмущается Петр Федорович.
У Екатерины Алексеевны тоже застыли руки, и она, стараясь их отогреть, прикладывает ладони к жарко натопленной печке.
— Грейтесь же, — советует она жениху. — Только долго не держите — обжигает.
И они оба, уже со смехом, хлопают руками по горячим стенкам печки.
— Жалею, что у меня нет ни слуха, ни голоса, — говорит Екатерина Алексеевна. — Вспомнила я песенку, которой меня в детстве моя француженка Бабет научила. Мне кажется, что там о домах вроде этих поется. И так хочется мне ее спеть, что я спою. Ничего, что без голоса. — И она не очень верно, но очень весело стала напевать.
И вышло это так увлекательно, что Петр Федорович стал тоже подпевать, и при этом они оба громко хлопали руками об печку.
А потом опять подали лошадей, и опять мимо каретных окошек потянулась бурая щетина сжатых полей, озерки застоявшейся дождевой воды на лугах, пожелтевшие, а местами и совсем уже безлиственные леса.
Кое-где среди равнины под серым небом чернели отдельные фигуры людей. Запоздавшие с работой крестьяне допахивали землю под холодным и мелким осенним дождем.
Но проглядывало солнце, и вместе с сеткой дождя развеивало осеннюю печаль. Золотом загоралась уцелевшая листва, зелень озимой делалась изумрудной, и, точно крупные кораллы, свисали с тонких, гибких ветвей гроздья рдяной рябины.
Под конец дорога утомила и Екатерину Алексеевну, но, когда первого октября поезд въехал в Москву, ей стало жаль всего, что она оставляла за собой.
Много сказок своей будущей царице рассказала за два месяца великая земля поднебесная.
XIII
— Теперь я должна завершить дело, начатое мною для блага России и для счастья племянника,— сказала государыня в первый же день своего возвращения в Москву. — Я убедилась, что бывшая принцесса Цербстская, а нынешняя русская великая княжна Екатерина Алексеевна в высшей степени одарена всеми качествами, необходимыми для ее будущего высокого положения. Отпразднуем же свадьбу наследника русского престола со всей подобающей случаю пышностью и великолепием!
И она приказала своим послам в разных странах Европы «с поспешением» собрать и выслать ей в Петербург описания всех прославленных свадебных торжеств.
Но выехать в Петербург так скоро, как хотела государыня, не удалось. Помешала распутица. Зима запаздывала. Осень затянулась.
Под стук почти непрерывного дождя и под свист ветра, трепавшего деревья в аннингофском саду, Иоганна Елизавета особенно остро почувствовала разочарование. Большая роль в большой стране ей положительно не удалась. Христиан Август соскучился без жены и детей, писал грустные письма. Иоганну Елизавету стало тянуть домой. Скуки она не боялась: мать наследницы русского престола при каждом дворе будет всегда желанной и почетной гостьей. В этом она не сомневалась. Отъезда из Москвы ждала с нетерпением.
Но когда выпал наконец запоздавший снег, случилась новая задержка: заболел корью великий князь.
При слабом здоровье наследника всякая болезнь была опасна. Государыня и весь двор встревожились. Корь, к счастью, оказалась слабой, но поправление шло медленно.
Только пятнадцатого декабря великокняжеский поезд с женихом, невестой и Иоганной Елизаветой был отправлен наконец в Петербург.
Когда сани уже готовы были тронуться, государыня, накинув шубу, вышла на крыльцо.
День стоял солнечный, тихий, но сильно морозило.
— Только бы вы еще не простудились в дороге, — говорила государыня.
Перекрестив и поцеловав побледневшего после болезни племянника, она подошла к саням Екатерины Алексеевны и поплотнее запахнула полы ее собольей шубы. Но и этого ей показалось мало. Она послала за собственным собольим палантином и, когда его принесли, сама накинула его на плечи великой княжне.
— Значит, в Твери съедемся, как было решено, — сказала она. — В архиерейском доме отпразднуем восемнадцатое число и на другой же день после моего рождения выедем в Петербург. Трогайтесь! С Богом.
Пока поезд не скрылся из глаз, она все стояла на крыльце и смотрела вслед отъезжающим.
И после того как она вернулась во дворец, лицо ее еще долго сохраняло озабоченное выражение.
Почему-то тревожно было у нее на душе.
Весело позванивая бубенчиками, во весь дух несутся великокняжеские сани. Екатерина Алексеевна любит быструю езду. Белой сказкой, как и в первое ее путешествие, представляются ей искрящиеся на солнце снега.
Иоганна Елизавета в отличном настроении. Радуется, что выбралась из надоевшей ей Москвы.
И Кайн рада. Следующая ее поездка будет уже в милый Цербст. Она соскучилась по его высочеству, соскучилась по детям, по замку, по всей тихой домашней жизни.
И Петр Федорович весел: Петербург он любит гораздо больше Москвы.
— К моей дорогой Голштинии он все-таки ближе, — говорит он.
Брюммер его не раздражает. Последнее время он сильно изменился. Узнав, что после свадьбы его отошлют из России, он старается добиться хотя бы сносных отношений с будущим царем, во всем угождает Петру Федоровичу.
В Твери поезд прождал государыню целый день. Но она в архиерейский дом не заехала. Как только села в сани, ей так захотелось поскорей в Петербург, что она проехала мимо.
За ужином, приготовленным для Елизаветы Петровны, все сидели вначале разочарованные и недовольные, но потом развеселились. Ужин был роскошный. Все оказали ему честь. Особенно Петр Федорович.
Иоганна Елизавета любила его поддразнить и уверяла, что он съел больше, чем все они вместе.
Ночью у него сделался жар. Но наутро ему стало лучше.
— Легкое нездоровье. Его высочество не в меру покушал, да и растрясло его на ухабах, — объяснил дамам Брюммер. — Теперь все прошло.
И они продолжали путь.
Но за Тверью, в Хотилове, где остановились на ночевку в путевом дворце, Петр Федорович опять почувствовал себя дурно, а наутро Екатерину Алексеевну уже не пустили в комнату жениха.
Оспа!
Страшное слово всполошило весь хотиловский дворец.
В Петербург поскакали курьеры. Надо было уведомить государыню, вызвать докторов. Но прежде всего решили удалить невесту, чтобы она не заразилась ужасной болезнью.
Екатерина Алексеевна плакала, умоляла допустить ее в комнату больного.
— Позвольте мне быть у него сиделкой, — повторяла она.
Но к Петру Федоровичу ее так и не пустили.
Иоганна Елизавета почти силой посадила ее ночью в сани и повезла в Петербург.
— Я оставила при нем нашу Кайн. Ведь ты знаешь, как она умеет ходить за больными. Там и графиня Румянцева, — старалась она успокоить дочь.
Близ Новгорода ночью они встретили императрицу. Она уже знала, что наследник болен, и мчалась в Хотилово.
Сани остановились. В одну минуту верхи у саней были спущены. Кругом стояли верховые с зажженными факелами. Было светло как днем.
— Что с ним? — спросила государыня.
Про оспу ей еще не сказали.
Едва сдерживая крик отчаяния, бледная, отшатнулась она от Иоганны Елизаветы, когда та произнесла ужасное слово.
— Господи! Что же это? — И со стоном закрыла руками лицо.
Тогда Екатерина Алексеевна не выдержала: бросилась к государыне, крепко обняла ее и, припав к ней, умоляла:
— Возьмите меня с собой! Позвольте ехать с вами. Пустите меня к нему. Я хочу ухаживать за ним.
А государыня целовала ее, гладила по голове, как маленького ребенка. Она уже овладела собой и знала, как ей надо поступать.
— Поезжайте в Петербург, милое дитя, — с нежностью, но решительно сказала она. — Я сделаю все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Доверьтесь мне.
Это было ужасное время.
Вся душа Екатерины Алексеевны осталась в Хотилове. Она жила одним ожиданием курьеров. Их долго окуривали, раньше чем допустить к великой княжне. Она сама расспрашивала их.
— Как хорошо, что я выучилась настолько по-русски, что могу говорить с ними, — радовалась она.
Иногда она получала записки от Елизаветы Петровны и сама писала ей. Писала всегда по-русски, с большими ошибками, а иногда даже с помощью Ададурова. Но в те времена редко кто писал без ошибок. Сама государыня в русском правописании была не тверда. Письма Екатерины Алексеевны ее утешали. Ошибок она не замечала.
Петру Федоровичу становилось все хуже.
Много и о нем, и о себе самой передумала Екатерина Алексеевна в это тяжелое время. Ей казалось, что если умрет ее жених, то и ей ничего больше не останется, как умереть. Вернуться к прежней жизни она не могла. Тихий, маленький Цербст казался еще тише, еще меньше после огромной России. Екатерина Алексеевна чувствовала, что жить вдалеке от нее она не может, как не сможет лишиться царства, о котором с детства мечтала.
А Иоганна Елизавета начинала намекать, что, «в случае чего», они теряют не так уж много. Дочь теперь у всех на виду, а принцев в Европе немало.
Екатерина Алексеевна старалась направить мысли матери в какую-нибудь другую сторону. Но тогда Иоганна Елизавета начинала возмущаться, что дочери, по ее мнению, дали в Зимнем дворце лучшие комнаты, чем ей.
У них, у каждой, было по четыре комнаты. Две выходили на улицу, две во двор. Половина матери отделялась от половины дочери большой общей приемной.
В комнатах Екатерины Алексеевны все было голубое, у Иоганны Елизаветы — красное.
Мать уверяла, что у нее все хуже, чем у дочери. И цвет мебели, и размер комнат были не по ее вкусу. И то, что дочь была отделена от нее, ей не нравилось.
— Я чувствую, как ты от меня уходишь, — жаловалась она. — И этой пустой комнаты между нами я не выношу. В Москве было лучше. Там наши спальни были рядом.
Нападая на комнату, она не понимала, что разделила их не комната, а сама она отдалила от себя дочь. Большое горе Екатерины Алексеевны мать с нею не переживала.
И когда в светлое морозное утро дочь порывисто вбежала к матери в спальню с письмом Елизаветы Петровны, где та писала, что всякая опасность наконец миновала, что кризис был и Петр Федорович поправляется, Екатерина Алексеевна почувствовала, что и в радости она так же непонята и одинока, как была и в печальные дни.
«Жив! Жив!» — точно пело все и в ней самой и вокруг нее.
Жив! Она была счастлива, ей казалось, что больше и желать нечего. И никакого предчувствия о том, что ее ожидало, у нее не было. Никакой тревоги, никаких сомнений. Одна радость.
С этой радостью она одевалась в новое розовое платье, до чрезвычайности похожее на то серебристо-розовое, в котором Петр Федорович увидел ее в первый раз. Она хотела, чтобы в день его приезда все на ней было такое, как в вечер их первой встречи.
Только теперь все вышло еще лучше, потому что она очень похорошела после болезни. Волосы опять отросли, стали густыми, блестящими и вились без всякой завивки. Синие глаза от всего пережитого и передуманного стали глубже, красивее. А сама она была тонкая и стройная, как молодая березка весной.
Великого князя ждали днем. Но государыня заехала с ним на свою любимую мызу Царское село.
— Чтобы дать племяннику отдохнуть перед Петербургом, — так сказала она.
Почти целый день прождала Екатерина Алексеевна жениха. Радостно-взволнованная, с блестящими глазами, она каждую минуту вскакивала, подбегала к окнам, прислушивалась.
Серые сумерки заползали в комнату, а она все сидела, все ждала.
И когда он наконец приехал и ее позвали к государыне, она бегом полетела по коридорам через все приемные к опочивальне Елизаветы Петровны. Только у дверей вспомнила, что он еще выздоравливающий, что его беречь надо.
В комнату поэтому она вошла осторожно и, смущенная, остановилась у самых дверей. Глаза у нее были зоркие, но рассмотреть сразу она ничего не могла. В большой комнате было сумрачно. Горели всего две свечи.
И как-то жутко вдруг стало ей.
— Ближе сюда подойдите, милое дитя, — раздался из глубины комнаты знакомый голос.
Государынин голос! На душе сразу стало легче.
В один миг очутилась она возле канапе и не успела ни опомниться, ни оглядеться, как уже государыня крепко обнимала и целовала ее.
— Наконец-то я свиделась с вами! — взволнованно говорила Елизавета Петровна. — Соскучились мы без вас с племянником...
И, крепко обхватив выше локтя тонкие руки Екатерины Алексеевны, заглянула в ее глаза неожиданно тревожными просящими глазами.
— С ним теперь поздоровайтесь.
С этими словами Елизавета Петровна развернула княжну в сторону. А сама стала так, что ее полная фигура совсем заслонила свечи на столе.
Точно птица крыльями, взмахнула руками Екатерина Алексеевна и легкими, стремительными шагами бросилась в глубину комнаты.
Навстречу ей из кресла с высокой темной спинкой поднялась голубая фигура.
Протянутые с радостным приветом руки ее крепко стиснули одна другую и обе прижались к груди.
«Кто это?» В жалком существе с огромной головой, точно склонявшейся под тяжестью чудовищного парика в локонах, она не узнавала своего принца сказочного царства.
А он подходил к ней все ближе, подходил нерешительный, робкий. Не поднимая головы, взял ее руку, поцеловал.
Тогда только она опомнилась. Торопливо приложилась губами к напудренному парику и едва не вскрикнула от ужаса.
Только теперь разглядела она вполне его лицо, ужасное лицо без бровей, без ресниц, все в синих впадинах и в багровых рубцах.
— Я изменился. Вы, кажется, не сразу узнали меня? — заикаясь от волнения, спросил Петр Федорович.
Ей захотелось крикнуть, убежать, чтобы не видеть этого нового, страшного, чужого лица.
Но в эту минуту ее опять крепко обхватили нежные, но сильные руки, и у самого уха раздался просящий ласковый голос:
— Надо Бога благодарить, что он жив остался. Едва не ослеп от этой ужасной болезни. Доктора и теперь еще велели соблюдать осторожность.
А Петр Федорович еще тише и еще неувереннее повторил:
— Очень я изменился?
Екатерина Алексеевна ответила ему:
— Ничего, все пройдет, когда вы окрепнете. Теперь мы будем радоваться вашему выздоровлению.
Не справилась она только со своим голосом. Он приметно дрожал. Но ведь это можно было приписать волнению встречи.
Широко раскрытые глаза без ресниц стали радостными. Петр Федорович наклонил голову и еще раз крепко поцеловал руку невесты.
Государыня вздохнула с облегчением. Она решила не предупреждать невесту о страшной перемене в наружности жениха. Думала, что все обойдется и скорее, и лучше, если она сама сразу все увидит. Она надеялась, что ее любимица сумеет с собой справиться.
И та справилась. Не закричала, не убежала, даже проговорила несколько слов. Но государыня видела, что она побледнела и вся дрожит. И самой Елизавете Петровне было очень тяжело.
— Для первого свидания довольно, дорогие мои дети, — решительно сказала она. — Племянник мой еще не совсем оправился, да к тому же и устал с дороги. До свиданья, дорогая племянница. — Она поцеловала Екатерину Алексеевну. — Ваши милые письма были для меня большим утешением и поддержкой, — прибавила она на прощание.
Екатерина Алексеевна долго не могла привыкнуть к новому лицу своего жениха, но никто во дворце, кроме государыни, не подозревал, до какой степени ей тяжело.
Она умела собой владеть.
Болезнь изменила не только наружность Петра Федоровича. Она сделала его капризным, раздражительным и ребячливым. Он опять вытащил своих забытых на время игрушечных солдатиков, привел в порядок папочную крепость и радовался, когда Екатерина Алексеевна соглашалась принимать участие в смене караулов, в разных примерных сражениях и штурмах. И она, скрывая зевоту, делала вид, что интересуется тем, какая именно рота и почему в такие-то часы стоит в этом, а не в другом месте. И рассказы о том, как Петр Федорович обучает военному делу своих лакеев, камердинеров и карлов, она тоже слушала.
У него была привычка, когда он рассказывал про свое любимое, шагать из угла в угол по комнате. И она шагала до изнеможения с ним вместе. А слушала его с таким интересом, что он как-то раз пришел в восторг и предложил и ее обучить военной выправке.
— Поставить бы вас с мушкетом на караул! Вот было бы отлично! — с увлечением воскликнул он.
Но этого вытерпеть она уже не могла. Сказала ему, что стоять на карауле никогда не будет, и сказала это так, что он больше об этом не заговаривал.
А государыня спешила с приготовлениями к свадьбе и в то же время зорко следила за женихом и невестой. Часто призывала она к себе графиню Румянцеву и расспрашивала ее о великой княжне.
— На вид ее высочество весела, как всегда, но я знаю, что, оставшись одна, она часто задумывается, а по ночам иногда и плачет, — рассказывала статс-дама.
— Надо сделать так, чтобы она как можно меньше бывала одна, — сказала государыня и к четырем молоденьким фрейлинам, приставленным к великой княжне, велела прибавить еще несколько здоровых и очень веселых молодых девушек для комнатных услуг. Выбирать надо было говорящих только по-русски, чтобы Екатерине Алексеевне было удобнее все время практиковаться в русской речи.
Молодым девушкам было приказано не оставлять Екатерину Алексеевну одну. Все они были такие милые, так звонко смеялись, так весело болтали, что великая княжна сразу повеселела с ними.
Графиня Румянцева ворчала, что теперь никто не ложится спать вовремя. Молодежь перед сном поднимала страшную возню. Именно в этот непоказанный час начиналось самое большое веселье: безумная беготня, игры в жмурки и прятки. Раз дошло до того, что Екатерина Алексеевна с фрейлинами устроили перед сном гору для катанья. Собрали несколько матрацев, а сверху положили крышку от клавесина. Вышло чудесно, и они успели накататься досыта, прежде чем раздражение и гнев графини Румянцевой дошли до того, что она собралась идти с жалобой к самой государыне.
На другой день она действительно пожаловалась. В ярких красках описала странное поведение молодых девушек.
Государыня выслушала графиню внимательно и с серьезным видом. Потом приказала позвать к себе великую княжну.
Когда Екатерина Алексеевна пришла к Елизавете Петровне, она застала ее за столом, заваленным целым ворохом бумаг и рисунков.
Екатерина Алексеевна ждала, что государыня будет ей выговаривать за вчерашнюю возню. Крышка клавесина вместо катальной горы! Она сама находила, что это уж чересчур. Была сконфужена...
А государыня, как всегда, ласково взглянула на нее и предложила ей сесть с нею рядом за стол.
— Взгляните на эти рисунки. Это иллюминация по случаю недавней свадьбы дофина с испанской принцессой. А вот шествие в церковь сына короля польского. Август Второй по роскоши соперник Людовика Четырнадцатого. Эти две свадьбы поразили всю Европу своей пышностью и богатством. Свадьба наследника русского престола должна затмить их своим великолепием.
И они вдвоем долго рассматривали присланные рисунки, а о катальной горе государыня так ничего и не сказала.
XIV
Десятого февраля был день рождения великого князя. Наследник к этому времени еще не совсем оправился, и ни на приеме, ни на торжественном обеде его не было. Участвовала во всем вместе с государыней одна Екатерина Алексеевна. А вечером Петра Федоровича провели в одну из пустых приемных, чтобы и он мог полюбоваться из окна на зажженную в его честь иллюминацию.
— Взгляните на этот сияющий огнями храм в честь богини Гигеи, покровительницы здоровья и долголетия, — указывал ему бессменный устроитель всех иллюминаций, его бывший учитель, академик Штелин. — Видите вы статую внутри храма? Это статуя богини радости и увеселения. В руках у нее вензельное имя вашего императорского высочества.
А из галереи уже доносилась музыка. Там начинался бал тоже в честь его высочества, а сам Петр Федорович в чуть освещенной комнате прятал от света и от людей свои все еще слабые глаза и изуродованное лицо.
— Смею надеяться, что я угодил вашему высочеству, — вкрадчиво продолжал Штелин. — Иллюминация отвечает данному торжественному случаю и выражает чувства и пожелания ваших подданных.
Петр Федорович упорно молчал. Он чувствовал, что расплачется, если заговорит. В эту минуту хлопнула дверь, и за его спиной послышались торопливые знакомые шаги. Он обернулся. Перед ним стояла Екатерина Алексеевна в белом платье. Штелин, как только она подошла, с почтительным поклоном отошел в сторону к дверям.
— Мне сказали, что вы здесь, и я пришла повидать вас. Без вас скучно, — проговорила Екатерина Алексеевна.
Он ей ужасно обрадовался. Сказал, что она очень интересна, что белый цвет ей удивительно идет, но потом вдруг помрачнел.
— Неужели и ко дню свадьбы я останусь таким же страшилищем, как теперь! — с отчаянием вырвалось у него. — Доктора говорят, что рубцы сгладятся, но сегодня я посмотрел в зеркало и испугался.
Она ничего не сказала. Молча, внимательно и серьезно разглядывала его лицо. Свет от горевшего огнями храма богини Гигеи ярко освещал все багровые рубцы и синие впадины.
Ему стало страшно под ее взглядом. Он опустил глаза. Ждал, что она скажет.
— Вам нечего тревожиться. Все уже сглаживается. А к свадьбе и совсем ничего не будет заметно. Уверяю вас.
И сказала Екатерина Алексеевна это так и с таким видом, что не поверить ей было нельзя. И он поверил.
Ушел к себе успокоенный, а перед сном, долго еще прохаживаясь по комнате, играл на скрипке. Потом вынул своих солдатиков и устроил с ними примерное сражение, прислушиваясь к доносившейся до него музыке.
Екатерина Алексеевна вернулась в бальный зал опечаленная и задумчивая, но раздумывать и разбираться в своих мыслях и чувствах ей было нельзя. Невеста наследника на балу в день рождения своего жениха должна иметь радостный, приветливый вид. И она танцевала, улыбалась, разговаривала. А после бала была так утомлена, что заснула, едва только голова ее очутилась на подушке.
На другой день она брала урок верховой езды в манеже, потом ездила кататься по Неве на оленях в санях, потом выбирала материи, примеряла новые платья, вечером была на концерте, на другой день готовилась к маскараду, а после маскарада собиралась на бал.
Государыня настаивала, чтобы великая княжна принимала участие во всех увеселениях.
— Пока наследник еще не совсем оправился, вам, дорогое дитя, надо нести двойные обязанности, — говорила Елизавета Петровна.
Екатерина Алексеевна не спорила. Шум и праздничный блеск разгоняли ее темные мысли, не давали сосредоточиться на своих страданиях, и она была рада этому.
Уроков с Ададуровым она так и не возобновила. Для занятий у нее теперь не хватало времени. И книг она больше не читала. Только наряжалась и веселилась.
Как раз в самый разгар ее новой жизни в Петербург приехал граф Гюлленборг, старый знакомый Цербстских принцесс, тот самый, который когда-то сказал Иоганне Елизавете, что у дочери ее философское направление ума.
Он приехал от шведского короля уведомить русский двор о свадьбе наследника, принца шведского, родного брата Иоганны Елизаветы, с принцессой прусской Луизой Ульрихой, сестрой Фридриха Прусского.
— Я не узнаю маленькой Цербстской принцессы, — говорил он Иоганне Елизавете. — Дочь ваша удивительно похорошела. Но что меня особенно очаровывает в ней — это редкое соединение величия и необыкновенной грации, которой проникнуто все ее существо. Когда я увидел ее высочество здесь в первый раз, на торжественном приеме, я был уверен, что великая княжна очень высокого роста, а теперь я убедился, что рост ее средний. Она умеет производить впечатление высокой.
И Гюлленборг восхищенными глазами следил за Екатериной Алексеевной.
— Королева! — несколько раз говорил он про нее Иоганне Елизавете.
Та передала его слова дочери. Екатерина Алексеевна была польщена. Она привыкла с детства к тому, что все придавали большое значение словам графа Гюлленборга. Не раз слышала, что он при всех дворах считается одним из самых образованных и умных людей.
И такой человек назвал ее королевой!
После этого Екатерина Алексеевна не сомневалась, что еще услышит от него много лестного, когда им представился случай поговорить вдвоем.
Случай представился.
Однажды граф Гюлленборг зашел днем навестить Иоганну Елизавету, но в приемной его встретила одна Екатерина Алексеевна.
— Мама уехала кататься, но надеюсь, вы посидите со мной, — любезно сказала она гостю.
Он ответил, что очень рад случаю побеседовать с ней, как беседовали они еще в Гамбурге, когда она была девочкой.
— Мне очень многое надо сказать вам.
Ей стало немножко неловко, что она уже знает про главное — про «королеву». Но ведь он, наверное, скажет и еще что-нибудь. Что это будет очень лестное и приятное — она не сомневалась.
И была так поражена и разочарована с первых же его слов, что даже не могла этого скрыть. Растерялась.
Граф Гюлленборг объявил, что разочаровался в ней.
— Не узнаю моего маленького философа, — серьезно и с огорчением говорил он. — Я надеялся, что у вас более стойкая и крепкая душа. Даже больше. Я считал вас созданной для больших дел, для подвигов. А наблюдая вас эти дни, я вижу, что ваше существование самое пустое и суетное. И первое впечатление, когда я увидел вас здесь, на торжественном приеме, было тоже обманчивым. Вы показались мне королевой, а теперь я боюсь, что настоящей королевой вы не будете. И эта мысль так тяжела мне, что я решаюсь прямо и откровенно высказать вам всю правду. Надеюсь, вы простите мою горячность. Простите в память давнего знакомства и поймете, как многого ждал я от «моего маленького философа», если мне так горько ошибаться в нем.
От этих слов, таких искренних и серьезных, чувство разочарования и обиды сразу исчезло в душе Екатерины Алексеевны. Она протянула Гюлленборгу обе руки.
— Говорите все, что думаете, — произнесла она доверчиво, — как хорошо, что вы мне это сказали. И как хочу я о многом сама побеседовать с вами.
С этого дня граф Гюлленборг и Екатерина Алексеевна пользовались всяким случаем, чтобы поговорить о том, что их занимало. Иногда им мешали, разговор обрывался, но обрывались слова, нить же разговора они оба удерживали до следующего удобного случая. И каждый раз касались самого важного, самого главного.
— Помните о вашем великом призвании, — повторял Гюлленборг Екатерине Алексеевне. — Другие могут тратить по-пустому свое время, а вы — никогда. Нет труднее задачи на земле, как быть настоящим королем, а Россия, куда ваш жребий привел вас, такая огромная, такая богатая, могущественная и в то же время еще невозделанная страна.
— Что же мне делать? — спрашивала она.
А он отвечал:
— Прежде всего, работать над собой. Загляните в себя, изучите то хорошее и дурное, что есть в вас. Подавите то, что мешает вам быть сильной, и развейте то, без чего вы не можете обойтись в будущем. В вашем будущем, — подчеркнул он. — Оно иное, чем у других. Счастье и благополучие миллионов людей будут зависеть от вас.
Поинтересовался как-то Гюлленборг и книгами, которые читает великая княжна.
Екатерина Алексеевна была сконфужена. Она давно ничего не читала.
— А в Гамбурге вы так любили читать, — укорил он ее.
Она стала оправдываться:
— Но и в Штеттине, и в Цербсте я уже мало читала.
И вышло это так смешно, по-детски, что он рассмеялся и сказал:
— Тем хуже. Тем еще хуже.
— Но я не знаю, что мне читать.
— Читайте «Жизнеописание знаменитых людей» Плутарха, жизнь Цицерона читайте. Достаньте себе Монтескье «Причины упадка и падения Римской Империи». Это серьезные книги, которые могут вас подготовить для великого дела вашей жизни.
И даже на то, что мучило ее в глубине души и сильнее всего терзало последнее время, получила она ответ от Гюлленборга. Прямых вопросов она ему не задавала и ничего ему словами не сказала. Слишком была горда, чтобы искать у кого-нибудь поддержки и утешения. Но сделала так, что разговор их точно сам собою коснулся личного счастья.
И навсегда запомнились ей его слова.
— Королевская жизнь — это океан. Много рек несут в него свои воды, и если иссякнет одна из них, может быть даже самая большая, та, которую люди зовут личным счастьем, океан останется океаном. — И прибавил еще: — Свое собственное счастье! Оно кажется мне таким маленьким, таким ничтожным. Разве есть время на свое счастье или горе, когда со всех сторон к трону тянутся руки. Столько протянутых рук, столько устремленных глаз!
В первое время после отъезда Гюлленборга у Екатерины Алексеевны было чувство, будто от нее ушел тот, кто указал ей настоящий путь. Но на самом деле это было не так, а только казалось ей в минуты растерянности и одиночества.
Встречным, которого в минуту колебания спросила она, туда ли идет, был для нее граф Гюлленборг.
Свой путь она знала сама.
XV
Только к осени были наконец закончены приготовления к свадьбе, и двадцать первого августа тысяча семьсот сорок пятого года, в пять часов утра пушечная пальба подняла на ноги всю столицу. Палили с крепости, палили с Адмиралтейства, палили со всех военных кораблей, с каждой галеры и яхты. В ответ на эту пальбу войска пробили зорю, а за нею начался перезвон на всех колокольнях.
За три дня до двадцать первого герольды в блестящих латах с отрядами конной гвардии разъезжали верхом по всему городу и под звуки труб и литавр оповещали народ о предстоящем венчании их императорских высочеств.
Заговорили же об этой свадьбе еще с весны.
Как только вскрылась Нева, из Данцига, Любека, Штеттина и Гамбурга стали приходить суда с экипажами, материями, платьями, сукном и галунами для ливрей.
Государыня хотела, чтобы к торжественному дню все было новое и самое роскошное.
За неделю перед назначенным днем у церкви Рождества Богородицы, на месте теперешнего Казанского собора, где должно было происходить венчание, стали строить и обивать красным сукном помосты для зрителей. Площадь перед Зимним дворцом готовили для народного гулянья и угощения: копали каналы и бассейны для фонтанов, строили арки и всевозможные затейливые сооружения для еще небывалой иллюминации.
Чтобы дать возможность всем желающим беспрепятственно принять участие в празднествах, отдан был приказ на все время десятидневных торжеств приостановить все дела. Присутственные места были закрыты, и все работы прекращены. Такой же приказ о праздновании торжественного дня был разослан по всем городам.
С раннего утра по-праздничному разодетые петербуржцы устремились к церкви и к Зимнему дворцу. Со всех улиц, больших и малых, со всех переулков, закоулков, из разных деревень пригородных поднимался народ, двигался к Невской перспективе и здесь, как в стенку, ударялся в войска, расставленные шпалерами по обеим сторонам проезда. Дальше никого не пускали.
День был теплый, солнечный. Все стояли, друг друга оглядывали, с соседями переговаривались. Говорили все больше о женихе с невестой, что заготовлено на Дворцовой площади к празднику:
— Сказывают, что после венчания у дворца фонтаны красным да белым вином забьют.
— Жареных быков с золочеными рогами там поставили. В быках птица всякая, рыба, а кругом быков — калачи грудами, пироги, хлеб разный.
— Попразднуем!
— Матушка-царица пир на славу готовит.
— Еще бы. Родного племянника да своего наследника женить собралась.
— Хвалят невесту.
— Лицом больно хороша, сказывают.
— Хороша, что и говорить! Весной я не раз ее на галере золоченой видал. С наследником они по Фонтанке от Летнего дворца, где тогда с государыней проживали, плыли.
— Я великую княжну на днях встретил. Из Летнего дворца в Зимний их с матерью в карете перевозили. Красавица!
— А уж умна, обходительна! Каждый истопник и тот от нее ласковым словом порадован.
— Ишь ты! Ласковая, значит.
— А тебе это откудова ведомо?
— У меня двоюродный брат истопник.
— Точно, будто из немок невеста-то?
— Придумал тоже! Да я сам, своими глазами великую княжну вместе с наследником в церкви Рождества Богородицы видел — говели они перед свадьбой, как полагается, значит, а в Успенье причащались.
— А мне уж после поста их довелось вместе с государыней-матушкой повидать. Иду это я, значит, с работы, а они как раз мне навстречу. В лавру к вечерне шли.
— Богомольная! В государыню-матушку.
— Великим постом они обе все семь недель постились.
— А только что немка она, из самой неметчины привезенная, это тоже правильно.
— Не похоже. Сказывали, по-русски, как русская, говорит.
— Научилась. Как в Россию попала, сейчас же за ученье и принялась.
— У меня сестра прачка дворцовая, так она сказывала, что невеста, как только приехала, разом учиться по-русски стала. До свету вставала. Ей-Богу. Даже захворала с ученья. Уж так старалась. Чуть не померла.
— Ишь ты! Чудеса...
— И невесту же выбрала государыня-матушка! Из всех невест наилучшую.
— Ни в сказке сказать, ни пером описать.
Так разговаривал между собой собравшийся народ в то время, как во дворце, в парадной опочивальне государыни, за туалетом из чистого золота, в присутствии знатнейших придворных дам торжественно причесывали и одевали к венцу великую княжну.
Великий князь одевался в своих покоях, куда тоже явились знатнейшие придворные и сановники.
Одевание началось в половине восьмого и затянулось на несколько часов.
С шести часов утра стоявший на улицах народ успел утомиться от ожидания. Всякие рассказы давно кончились, и разговоров больше не было. Только по временам спрашивали:
— Да скоро ли наконец выедут? Да не видно ли? Да когда же это будет?
Ровно в одиннадцать часов опять пушка ударила.
Сразу всколыхнулся народ.
А пушки, как уж начали, так без конца и палят. Трубы, литавры зазвучали. По церквам во все колокола ударили.
— Едут, едут!
Вся толпа, как один человек, повернулась в сторону Зимнего дворца и замерла.
В проезде между шпалерами войск показался отряд конной гвардии в красных с золотом мундирах, а за ним вперемежку с отрядами кирасир, гусар и драгун потянулись кареты.
Золоченая карета обер-церемониймейстера графа Шувалова. Граф держит в руке золотой жезл, украшенный бриллиантовой короной. Карета ее величества — настоящий маленький замок. Восемь конюших ведут под уздцы восемь впряженных в нее белоснежных лошадей. Через большие оконные стекла по бокам и спереди хорошо видна государыня в короне и мантии. Точно отлитыми из серебра кажутся на фоне ее светло-каштанового гроденаплевого платья жених и невеста, оба одетые в сверкающий глазет. Екатерина Алексеевна в великокняжеской бриллиантовой короне, увешенная драгоценностями царской сокровищницы, представляется окруженной сиянием.
В карете матери невесты, наряженной в тяжелые цербстские шелка, сидит ее брат, принц Август, наместник Голштинии. Он один из всех родственников не побоялся длинного и утомительного путешествия в Россию. Христиан Август хворал и не мог приехать к свадьбе дочери.
Бесконечным рядом тянулись сто двадцать карет с их гайдуками, скороходами, пажами, лакеями и арапами.
Всем придворным чинам выдали жалованье за год вперед, чтобы они «по пристойности каждого приготовить экипажи могли». Именным указом велено было знатным обоего пола особам изготовить богатые платья.
В угоду императрице и из собственного тщеславия постаралась придворная знать. Кареты были одна богаче и красивее другой. Украшенные живописью, резьбой, а иные даже драгоценными каменьями, они медленно двигались, давая зрителям время рассмотреть во всех подробностях и себя, и своих хозяев, облаченных в златотканые одежды. Даже Разумиха, приехавшая на свадьбу со всеми чадами и домочадцами, со всеми внуками, внучками, двоюродными и троюродными, для такого торжественного случая без спора облачилась в ненавистные фижмы. Напудренная, накрашенная, увешенная драгоценностями, она с важностью настоящей статс-дамы сидела на бархатных подушках восьмистекольчатой кареты, приготовленной для нее сыном.
Сам Алексей Григорьевич, в кафтане из золотой парчи с бриллиантовыми пуговицами и с голубой лентой Андрея Первозванного через плечо, казался настоящим красавцем. Он был назначен держать венец над Екатериной Алексеевной во время венчания.
Церковь не вместила всех приглашенных, многим из дальних карет пришлось ждать конца венчания на местах помоста, обитых красным бархатом. Народ, прорвав тесно сомкнутые ряды войск, точно хлынувший поток, залил площадь. В соседних с церковью домах, чтобы не пропустить выхода новобрачных, влезали на крыши и на подъезды.
— Кто венчает-то? — спрашивали друг у друга в толпе.
— Епископ Новгородский Симон. Тот самый, что невесту православной вере учил.
— А венец кто над невестой держит?
— Граф Алексей Григорьевич Разумовский.
— А над наследником — брат матери невесты, дядя ее, Голштинский принц.
Целых три часа пришлось ждать конца церемонии. С молебном и поздравлениями она продолжалась чуть не до четырех часов. И когда наконец, точно два белых сверкающих видения, показались на паперти новобрачные, восторженные крики народа заглушили и пушечную пальбу, и трубные звуки, и церковный перезвон.
«Сколько устремленных глаз! Сколько протянутых рук!» Мимо нарядных блестящих придворных в темную толпу взглянули синие глаза будущей великой царицы.
В этот день новобрачные за торжественным обедом сидели вместе с государыней на троне под балдахином из парчи, бархата и горностая. Ступенькой ниже их на помосте помещался стол принцессы Цербстской Иоганны Елизаветы и принца Голштинского. Вдоль всей галереи разместились придворные. Столы были уставлены цветами и затейливыми конфетными пирамидами. Посередине били фонтаны, освещенные шкаликами, налитыми белым воском.
Обедали на золоте, и дрожали стекла в дворцовых окнах, когда под пушечную пальбу пили за здоровье молодых, а с плошади и с улиц гулом доносились несмолкавшие народные крики.
— Пока убирают галерею для бала, вы можете пройти к себе отдохнуть, — сказала государыня новобрачным, когда обед наконец кончился.
И счастливым, растроганным взглядом следила за ними, пока они не скрылись в дверях.
После труб, литавр, полковой музыки, пушечной пальбы, шума и криков, особенно тихой и успокоительной показалась Екатерине Алексеевне ее комната. Только очутившись здесь, она почувствовала, до какой степени устала, и какая ужасная тяжесть в ее серебряном платье, и как до боли надавила ей голову еще непривычная корона.
Она быстро подняла руки, чтобы снять ее.
— Что вы делаете, ваше высочество? — с ужасом воскликнула графиня Румянцева.
— Хочу от нее отдохнуть хоть немного. Корона такая тяжелая. У меня разболелась голова — объяснила Екатерина Алексеевна.
— Прошу извинения у вашего императорского высочества, — почтительно, но твердо сказала графиня, — государыня надела вам корону собственноручно, и, чтобы снять ее, необходимо разрешение на это ее императорского величества.
И так как Екатерине Алексеевне делалось почти дурно, она пожалела ее и отправилась к государыне.
— Не думала я, что она так тяжела, — сказала, снимая корону, великая княгиня и вдруг вспомнила Гюлленборга.
И пока отдыхала, все думала о том, что сегодня уже бесповоротно вступила на свой путь. Каков будет этот путь, она еще не знала, но заранее принимала его со всеми его радостями и со всей его тяжестью, принимала как единственный, по которому хотела идти. Другого для себя она не знала.
И когда графиня Румянцева доложила, что ее императорское величество ожидает великую княгиню для торжественного выхода на бал, она надела опять корону на голову и поспешила в приемную возле покоев императрицы, откуда должен был последовать царский выход.
Отдохнуть она не успела, и корона по-прежнему давила усталую голову, и гнулись молодые слабые плечи под тяжестью серебряного платья. Но лицо благодаря предусмотрительно наложенным румянам и радостному выражению казалось светлым и ясным. В залитой огнями галерее никому и в голову не пришло, что великая княгиня утомлена не меньше танцевавшего с нею в паре великого князя. Видно было, что великий князь изнемогает от усталости, некоторая же замедленность в движениях великой княгини подчеркивала величие и торжественность празднества.
— Выйдем посмотреть на иллюминацию и покажемся народу, — сказала государыня.
В это время шум и треск начинавшегося фейерверка и гул толпы почти заглушили бальную музыку.
Пропустив вперед себя новобрачных, она вместе с ними вышла на балкон.
И дрогнул дворец от народных ликующих криков.
После духоты бального зала под открытым небом дышалось особенно легко и свободно.
Петр Федорович встрепенулся и сразу оценил великолепие блиставших огнями арок, пылающих жертвенников, вензелей, храмов, вертящихся огненных колес, ожерелий из разноцветных фонариков.
Он очень любил иллюминации, а из всех виденных им эта, конечно, была самая лучшая.
Но не смотрела Екатерина Алексеевна на иллюминацию. В темную толпу, точно сверкающим ожерельем опоясанную разноцветными огнями, смотрела она, стараясь разглядеть внизу движущиеся пятна лиц.
Все глаза были устремлены на балкон, видели только одних новобрачных.
На себе чувствовала Екатерина Алексеевна эти взгляды, и волнующее чувство овладело ею.
Взгляды без слов говорили, просили о чем-то. И, как заря, занималось в ее душе новое желание: понять просьбы невысказанные, дать неведомым людям то, о чем они молили, дать еще больше, всю себя отдать им.
При свете праздничных огней, под народные крики в юной голове, увенчанной бриллиантовой короной, все яснее и определеннее складывалась первая царственная мысль:
«Маленькой бедной принцессой пришла я сюда. Единственным моим богатством была мечта о далеком необъятном царстве. И когда мечта стала правдой, когда царство приняло меня, как свою, новые, мне самой неведомые силы проснулись в моей душе. Могучая страна несет мне свои лучшие дары, и цель жизни ясна предо мною: все мои силы, все богатства моей пробужденной души отдам я твоему и моему народу, великая любимая Россия».
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





