ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
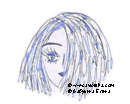

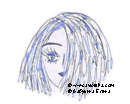
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Юфит Матильда 1980
Боже мой, знать бы, почему мне так трудно начать этот рассказ. Мучаюсь и
мучаюсь, а все никак не зазвучит, как нота, как музыкальный звук, первое верное
слово, — ведь только тогда, как правило, становится немного легче.
А казалось бы, все просто, нужно только изложить, как протекали события:
где, что, почему... Мол, это было под Ленинградом, в Павловске, куда я попала
случайно. В Павловске жила моя тетка, сестра отца, погибшего еще в первую
мировую войну, очень старая женщина, которая обижалась на то, что я не
приезжаю. Встреча с ней меня мало интересовала: самая младшая в многодетной
семье, она не могла помнить моего папу. Мама была далека от родственников отца:
когда она осталась со мной и с братом на руках, без мужа, они ничем ей не
помогли. Да и мама давно умерла. И брат умер. А все-таки, попав в Ленинград в
командировку, я решила прожить несколько дней у тетки. Конечно, можно бы подробно
описать семью тетки, ее немолодых детей, которые были уже бабушками и дедушками
и теперь съехались на лето со своими внуками на дачу к прабабушке. Не то чтобы
они мне были несимпатичны, эти люди, — нет. Но было что-то фальшивое в том, что
я живу у них не по праву дружбы, или давнего знакомства, или взаимной симпатии,
а только потому, что родственница. Чувствовала я себя неловко и большую часть
времени проводила в парке, что никого, думаю, не огорчало и даже не удивляло:
красоты Павловского парка стоят того, чтобы проводить на его аллеях целые
дни...
...Нет, конечно, правильно подметил Чехов, что начало — первую страницу —
почти всегда приходится вычеркивать. Она сродни усилию, попытке раскачать
тяжелые вагоны, какую делает поезд, прежде чем перейти на равномерное движение.
Или автомобиль. Даже человек часто говорит: «Ну, я пошел», — а стоит на месте.
Даже самолет должен разбежаться, прежде чем взлететь...
И правда, какое имеет значение, как и почему я попала под Ленинград?
Когда я вспоминаю тот давний яркий осенний день в парке, то раньше всего
вижу, как низко свешивается над скамьей, покачивается у моего виска гибкая
ветка, чуть шелестя глянцевитыми красноватыми листьями. Это редкое, диковинное
дерево прекрасно, как и весь прохладный сверкающий день с его синим небом, как
удивительный парк. Мне все нравилось. И утро, и гравий под ногами, и широкая, с
выгнутой спинкой, с чугунными завитками скамья, и немолодая женщина, что сидела
на другом краю и читала книгу. Она была в ситцевом сарафане и вязаной кофточке,
наброшенной на плечи, в платочке, стянутом на затылке. Обыкновенная,
интеллигентная, скромная женщина. Я уже немного знала ее, раза два или три мы
тут сидели со своими книгами — на той же скамейке, под тем же похожим на иву
деревом с мелкими, острыми, дрожащими листочками. Изредка мы перебрасывались
словом, улыбались друг другу.
Да, мне эта женщина нравилась.
Нравилось ее немолодое, усталое лицо, чем-то напоминавшее портрет драматической
артистки Добржанской: чуть тяжеловатый подбородок, чуть заметные усики и что-то
значительное, милое, доброе в выражении глаз. Кое-что я даже знала про нее:
бывший экономист, лето проводит здесь, на даче, в комнатке под чердаком. Когда
продавала отцовский дом, выговорила себе право жить летом в мансарде. «Оттуда
такой удивительный вид на окрестности». И живет все лето одна, — так любит поселок,
где прошли ее детство и молодость, так любит этот парк. «Всю зиму жду встречи,
знакома с каждым деревом, как с человеком». Иногда приезжает в отпуск брат из
Ярославля. Но он ярый шахматист и все дни проводит в павильоне для игр, сидит
там, согнувшись в три погибели, над доской с фигурами. А если остается дома, то
штудирует шахматную литературу. Иногда будит ее ночью: «Ты только взгляни,
какой изящный ход...» «И я сквозь сон слушаю, что слон такой-то пошел на эф-семь,
а ладья оказалась под угрозой, или наоборот, я в этом не разбираюсь...» Обычно,
рассказав что-нибудь или спросив, она тут же погружалась в чтение. Я часто наблюдала
за ней: она бывала всецело поглощена, переживала то, что читала, вздыхала,
улыбалась, иногда даже закрывала глаза и сидела не шевелясь, думала...
Но сегодня что-то ее тревожило. Довольно часто она поднимала глаза,
взглядывала в сторону летнего театра, здание которого, щедро позолоченное
солнцем, было совсем рядом, проверяла, не открылась ли касса, потом снова
читала.
Видимо, сегодня она, как и я, пришла за билетами.
Были объявлены гастроли эстрады, к которой я совершенно равнодушна. Но я
подумала, что если приглашу на концерт многочисленное семейство тетки, то хоть
как-то отблагодарю за гостеприимство. Мне было совершенно все равно, где убить
утренние часы, но почему спозаранок пришла моя соседка по скамье? Рядом с ней
на чугунном завитке спинки висела хозяйственная сумка, слегка покачиваемая ветерком,
а в сумке блестела пустая стеклянная банка, на которой тоже, пробиваясь сквозь
листву, играло солнце. Видимо, потом пойдет за покупками...
То ли я задумалась, то ли задремала под монотонный шелест веток, но
вдруг услышала громкие голоса.
Около входа в театр стояла машина, а от машины, легко неся свое плотное,
большое тело, шел к моей соседке щеголевато одетый мужчина в шуршащем плаще, с
открытой головой, но в теплом, пуховом, очень красивом шарфе на шее. Она
вскочила, и, хотя стояла на месте, было ощущение, что она летит, мчится ему навстречу.
— Орест... Орик, милый...
Я мучительно вспоминала, кто этот Орик, где я могла его видеть, откуда
знать. Он шел торопливо, но плавно, крупный, величественный. Видимо, он тоже
взволновался, снял и протер свои огромные черные очки. И когда снял их, то лицо
его показалось мне еще более знакомым.
— Я узнала про Зоин концерт и чуть свет пришла за билетом…
— Зоя имеет огромный успех... — Орест оглянулся по сторонам и сказал,
как по секрету: — Я так боялся приезжать сюда, Женя, я боялся воспоминаний... —
И он вдруг заплакал. По щекам его покатились крупные слезы.
— Орик, милый Орик... — бормотала Женя. — Слезами не поможешь... Жизнь
есть жизнь...
Меня почему-то сердил этот человек, я подумала, что слезы льются у него легко,
почти потоком, как у клоуна в цирке. Резиновый баллончик они нажимают, что
ли...
— Спасибо, Орик, за альбом, за то, что ты прислал мне Лелин портрет...
— Не благодари. Разве я мог забыть, как ты относилась к покойной Леле?
Они перебросились несколькими фразами, мало мне понятными, потом толстый
мужчина, которого моя соседка звала то Орестом, то, ласково, Ориком, заторопился.
Попросил на ходу:
— Ты подожди меня здесь.
— Да, да, я подожду. Нам нужно, нам очень нужно поговорить...
Женя посмотрела, как Орик удаляется, беспомощно оглянулась, как бы ища
кого-то, и сказала мне, потому что я оказалась рядом, потому что она уже
привыкла ко мне за наши часы совместного чтения и ожидания на скамейке:
— Как он постарел, бедный... Хотя... хотя еще вполне интересный, видный
мужчина...
— Откуда-то я его знаю, — неуверенно произнесла я.
— Это муж моей покойной подруги. Леля была удивительная женщина. Это
такая утрата...
— А Зоя кто?
— Зоя — его вторая жена. Я и Зою знаю. Ничего, довольно славная...
Она как будто устала, обессилела, снова села на скамью. Но книгу
захлопнула, читать не стала.
— Все-таки он немного похож на бабу, этот Орест…
— Может быть, — согласилась Женя. — В натуре Ореста есть много женского,
вы правильно подметили, но он все-таки очень хороший, добрый человек…
И тут я вспомнила:
— Леля была художницей?
— Да, известной, даже знаменитой...
...Несколько лет назад мне сильно повезло. Я только начинала работать на
телевидении, и меня послали в командировку на съезд художников в Москву. Так
счастливо сложились для меня обстоятельства, что из руководства нашего
областного комитета по радио и телевидению никого не было на месте, старший
редактор отдела болел, и поехала я.
Но я не собираюсь рассказывать о себе. Только хочу объяснить, как попала
на такое высокое собрание. Для меня, провинциальной журналистки, это было
большим событием.
Во время перерывов я бродила в толпе, вся превратившись в глаза и уши,
как говорила когда-то моя мама: смотрела на художников и их гостей — артистов,
писателей, композиторов. Иногда, изнемогая от любопытства, спрашивала: «Вы не знаете,
кто это? Вон тот, высокий? А это?» Я ходила по Кремлю, по Георгиевскому залу,
по Грановитой палате, ошеломленная, ошалевшая.
А в последний день, уже перед закрытием, в конце огромного сверкающего
зала, незаметно отгороженного столами от остального пространства, собрались
самые видные, самые знаменитые художники, некоторые с женами. Тут же были руководители
нашей партии и государства. И когда прозвучали слова, обращенные к участникам
съезда, и все, кто был в зале, стали подходить ближе, чтобы лучше слышать, меня
вынесло волной вперед. Сама не знаю, как это получилось, но я оказалась почти в
первом ряду слушающих, впитывала каждое слово, стараясь запомнить, чтобы потом,
вернувшись домой, все пересказать в своей редакции. Я не сразу поняла, что мне
мешает. Что-то жаркое, мягкое суетилось передо мной, отталкивало меня,
отжимало. Я посмотрела. Как стена, нет, не как стена, а как жарко натопленная
печка, торчала передо мной чья-то широкая спина. Это метался рослый мужчина.
Стараясь протиснуться вперед, он устремлялся к узкому проходу между столами, по
обеим сторонам которого стояли распорядители с нарукавными повязками. А там, по
ту сторону, где уже щелкали затворами фотографы и шумели телевизионные аппараты,
поощрительно кивала «спине» красивая женщина с широко расставленными серыми
глазами, как бы говоря; «Что же ты? Твое место рядом со мной. Иди же...»
— Да, Леля всегда хотела, чтобы Орест был рядом, — подтвердила Женя.
Я возмутилась:
— Но все-таки... Он ведь муж, а не жена...
— Для Лели такие соображения не существовали...
— Но он, ваш Орик, у него-то должно было быть самолюбие...
— Я не люблю судить людей, — сухо отозвалась Женя.
— А я люблю, — непримиримо сказала я в запальчивости, хотя вовсе не так
уж любила судить, а тем более осуждать людей. — Он мне навсегда запомнился, ваш
Орик, со своей горячей спиной, я чуть не обожглась...
Женя засмеялась:
— Не преувеличивайте.
— И вообще я услышала много плохого, когда стала о нем расспрашивать...
Женя поморщилась:
— Думаете, я не знаю, что вам могли наговорить? Мол, женился по расчету
— Леля обеспечена, знаменита, машина, дача, да?
— Ну, примерно так… — недовольно подтвердила я.
— Я и сама поначалу так считала, — сказала Женя.
Потом Женя будет хвататься за голову и терзаться: как же, мол, это так, как
она могла позволить себе обсуждать с совершенно незнакомым человеком интимные
дела своих друзей? — и тут же успокаивать себя, что личная жизнь Лели, как и ее
творчество, давно стала общественным достоянием — вон сколько статей и даже
книг о ней написано, исследований, монографий... Правда, теперь ее немного
забыли. И, кроме того, бывает же любовь с первого взгляда, почему не может быть
дружба? Не обязательно ведь съесть вместе пуд соли, когда вот так просто и
естественно возникла у нас симпатия друг к другу.
— Одно только... Ну, я, я знаю Лелю, любила ее, уважала ее талант, — с подозрительностью
спрашивала Женя, — но вы, вам-то это зачем? Что, вы так любили ее картины?
Я не знала, что ответить на прямой вопрос. Попробовала извернуться:
— А почему вы спрашиваете в прошедшем времени? Может, я и теперь люблю
ее картины.
— Все так переменилось, — с сомнением, задумчиво сказала Женя. — Леля
это понимала и сама. И в этом, мне кажется, была ее трагедия...
— Вы уверены, что она понимала?
Женя не стала настаивать:
— Во всяком случае, она тревожилась. Часто говорила о бессмертных, непреходящих
ценностях, о том, что не надо служить минуте. А однажды прямо сказала: «Неужели
все, что я написала, устареет, пропадет? Неужели все было зря?» И вы знаете,
она твердила: «Это счастье, что судьба послала мне Ореста...»
— Не поняла...
— Ну, в том смысле, что Орест не даст о «ней забыть.
— Он ведь не может остановить ход истории, ваш Орест.
— Леля верила...
Женя вспомнила, как уже смертельно больная, в последнее лето своей
жизни, которое Леля проводила здесь, в старом отцовском доме, она, разглядывая
свои наброски, зарисовки, записные книжки, не раз говорила о том, что не хочет
умирать, и требовала: «Орик, ты слышишь, я не хочу умирать». А он клялся: «Ты
выздоровеешь». И Леля немного успокаивалась — так она ему верила. А потом снова
твердила, что, мол, пройдет время и ее все забудут... и рисунки ее пожелтеют в
каком-нибудь хранилище. «И все-таки, — решала она, — не держи их у себя, Орик,
сдай лучше в музей, хорошо? Одна посмертная выставка, может, и состоится, ты
ведь пробьешь, а после уж будь что будет, хотя мне обидно...» Она была очень
мужественная, Леля, она все понимала и боролась с болезнью изо всех сил,
жаловалась: «Я мало жила, во мне еще много жадности к жизни, только теперь
начинаю понимать, как нужно работать...»
— Значит, Орик не всесильный, не помог...
Женя резким жестом остановила меня:
— Если быть справедливым, то и последний год Орик ей подарил. И что бы
вам ни говорили разное люди, Орик Лелю любил и принес ей счастье. И я кланяюсь
ему в ноги за это....
Женя посмотрела на меня с яростью, но в ярости все равно было что-то
доброе, высокое или скорее возвышенное, свидетельствующее о ее глубокой
порядочности, желании быть предельно честной и справедливой.
Ну что я, в сущности, знала об Оресте? Случай со «спиной»? Мне он
говорил много о характере этого человека, а вот Женя истолковала все
по-другому: мол, так хотела Леля. Выходит, Леля была чванлива, она хотела,
чтобы портрет Ореста попал на газетную полосу. Так, что ли? Как говорится,
любой ценой... Я вспомнила на мгновение то острое чувство отвращения, которое
испытала тогда на съезде. Нет, «спину» я простить не могла, тут я не уступила
бы даже Жене, которая мне так мила.
Как хозяйка достает из кладовой или холодильника припрятанные запасы,
так и я пыталась вспомнить все, что когда-либо слышала об Оресте. Ну да, мне
передавали разные сплетни и толки, что он польстился на машину и дачу, но это
ведь ерунда, обычные обывательские разговоры. Из слов Жени вырисовывались и
другие факты: Орест добр, Орест предан, Орест боготворил жену.
Что же тогда еще?
Да, излияния одного театрального художника, который за большие деньги
одевал состоятельных дам, — приезжал, высокий и элегантный, в сопровождении мастериц
и придумывал фасоны, набрасывал эскизы костюмов, сыпал комплиментами и шутками,
восхищая своих заказчиц. Мне довелось с ним встретиться случайно, в компании, и
он с ужасом говорил о скупости Ореста, о том, что Орест возмущался ценами или
«жалким гонораром» художника и не хотел давать машину, утверждая, что с дачи до
города можно свободно доехать на электричке. Правда, Леля неизменно брала
сторону художника и мастериц, и шофер Толя бывал вынужден развезти всех по
домам.
Вся компания возмущалась скаредностью Ореста: «Можно подумать, что это
его деньги, а не ее», — и особенно, тем, что не давал машину. Только одна
женщина наивно спросила: «Может, он жалел не машину, а шофера?» Художник
саркастически захохотал: «Не смешите меня!»
Женя выслушала мое сообщение довольно спокойно.
— Такой высокий, худой? — спросила она. — Ужасный человек, хотя на вид
симпатичный. Я его знаю, я гостила у Лели в Москве и в их подмосковном доме.
Иногда мне казалось, что он смеется над ней, — такие фасоны придумывал. А Леле
нравилось. Мол, когда была моложе и стройнее, в кармане не было ни гроша — я
ведь помню ее вышитые белые блузки, весь ее «шик»! — а теперь может себе позволить
хорошо одеваться. Леля покупала самые броские материи, шляпы. Даже на собрания,
в театр она ходила в шляпе, не снимала. Орест боролся против этого как лев,
хотя ему нравилось, что Леля богато одета...
— А у самого Ореста хороший вкус? — спросила я.
— Не сказала бы. Он просто старается быть модным.
— Так проще...
— Вы заметили, какой у него красивый шарф? — вдруг вспомнила Женя. —
Яркие шарфы и носки — его слабость... — Она помолчала и зачем-то добавила: — Лелин
отец был простой приказчик, продавец в лавке. И Леля не раз говорила: «Люди
знают многое с детства, от мам, от пап, жили в атмосфере прекрасного, в мире
мысли и красоты, культурных традиций, а я... я же интеллигентка в первом поколении...»
— А Орест?
Женя замялась:
— Родственники Ореста южане. Откуда-то с Украины. Южане — народ
восприимчивый, во всяком случае, к внешнему, к цивилизации, я бы сказала. Но
они были славные люди и буквально преклонялись перед Лелей.
— И перед Орестом...
— Ореста обожали, он был хорошим сыном. Но как только заметил, что
шумная родня начала Лелю утомлять, тут же отправил всех обратно на Украину. А
вот с Лелиной сестрой Орест как-то не поладил...
Но когда я стала приставать с расспросами, Женя почему-то уклонилась:
— Не сошлись характерами, так я думаю.
И больше ничего не сказала.
Выравнивают дороги, спрямляют русла рек. А казалось бы, зачем реке
петлять, зачем вьется тропинка? Ведь кратчайшее расстояние между двумя точками
— прямая? Чего же требовать от разговора, — это уж потом, когда пересказываешь
его, то, отбрасывая подробности и отклонения, придаешь ему стройность, потуже
натягиваешь нитку, на которую, как бусины, нанизаны те самые подробности, те
петли и изгибы, которые хотя и приводят к конечной цели, но удлиняют путь.
Мне хочется выбрать из того, что говорила Женя, главное. Но как это
определить? Как узнать, что такое Орест? И для чего? Для того, чтобы понять, как
могла Леля его полюбить — толстого, суетного, неглубокого? Но какая мне
разница, кого любила Леля? Зачем мне нужно, чтобы она любила человека
достойного? Достойного ее таланта, так? А что же такое талант? Или любовь? Тут
можно совсем запутаться...
Вот каким запомнился мне рассказ Жени, когда, взволнованная, чуть
растерянная, она сидела рядом со мной на скамейке в парке и то прижимала руки к
груди, то комкала платок, то смотрела, как сквозь туман, на аллею с мраморными
скульптурными группами — туда, куда ушел Орест.
Итак, они дружили с детства. Собственно говоря, дружили Леля и старшая
сестра, Женя в их общество допускалась только потому, что не мешала, старшие девочки
ее просто не замечали. Когда Женина сестра, сверстница Лели, вышла замуж и
уехала на Урал, Женя как бы заняла ее место. С годами разница в возрасте сгладилась.
Да и встречались не часто. Разве что летом или во время зимних каникул, а когда
у той и другой умерли родители, и того реже. Но когда Леля стала признанной
художницей, то начала приезжать чаще. Она утверждала, что нигде так не
работается, как здесь, в старых родных стенах, в этом прекрасном парке.
— Леля всегда требовала, чтобы и я приезжала из города, и я с охотой делала
это, если позволяли обстоятельства. Во время отпуска жила целый месяц, а летом
готова была ездить хоть каждый вечер после работы. С Лелей мне всегда было
интересно...
Помню, как Леля начинала работать, как сомневалась в себе... Она была
сильная, волевая, но, может быть, никто, кроме меня, не видел ее плачущей, не
знал, как она мечется, Правда, позже она это отрицала. Ну что ж. Свойство талантливого
человека — отрицать свои слабости, не правда ли?
Женя подняла на меня большие глаза.
— Вероятно, но... — Все-таки я была уверена, что правда есть правда. Но
Женя считала по-другому. Она была удивительно проницательна, чуяла то, что вы
еще не произнесли вслух.
— Творческих людей нельзя судить по законам арифметики, — сказала она
строго. — Здесь нужна алгебра.
Она скупо рассказала, как несчастлива была Леля в первом браке, — хоть Виталий
был красивый, даже слишком красивый для мужчины, но упрямый, самолюбивый,
чуть-чуть ограниченный.
— Может, это и не ограниченность, а сосредоточенность, — тут же поправилась
Женя, боясь быть несправедливой. — Леля его очень любила. Но... — она как-то
беспомощно развела руками, — между ними всегда шла борьба — кто талантливее,
кто умнее, кто больше в жизни успел. Но какой же мог быть вопрос, когда Леля
была и талантливее, и умнее. И шире...
— Как вы ей преданы...
— Я уважала ее талант, — твердо сказала Женя.
— Мне почему-то кажется, она была тщеславна...
Женя пожала плечами.
— Это ведь мелочь по сравнению с главным. — Она задумалась. — Моя сестра
хорошо рисовала, они вместе с Лелей ходили в художественный кружок, и моя
сестра даже считалась более способной... Позже она возненавидела Лелю. Сестра
считала, что Леля пройдет по трупам, но добьется успеха. Я с ней не согласна.
Талант сам по себе имеет право на многое, но, кроме таланта, надо иметь
характер, вот что важно. У Лели характер был...
— Как вы ей все-таки преданы, — снова сказала я.
— Почему ей? — удивилась Женя. — Не ей, а ее работе. Разве талант не
превыше всего?
— Но Виталий так не думал?
— Нет. Они расходились мучительно, грубо, со скандалами, чуть ли не с
драками, с яростью. Любили друг друга, но не понимали, не уступали ни в чем...
Это было ужасно. Потом Леля — она была потверже духом — уложила чемодан и
уехала. Виталий бушевал без нее, пил... Потом тоже уехал... А вскоре Леля
выставила свою первую картину «Колхозная свадьба» и имела большой успех...
— Да. Она взошла ярко, я бы сказала — как звезда, будь это не так
старомодно.
— А какая разница — старомодно, модно, — я не понимаю. Было бы верно...
Я думаю, что судить надо по результатам. Мало ли кто считался способным... Не
намерения, а дела — вот что решает....
— Тут нет единого закона, — все-таки сказала я. — Но, конечно, побеждает
тот, кто призвание, работу ставит выше, чем любовь к ближним.
— Но разве ближний не часть человечества? Помните эпиграф у Хемингуэя?
— А все-таки... Вы не будете сердиться? Мне кажется, что суетность у
вашей Лели была...
Я замерла от страха, испугавшись, что Женя обидится и замолчит, может,
даже встанет и уйдет. Но, к моему удивлению, она спокойно согласилась:
— И суетность, и мелочность, но опять-таки какое это имеет значение?
— Да никакого, пожалуй... — Я все боялась, что разговор оборвется, что
откроют кассу и Женя уйдет или вернется Орест. И поспешно спросила: — Она сразу
вышла за Ореста?
— Ну что вы! Прошло несколько лет... Мы ведь не часто виделись. Леля
стала довольно знаменитой, потом очень знаменитой. Ездила за границу. Уезжала
на этюды, на большие строительства, «на материал», как она это называла. Но
несколько раз в году заглядывала сюда, в отцовский домик, и тут же вспоминала
обо мне, хотя и в Москве, я вам уже говорила, я у нее бывала... У меня ведь
тоже шла своя, пусть скромная, не такая яркая, как у Лели, но своя жизнь. Я
работаю в музее... Нет, Орест появился много позднее. Они познакомились в
Москве, хотя их решающее свидание произошло здесь...
Все-таки удивительно милое лицо было у Жени. Не то чтобы красивое, но вы
все время видели, как на нем отражались вспышки чувств и мыслей, скрытая душевная
работа. Я глаз не отрывала от ее лица...
— Я уже знала про Ореста и от Лели, и от других. Как вы говорите, одно
плохое. И вдруг он явился сюда. Леля сказала мне, что вечером он у нее будет, и
велела прийти. Мы даже пирожки испекли с какими-то ягодами, не помню, с какими.
Когда он вошел, громкий, вальяжный, немножко вульгарный, я сразу захотела уйти.
По Леля не разрешила. Правда, я с ними была мало — то хлопотала на кухне, то
сидела у телевизора. Участия в разговоре не принимала. Да он на меня и не
обращал внимания, Орест. Кто я была для него? Соседка по даче... Он меня и не
заметил в тот раз. Леля тоже говорила мало, слушала. А он пел, то есть не
романсы пел, а упивался звуком собственного голоса. Правда, то, что он
рассказывал, было довольно интересно. Леля спросила потом: «Ну как?» Я
откровенно сказала, что думаю: «Нет, нет и нет. Не зря говорят, что он зарится
на твое имя, на деньги, на...» Леля подсказала: «На дачу? Но на эту отцовскую
развалюху, положим, никто не позарится. Вот если действительно получу дачу под
Москвой...»
Я знала, что Леле обещают дачу под Москвой, и очень горевала, боялась,
что она больше не будет приезжать к нам, хотя понимала: домик разваливается,
крыша течет и вообще он мал и неудобен. Но Леля любила поселок, наш знаменитый
парк и утверждала, что никогда и ни за что не бросит родное гнездо.
Я как-то глупо сказала:
«Ты ведь была счастлива здесь... — и пояснила: — с Виталием...»
Леля ответила не сразу:
«Мы встретились с Виталием слишком рано. Нам надо было встретиться
позднее, когда все стало на свои места...»
Иными словами, Леля хотела сказать, что теперь, когда она знаменита,
когда добилась признания и славы, их жизнь шла бы по-другому.
После визита Ореста мы посмеялись, обсудили с шуточками его поведение за
столом, его манеры и самовлюбленность, желание произвести на Лелю впечатление
своими связями и знакомствами.
«Но он не бездарный и не глупый», — все-таки сказала Леля.
Я успокоилась.
А через несколько дней она вдруг заявила:
«Все-таки мне надо выйти замуж».
«Но не за Ореста?» — вырвалось у меня.
«А за кого же?»
«Ну...» — Я назвала наугад несколько имен.
«Нет, — решительно покачала головой Леля, — все эти люди творческие
личности... Я им не гожусь в жены, но и они мне не подходят».
«А Орест? Он-то тебе зачем?»
«Орест по крайней мере будет заниматься моими делами. Для счастья в
семье вовсе не нужно, чтобы муж хватал звезды с неба».
Леля засмеялась, но не так жизнерадостно, как умела смеяться.
«Ты будешь их хватать сама, не так ли?»
«Муж и жена должны быть нужны друг другу — вот что главное... Орест
будет уважать мою работу...»
«И твой успех».
«А как же... Но ты не думай, — сказала вдруг Леля, — в нем много такого,
чего нет у меня. Он очень сентиментален. Чувствителен».
«Он? — Я была озадачена. И только взмолилась: — Не торопись... Подумай
еще...»
Но Леля вышла за Ореста. И они стали приезжать вместе. Орест был
довольно любезен со мной, хотя не нравился мне по-прежнему. А я... — Женя
доверительно тронула меня за руку. — Я тогда была в переживаниях, в личном
горе. В общем, был такой человек... — Она замялась, потом тряхнула головой, как
сделала бы это молоденькая девочка. Почему-то все время, вглядываясь в Женю, я
видела, каким милым, сердечным, нетерпеливым, полным ожидания подростком она
была. Да и теперь такая же — честная, открытая, бескомпромиссная. — У меня был
друг, очень занятой и задерганный человек, с которым мы уже много лет
канителились, не умея ни разойтись, ни пожениться, потому что он был женат. Так
вот, он очень невзлюбил Ореста... Я-то хоть старалась быть справедливой, а он,
этот мой друг, вежливостью себя не утруждал...
Раньше всего Орест восстановил забор между нашими участками. Заборчик при
наших отцах, конечно, существовал, но потом сгнил, повалился, а ни Леля, ни я
не хотели тратиться на ремонт, и, в сущности, нам было так даже удобнее. Оресту
это не понравилось. Мне было неприятно, что он стал строить забор, неприятно
скорее символически: между мной и Лелей как бы возникает преграда… Но Леля вышла
к плотникам, посмотрела, как они обтесывают бревна, полюбовалась стружкой и
велела сделать калиточку. Орест ничуть не смутился.
«Леля хочет разбить цветник. И я боялся, что ваши куры...»
«Но я не держу кур...»
«Тем лучше. — Ореста нелегко было сбить. — Куры, петухи — это грязь,
шум, а Леля плохо спит...»
«Может, нам радио не включать?» — ехидно спросил мой друг, хотя терпеть
не мог радио.
«Нет, почему же, — разрешил Орест величественно, не замечая иронии. — Почему
же, если не очень громко...»
Мой друг подчеркнуто низко поклонился. Но это не дошло до Ореста.
Может, вам смешно, что я так подробно рассказываю о заборе, но он многое
определил в наших отношениях — я, Леля, Орест, Владимир Иванович.
Орест распорядился покрыть забор со своей стороны красивой зеленой краской,
с нашей же резали глаза некрашеные доски.
Не сразу, но Леля заметила это:
«Ну и жмот ты, Орест...»
Оба захохотали, как будто то, что Орест жмот, было очень смешно.
«Мне удалось достать совсем немного краски. Была другая, но ужасный
оттенок...»
«Пустяки. Мы сами покрасим, при чем здесь вы?» — бодро сказала я.
Но это были вовсе не пустяки. Мы ведь жили трудно, только на мое жалованье,
свое Владимир Иванович отдавал семье. И все-таки я купила краски и сама покрасила
наш забор. Нет, я не скажу, что Орест был так скуп. Он просто не давал себе
труда думать о других. Иногда он бывал даже заботливым. Привозил какие-нибудь
диковинные консервы и орал через забор: «Женя, танцуйте, я купил на вашу долю
две банки! Хотите?» Это было очень мило с его стороны, не правда ли?
У Ореста была трогательная манера считать все наше своим. «Мы взяли вашу
лопату. Она так хорошо заточена». Или: «Не отдадите ли вы нам старинное круглое
зеркало для Лелиной спальни? Видели наши новые занавески, правда, гениально?»
Он приходил, смотрел на наши вещи как оценщик, а у нас было еще много маминых
вещей. «Какие у вас симпатичные ситцевые чашки, Леленька, может, махнемся с
Женей или купим такие же? Вам ведь не будет неприятно? У нас с вами бывают
совершенно разные люди, из разных кругов». Мне было в общем безразлично. Из-за
двусмысленного семейного положения в нашем доме вообще почти никто не бывал, но
Владимир Иванович взвивался: «Он нас ни во что не ставит, как будто мы мухи,
насекомые, а не люди...» Конечно, он был эгоистом, Орест, но все-таки
добродушным. Как бывают эгоистами дети. Появлялся у забора, смотрел, скажем, на
нашу новую клумбу или дорожку, выложенную кирпичом: «О, очень мило! По
заграничному журналу, да? Пожалуй, мы тоже так сделаем». Или командовал тоном,
не допускающим возражений: «Женя, разделите нам пионы. Леля мне не доверяет...»
У Лели тогда как раз возникла любовь к цветам, к саду. Раньше она была
совершенно к этому равнодушна. И к убранству дома, к устройству тоже
равнодушна. Теперь она любовалась Орестом, ездила с ним по магазинам. Только
посмеивалась иногда, когда мы оставались одни:
«Мой толстый голубь вьет гнездо...»
А все-таки ей было приятно.
Так вот, Владимир Иванович говорил про Ореста, пожимая плечами:
«Великолепный экземпляр бесстыдника. Ну и что, неужели ты станешь делить
им пионы?»
«А как же, — краснела я. — Ведь они их погубят. Пионы капризные...»
«Тебе-то что?»
«Леля любит пионы...»
«Пусть...»
«А я люблю Лелю...»
«Прелестно. Леля любит цветы, Леля любит своего Орика... А Орик что
любит? Лелины денежки?»
Тогда я начинала не очень уверенно заступаться за Ореста:
«А за что я люблю тебя? Разве любят за что-нибудь? Ты издергал меня,
изломал мою жизнь...»
Кончалось тем, что мы ссорились, и Владимир Иванович, не отличавшийся
сдержанностью, кричал, что он не обещал мне гладенькой, ровненькой жизни, не
брался служить мне так ревностно, как служит Орест своей знаменитой жене.
Его как будто осеняло:
«Ты посмотри, как он ходит. Как петух, как индюк, как я не знаю кто... Он
весь лоснится от самодовольства... Это профессиональный муж, понимаешь? В этом
смысл его существования, ведущая идея.,. Его гордость, если на то пошло».
«Неправда, он любит и ценит Лелин талант, ее творчество... Он помогает
ей жить...»
И я сказала потом Владимиру Ивановичу:
«О да, ты прекрасный человек и в поэзии знаешь толк, ты предельно честен
и добросовестен. Но почему ты никому не принес счастья, почему всем нам так
плохо — и мне, и твоей жене, и твоим детям?..»
Женя виновато улыбнулась, как бы извиняясь, что стала рассказывать о
себе. Она ничего не умела скрыть, а может, и не хотела — гордая, храбрая Женя.
Я спросила у нее:
— А почему Орест не предложил вам жить в их пустом доме? Зачем же вам
снимать мансарду?
— Думаю, что не догадался. Просто не пришло в голову...
— Ему в голову приходит только то, — сказала я, торжествуя, — что
полезно или нужно самому.
— Неправда, вот уж неправда! — закричала Женя. — Он много раз предлагал
мне деньги…
— И вы брали?
— Нет, — кротко ответила Женя, — я не хотела брать деньги. Зачем? Я не хотела
примешивать к нашим отношениям что-нибудь материальное...
— Вот видите. — И осеклась. Ну что я лезу в чужую душу? Только сказала: —
И все-таки я не понимаю, хоть убейте, как Леля вышла за такого человека, как
Орест, и, как вы говорите, даже полюбила его…
— ...В Оресте были доброта и преданность, которых Леле так не хватало
всю жизнь. Это не любовь-поединок, не любовь-подчинение, которой она бы не
стерпела, как терпела я. Женственная натура Ореста нужна была Леле как воздух,
как тепло, как солнце, а сам Орест — парадоксально, да? — становился при Леле
больше мужчиной. Учился у нее тому, чем не владел сам, или, вернее, владел, но
в малой степени. Широте ее взглядов, размаху души, если можно так выразиться.
Орест, что ни говори, был артистичен, восприимчив...
— Но расчет все-таки был?
— Нет, — запротестовала Женя, — не расчет. Только не расчет. Он много
зарабатывал сам, писал сценарии для научно-популярного кино. И очень ловко. Но
душа его жаждала художественного творчества. И он любил Лелю.
— А будь она не знаменита?
— Ну, не знаю. Не уверена. Но он ее любил. Он был активно добрым, возил
к ней докторов, доставал из-под земли лекарства, смешил ее. Я встретила Ореста
осенью, в сырое, туманное утро — он бежал на рынок за цветами. «Когда Леля
проснется и увидит в пасмурную погоду яркие цветы, ей будет не так тоскливо».
Нет, мой Владимир Иванович был на такое неспособен...
Тут даже я дрогнула.
— Может, и правда любил? Вот была известная французская певица Пиаф,
Эдит Пиаф, немолодая уже, некрасивая. А муж-мальчик любил ее за одаренность.
Молодых смазливых девчонок, в сущности, много...
— Мне не везло в любви, — сказала Женя просто. — Никаких таких особенных
чувств я ни у кого не вызывала. Леля считала, что я не умею за себя постоять.
Но, — она развела руками, — я считаю, какая же это любовь, если за нее нужно
бороться...
Мне стало совестно, что я заставляю уже немолодую женщину так
раскрываться, «выкладываться». Я спросила:
— А Леля была верным другом, она умела дружить?
— Смотря как понимать, что такое дружба. Сестра считала, что Леля меня
бесцеремонно эксплуатирует, ну, чисто в бытовом плане. Сестра посмеивалась
всегда, что Леля мне редко подарки привозит. Но я так не считала. Разве дружба
в этом? Леля давала мне возможность подниматься до себя, до своих интересов...
И только тут, спохватившись, что время уходит и что Орест действительно
с минуты на минуту может появиться, я стала спрашивать о главном. Женя раньше
упомянула о трагедии Лели: как она это понимает? Леля писала спекулятивно?
Лакировала действительность? Я не представляла, как теперь, в наши дни, можно
волноваться у Лелиных картин, хотя сама когда-то — не так уж давно — очень
увлекалась ее произведениями. Считала их оптимистичными, масштабными. Я
сказала:
— Мы так выросли за эти годы. Многое из того, что нравилось, теперь
кажется фальшью...
Женя согласно кивнула головой. Я хотела понять:
— Она что, хотела дешевого успеха? Боялась правды?
— Правда не всегда бывает красивой...
— А по-вашему, надо рисовать красиво? — допытывалась я.
— Не то чтобы красиво, — ответила Женя, — и не то чтобы возвышенно... —
Она подыскивала слово. — Но писать надо высоко, вот именно — высоко. Некрасивую
правду я и сама вижу каждый день. А у Лели был размах...
— Но я все-таки за правду. Хотя не отрицаю, что размах в картинах Лели
был...
Ах, эти волшебные краски, неистовость, праздничность! Эти веселые
сюжеты, чуть-чуть слащавые... Я уже ломала голову над ними когда-то, то
восхищаясь, то ужасаясь. Как они были неожиданно нарядны, ее сюжеты, смелы,
невозможны в реальной жизни! Тогда и возник мой интерес к личности Лели. Может,
я пристаю теперь к Жене с расспросами только лишь по старой памяти, по инерции
сохраняя жгучий интерес, ища ответы на свои давние сомнения. Дело ведь, в
сущности, не в Орике, а в Леле.
Я сказала это Жене, стараясь, чтобы она поняла, чем объясняется мое
любопытство, настойчивость, даже бестактность.
Она мотнула головой.
— Я понимаю, иначе бы и разговаривать откровенно не стала...
— Надо ведь не просто изображать правду, надо уметь видеть правду.
— Леля любила успех, но она не притворялась, нет. Мы иногда спорили. Леля
говорила так: «У меня бешеная интуиция. — И раздувала ноздри. — Если бы я была
геологом, я чуяла бы ископаемые нюхом». Такое чутье у нее было и на
общественные явления. Ее очень ценили. Она умела угадать...
— И угодить, — уже дерзко сказала я.
— Она не угождала, — с болью сказала Женя. — Это получалось само собой. Я иногда говорила:
«Леля, мне кажется, рисовать надо только свое, выстраданное, только свое
выживет и пройдет проверку временем». А она смеялась. Даже не раздражалась, а смеялась
надо мной... Леля не любила несчастных, слабых людей. Сама была сильная и
изображать хотела сильное, яркое, героическое...
— Как это не вяжется с ее собственным образом жизни, с характером
Орика...
Женя вздохнула:
— Все-таки с Ориком она была счастливее, чем одна.
— Кто знает...
— Я знаю, — твердо сказала Женя. — Я-то знаю... Леля часто дарила мне
свои наброски, этюды. А иногда я сама подбирала клочки, которые она бросала.
Есть такие зарисовки, такие интересные куски, совсем не те, что попадали на полотно.
Но потом Орест все у меня забрал...
Я даже закричала:
— Зачем же вы отдали?
— Ну, как зачем? У него порядок — папки, шкафы. И все-таки больше прав,
чем у меня.
— Но подарено было вам?
Она развела руками. И сказала задумчиво:
— Судить всегда легко. А если ты жил и верил, что живешь правильно... и
писал честно то, что думал, что казалось тебе нужным и полезным людям...
— У нее был неплохой советчик, у Лели: кто-кто, а Орест знал, что кому
полезно, какие эскизы надо использовать, а какие отбросить...
Женя ничего не ответила. Задумалась. Потом сказала тихо:
— Я все простила Оресту, когда увидела его у могилы Лели. Он стоял, засунув
руки в карманы плаща, растрепанный, толстый, с обиженным выражением лица, какое
бывает у толстых мальчиков, и плакал. А ветер все сильнее трепал его волосы. Он
пришел без цветов, в то время как ему, если бы он играл роль неутешного вдовца,
полагалось держать или огромную охапку, или хотя бы одну-единственную белую
розу. А он просто стоял на ветру, несчастный, и рыдал... Вот тогда я
по-настоящему примирилась с ним.
Потом я помогала ему разбирать Лелино хозяйство, и мы нашли дневник.
Каждая страница этого дневника была полна любви к Оресту. Он был добрый
человек. Просто добрый. И, я вам уже говорила, я готова поклониться ему за это
до земли. За то, что он вызвал меня на похороны, — ведь мог забыть обо мне. И
потом я у него бывала. В квартире по-прежнему висели Лелины картины, Лелины
портреты, все оставалось на своих местах. Он так следил, чтобы все сохранялось
в порядке. Леля была права. Он действительно устроил ее посмертную выставку,
выпустил сборник воспоминаний...
— А Зоя?
— Что Зоя? Те, кто предсказывал, что он тут же женится на хорошенькой,
едва только Леля умрет, ошиблись. Он женился не скоро. На девушке, которую Леля
знала, которой покровительствовала. И Орест по-прежнему ходит на кладбище и
ухаживает за могилой. А в доме, как и раньше, Лелин культ. Орест долго был безутешен.
Только когда у Зои прорезался голос, талант, Орест ожил и повеселел. Стал
хлопотать, ухаживать, устраивать ей выступления и концерты...
В это время в конце аллеи показался Орест. Женя встала. Она уже не
летела, не рвалась к нему, просто сделала навстречу несколько шагов.
— Орест, — сказала Женя, сразу же забыв обо мне, — Орест, что будет с
домом? Отдай им, раз они так хотят, они ведь тоже родня...
Лицо у Ореста окаменело, он стал похож на римского патриция, как их
изображают в учебниках истории.
— Орест, ты должен отдать им дом...
— Это память о Леле, — отрезал он. — Мне там дорога каждая половица.
Сколько угодно денег, только не дом. — И сделал жест, из которого можно было
понять, что уговоры бесполезны. И даже бестактны.
Женя не стала настаивать.
— Я так хочу послушать Зою, — сказала она.
Орест оживился:
— Зал неплохой, акустика приличная. Я во всем убедился сам. Прощай,
Женя. Прощай, верный друг. Как хотелось бы посидеть, поговорить, узнать, как ты
и что, Но я тороплюсь. У Зои три выступления, в Ленинграде погода неверная, так
легко простудиться... — Он зябко пожал плечами и запахнул на шее пуховый шарф,
как будто он должен был петь, а не Зоя.
Когда Орест ушел и Женя, взволнованная и немного огорченная, вернулась,
я сделала последнюю попытку:
— Почему Орест не предложил вам контрамарку?
Женя даже не ответила.
Открыли кассу, мы взяли билеты, и Женя вспомнила про свою авоську с
банкой, все еще висевшую на спинке скамьи. Солнце ушло, стекло больше не
сверкало, почти слилось с тенью, падавшей от дерева.
— Совсем вылетело из головы. Я ведь еще должна купить сметаны к обеду...
Много времени утекло с той поры, как мы сидели с Женей в парке в тот
осенний день. Больше мы никогда не виделись, хотя я много раз обещала ей
приехать летом. А теперь она что-то перестала отвечать на поздравительные
открытки, которые я упрямо посылаю. Боюсь даже думать, почему она молчит.
Надоело? Заболела? Стала ко всему равнодушной? Справиться не у кого, связь с
домом тетки давно оборвалась.
Время, годы смягчают людей, как морской прибой обкатывает и шлифует
камни. Я уже не так безапелляционна, не так уверена в том, что знаю, как надо
жить, как поступать, решать. Часто, вместо того чтобы твердо сказать «плохо»
или «хорошо», уклончиво отвечаю: «Мне это было интересно». То есть моя
категоричность в суждениях уступила место длительному раздумью. Теперь я
гораздо больше ценю заботливую дружбу, порядочность, доброту. И вот тут нередко
вспоминаю о Жене. Все-таки я многим ей обязана. Она умела относиться к людям
справедливо, непредвзято. Я склоняюсь к мысли, что Женя была права: не так уж
мало, если человек умеет любить и служить тому, кого любит. Это тоже своего
рода талант…
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





