ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Крудова Наталья 1986
Что спорить со взрослыми бессмысленно, я знаю давно. А как еще не
раздражать их, меня научил в трамвае маленький мальчик. Вернее, научить он
никого и ничему не мог, ему было годика два, наверное. Просто он натолкнул меня
на мысль, как вести себя, чтобы тебя не одергивали.
Мальчик все время спрашивал своего папу: «Зачем? Почему? Почему трамвай?
Зачем не прыгай?» А папа встряхивал мальчика, заставлял сидеть смирно.
Я стояла позади их сиденья у кассы. Мальчик иногда оборачивался ко мне и
улыбался. Вязаная шапочка сползла у него набок, открыв маленькое ухо и влажные
волосики. Я протянула руку к его голове, чтобы поправить шапку, но мальчик,
мигом извернувшись в отцовских руках, схватил меня за палец и засмеялся так
радостно и громко, что многие пассажиры стали поворачиваться к нам и тоже
улыбаться. И тут кто-то крикнул:
— Смотрите, лошадь! Лошадь гуляет!
Рыжий с блестевшей шерстью конь бегал кругами на лужайке у Инженерного
замка. Он бежал, круто изогнув шею, грива и хвост, плавно опускаясь и
приподнимаясь в такт бегу коня, казались воздушными.
Трамвай шел медленно. Но мне очень хотелось, чтобы он остановился и
можно было долго-долго смотреть на коня.
— Папа! Папа! — торопясь, просто захлебываясь словами, кричал мальчик. —
Кто? Почему?
Он то приникал лицом и ладошками к стеклу, то, оттолкнувшись, выжидающе
смотрел на отца, на меня и на других пассажиров, ожидая ответа.
Папа опять встряхнул сына, наверное, сильнее, чем раньше, и мальчик
заплакал.
Пожилой мужчина, повернувшись к мальчику, объяснил:
— Лошадку погулять вывели. Цирк рядом. Знаешь...
Он хотел, наверное, еще что-то сказать, но, взглянув на отца мальчика,
замолчал. Уши у папы стали темно-красными. Мальчик был таким приятным,
забавным, а папа казался мне мрачным занудой. Я тогда подумала: что можно
сделать с папой мальчика, чтобы он не был таким противным? Мой вывод оказался
малоутешительным: если нельзя превратить папу в такого же приятного и
обаятельного человека, как сам мальчик, то мальчику нужно молча сидеть, не
двигаясь, на коленях у своего родителя. Тогда наверняка папа будет доволен
таким неподвижным и молчаливым ребенком.
Я решила вечером испытать на родных, маме и бабушке, себя в новом
качестве. Мне кажется, им, так же как и папе мальчика, все равно, что я живая
девочка, а не послушная кукла, такой же, как они, человек, только младше.
Я вышла из трамвая. Мальчик смотрел на меня в окно доверчиво и грустно.
Мне захотелось взять его на руки, поиграть с ним. Я бы часто ходила к нему в
гости. Мы бы вместе гуляли, а на ночь я бы читала ему книжки. Но город большой,
и вряд ли я увижу мальчика еще раз. Трамвай идет от школы до моего дома всего
десять минут. За каких-то десять минут привязаться к чужому ребенку?
Почему портфель такой тяжелый, хотя я сдала из него две толстые книги в
библиотеку? Отчего ноги делают шаги все короче, чем ближе я подхожу к дому? А
потому, милый мальчик, что я просто не хочу идти домой.
— Кира, ты опять задержалась! — встретила меня бабушка.
— Трамвая долго не было, — ответила я.
— Пойдем на почту, — сказала бабушка. — Почтальон утром извещение принес
и попросил: «Заберите скорее вашу посылку. Мы ее на окно поставили. Шипит и
бьется, вдруг развалится? Там какие-то бешеные зверьки».
— Может, папа мне сурка или суслика прислал? — спросила я.
— А теперь по телефону звонят, чуть не приказывают: «Придите!» Раньше
шоферы, дворники, официанты были скромнее. Стеснялись лишний раз беспокоить
людей. А теперь с каждым годом все хуже. Кстати, нас в зоопарке ждут с
посылкой. Я звонила.
Из бабушкиного паспорта, что лежал на столе, виднелось извещение. И мы
пошли на почту.
Я люблю маму и бабушку, они же, видимо, недолюбливают друг друга.
Бабушка, разговаривая со своими гостями, в отсутствие моей мамы не называет ее
Тамарой или хотя бы Тамарой Васильевной. И уже ни в коем случае дочкой, а
только невесткой. Мама отвечает тем же: «Нет, нет, это чашка свекрови» или:
«Вот мы с Кирочкой уедем — пусть поживет со своими гадюками и пауками». Мама
так издавна и часто грозится уехать, что я уже ни в какой отъезд из Ленинграда
не верю. Раньше верила и боялась. Мне не хотелось расставаться с бабушкой. И я
люблю свою школу и даже наш маленький школьный двор. В середине двора есть щель
в асфальте. Весной оттуда пробивается трава, а осенью виднеются края шляпок
шампиньонов. Из всего, что есть во дворе, если не считать, конечно, детей,
собак, кошек, птиц, мне нравится эта щель в асфальте. Когда мне было семь лет и
я пошла в первый класс, я встретила на улице старенького дяденьку. Он нес на
ладони, бережно прижимая к груди, зеленых, как мне показалось, птенцов. Я так
смотрела на них, что старичок остановился и сказал: «Посади ее, девочка. Это
маленькая лиственница!» — и дал махонький, согретый ладонью саженец. Я посадила
его в щели асфальта. Мы с Сережей Бодровым, мальчиком из нашего двора,
огородили саженец, нарисовав круг разноцветными мелками. Я представляла, что
лиственница выросла большая, радостно зеленая, как елка в зале. Через три дня
ее смяла машина, увозившая мусорные баки.
И все-таки теперь я бы очень хотела уехать отсюда. Куда? Наверное, к
папе.
Мой папа, сын бабушки, второй год был в экспедиции. Иногда он звонил нам
по телефону. Тогда бабушка надолго освобождала маму от домашней суеты — стирок,
стряпни и вытирания пыли. Только цветы разрешала поливать.
«Это успокаивает и радует усталого человека», — сказала мне как-то
бабушка.
Даже не очень вникая в происходящее в семье, я понимала, что папе сейчас
плохо и ему необходима временная материальная помощь. Почему-то ему не
заплатили за летнюю работу. Значит, мама снова будет делать чертежи дома.
Я как-то спросила у нее: «Это, наверное, плохо, что тебе приходится
много работать?» Мама рассердилась и ответила: «Какая разница, кто в семье
больше зарабатывает? Об этом думать мелочно и стыдно».
По-моему, мама права.
Весной и летом папа иногда присылал посылки с дырочками в крышке.
Сейчас мне очень хотелось, чтобы в посылке был ласковый пушистый зверек
и записка от папы: «Кира, я вспомнил, что ты давно просила сурка. Я долго искал
его, но все попадались злые. А этот ручной».
— Вы за живой посылкой? Наконец-то!
— Да, — ответила бабушка, слегка кивнув головой.
— Иди сюда, девочка! — позвал меня служащий.
Большой ящик уже дергался у меня под мышкой, а бабушка все заполняла
квитанцию. Мы были единственными на почте, кому сначала выдавали «ценность», а
после брали для проверки документ.
И мы поехали в зоопарк. В кабинете заведующего отделом рептилий нас
ждали сотрудники. Бабушка стояла поодаль, стояла прямая, строгая. Она двумя
руками прижимала к животу сумочку и выжидательно смотрела на меня. Я втиснулась
между сотрудниками и стала следить за их руками: толстые ящерицы, небольшие и
размером побольше змеи, огромный паук обхватил мохнатыми лапами чью-то
маленькую ладонь. В ящике рылись пинцетами, на концах обмотанными марлей, и
аккуратно, почти нежно, вытаскивали каких-то других мелких тварей.
Произносились латинские названия. И вдруг жалостно по-русски добавили к
латинскому слову:
— Ах, мертвая! Нет, кажется, жива! Воды, надо спрыснуть водой. Нет, все,
поздно. Она уже умерла, жаль. Чудная была бы самочка для Гоши.
— А Гоша кто? — спросила я.
— Скорпион, конечно, — обиженно ответил бородатый мужчина.
Наконец со дна ящика достали два конверта. Один дали мне, и бабушка тут
же оказалась рядом. Не глядя на меня, будто меня и вообще нет с ней рядом,
бабушка вскрыла конверт. А над вторым склонились сотрудники зоопарка, как
раньше над посылкой. Я стояла между двумя письмами и по лицам взрослых
старалась отгадать, о чем пишет отец.
Один из сотрудников выдал бабушке банку, сверху обтянутую марлей. Я
ждала, что сейчас, как обычно, попросят: «Зачем он вам? Каракурт опасный... У
нас самка есть для него». А бабушка ответит: «Николай Ростиславович вернется и
опять займется научной работой. Видимо, этот экземпляр ему нужен». Но никто не
просил, уже зная, что может ответить бабушка.
Бабушка, улыбаясь, простилась, хотя глаза не скрывали ледяного презрения
к сотрудникам. И не надо было слов, чтобы понять: «Вы же мизинца моего сына не
стоите, бездари».
И как-то самой собой, помимо моей воли, я тоже снисходительно кивнула,
прощаясь, вдруг почувствовав себя дочерью великого человека.
Дома бабушка поставила банку на подоконник, рядом с другими банками,
накрытыми марлей. Мама, передернувшись от отвращения, вышла на кухню, а мы с
бабушкой стали внимательно оглядывать комнату: надо было найти весеннюю муху.
Нового жильца нужно покормить с дороги. Муха дремала на потолке. Я взяла сачок.
— Осторожно, не убей, — сказала бабушка и вышла на кухню.
Из кухни слышалось: «Неужели ты, Тамара, не понимаешь, что твой муж
талантлив?» — «И поэтому бросил университет, остался без специальности». — «Да
Николай еще ребенком разбирался в биологии не хуже профессоров».
Я понимала, что бабушка не права, когда защищает папу. Но, слушая
неоправданную похвалу себе, я хоть и краснела от досады и смущения, однако
где-то далеко, в глубине души, соглашалась с бабушкиным убеждением: «Кира на
редкость смышленая девочка».
Часы на стене щелкнули и пробили семь раз. На улице светло. Я вынула
учебник по математике и стала читать условие задачи.
За окном так кричали воробьи, что я не сразу расслышала приглушенный
звонок телефона.
— Это ты?
Я не ожидала, что Сережа еще позвонит мне когда-нибудь, и молчала.
— Кира, я же слышу: это ты. У тебя ручка во рту, и ты по ней стучишь
зубом.
— Чего тебе? — спросила я сипло.
— Ты чего делаешь? Я не сержусь, просто хочу поговорить с тобой. Нужно
увидеться.
— Решаю задачу.
— Не решишь, я еле-еле справился. Дам списать.
— Не нужно.
— Ты можешь выйти?
— Нет, — ответила я.
— Ну тогда слушай. — Голос Сережи стал злым. — Я хотел по-хорошему,
хотел просто узнать. Ты специально подсунула мне дырявую лодку? Я чуть не
утонул сегодня.
На горло мне что-то давило, и я ответила сиплым басом:
— Лодка была новой, на ней никто никогда не плавал.
— Но швы, швы, — прошипел Сережа, — они стерлись и пропускают воду.
Значит, она долго у вас валялась и швы сгнили, я чуть не утонул. Я сейчас
принесу тебе ее, спасибо за подарок!
Теперь я пропищала в трубку испуганно:
— Нет, нет, пожалуйста, не надо.
— Можно подумать, что ты ее украла, — сказал Сережа. — Я сейчас
занесу...
Я очень испугалась, но почему-то сказала спокойно, с достоинством:
— Хорошо, неси, только вместе с шахматами.
— Ты дура, злая дура, — сказал Сережа и повесил трубку.
И лодку, и шахматы я действительно взяла без спроса: и то, и другое у
нас лежало без дела на антресолях. Но сейчас я думала о другом. Вот Сережа
пришел в заводь. Взрослые красят катера, смолят швы лодок. Сережа достал из
рюкзака сложенную лодку, легкие весла, насос. Наполнив лодку воздухом, он
положил аккуратно чехол от лодки и насос в рюкзак, снял ботинки и, закатав до
колен брюки, вошел в ледяную воду. Нужно знать Сережу, чтобы представить все
это. Другой бы мальчик поежился от холода, улыбнулся взрослым: «Неказистая моя,
не как у вас лодочка, не шикарная моя яхта, но для меня пока и такая сойдет».
Или так: «Моя брезентовая лодочка лучшая из всех, удобная: сложил — и унес
домой, разложил — и плыви в ней себе на здоровье».
Конечно, Сережа вошел в ледяную воду, как в теплую. Вставил в уключины
весла и понесся к заливу, высоко подняв голову, не глядя на рыбака в ободранной
лодке, таскавшего из воды корюшку. И тут-то он почувствовал, что оледеневшие
ноги стынут еще больше. Представить, что Сережа может опустить голову и
посмотреть вниз, мне было трудно.
Я не знаю, сам ли он добрался до берега, или его спас рыбак, наверное
посоветовав при этом: «В следующий раз плавай в корыте: надежней». А еще я
представляю, как Сережа говорит рыбаку: «Сколько я вам за это должен?» Он
обязательно бы так сказал, за это его не любят в классе. Он просто очень гордый
и не понимает, что обижает людей, рассчитываясь с ними за любую услугу. Со мной
он не рассчитывается, и я ему благодарна за это. Мне Сережа сказал, что я
альтруистка. Если у меня не будет возможности кого-то опекать, делиться
завтраком, водить в кино, то я просто сойду с ума. В тот день, когда он мне так
сказал, я спросила у мамы: нравятся ли ей альтруисты? Мама ответила: «Нет.
Альтруист — это эгоист высокого класса, дает немного, а требует за это
благодарить всю жизнь. Он страдает от невнимания, но вслух ничего не требует. От
этого окружающих мучит совесть, они чувствуют себя подлецами рядом с таким
жертвенным альтруистом». Я не все поняла, поэтому спросила: «А я, по-твоему,
альтруистка?» Мама уже сфокусировала глаза на чертеже, но ответила: «По-моему,
да».
А может быть, Сережа так промок на заливе, что завтра заболеет и попадет
в больницу? А я так плохо разговаривала с ним по телефону. И вдруг, не знаю
почему, я почувствовала: Сережа на заливе был вместе с Галей, с Галей
Рассказовой. И тогда я заплакала. Бабушка принесла с кухни тарелки и спросила:
— Ты что? Господи, новость! Почему ты плачешь?
— Муха, муха была мертвой.
Я поняла, что задачу мне не решить. Тогда я сняла обертку с учебника и
надела ее на книжку «Девочка и птицелет» Владимира Киселева. На случай, если
бабушка захочет посмотреть, что я учу. Если бы Сережа, как раньше, сидел со
мной за одной партой, задачу я бы у него списала. Теперь он сидит с Майей
Палей, очень красивой второгодницей, переведенной зимой к нам из другой школы.
Я недолюбливала ее за вечные: «Ты не поймешь! Малявка! Отсталость!».
Майя попросила меня пойти с ней в театральный магазин. Там под стеклом
лежали парики. Очень дорогие. А Майя спросила: «У вас вчера «длинная блондинка»
за сто десять рублей была?» — «Опоздали. Такие не лежат».
У Майи свои волосы были хорошие. Я спросила шепотом: «Зачем он тебе?
Давай лучше собаку купим. Тут такие щенки пуделя у соседей продаются...» —
«Малявка ты еще, Кира. Знаешь, как мне идет? Вчера примеряла. Старше лет на
десять стала. И лицо такое — не узнать».
Майя была самой красивой девочкой в классе.
Тогда я подумала, что в парике она, наверное, станет такой красавицей,
такой, что ее будут брать сниматься в тех кинокартинах, где потребуется
красавица. Но вдруг продавщица сказала: «Какая же ты еще малявка, девочка». Я
подумала, что она говорит мне. Но она смотрела с жалостью на Майю. «А вдобавок
отсталость. Парики давно вышли из моды».
Я тогда не выдержала и хихикнула.
С тех пор Майя меня не замечает. Мне, конечно, не надо было смеяться. Но
почему Сережа сидит с ней за одной партой? Потому что она красивая или чтобы
позлить меня? Если бы он сидел с Галей Рассказовой, я бы поняла. У них, как
говорят взрослые, «общие интересы». Починить радиоприемник, по-моему, им ничего
не стоит, не говоря уже о школьном электрощитке с нарисованной молнией на
дверце, в котором Галя, как и Сережа, спокойно ищет неисправную пробку рукой,
будто безобидную книжку у себя в портфеле. Мне даже мимо открытого щитка пройти
страшно. Сережа подарил Гале мои шахматы. Конечно, шахматы стали уже его, если я
подарила их ему вместе с лодкой на день рождения...
— Кира! Ах, прости. Ты занимаешься... — И бабушка прикрыла за собой
дверь.
Книгу «Девочка и птицелет» я читаю не в первый раз. Мне нравится, как
она написана, нравится героиня книги, девочка Оля, и нравится ее папа-отчим. Не
нравится Олина мама, но, наверное, все мамы так устают от работы, что дружить
со своими детьми уже просто не могут. Моя мама все время хочет спать. А может
быть, ей просто скучно со мной? Может быть, я такой неинтересный человек, общение
с которым не радует даже родную мать? Наверное, это так. Да, это, конечно, так.
Ведь когда приходит тетя Зита, давнишняя мамина подруга, мама с готовностью
откладывает свои чертежи. И если бабушка дома, они даже уходят на улицу:
«Пройтись по воздуху». А если я дома одна, тетя Зита с мамой о чем-то шепчутся
и мама иногда напоминает: «Тихо, ребенок». Смешные. Во-первых, их разговоры мне
просто скучны. Мне правда не интересно, что совершенно мне неизвестный мужчина
женился на неизвестной мне женщине. Или неизвестная мне Лидия Петровна по
дешевке купила джинсовый костюм. Если бы мама захотела мне что-нибудь купить,
то я предпочла бы щенка. А во-вторых, я плохо слышу, не то чтобы я была глухая,
но, по крайней мере, их монотонного шептания я не слышу.
Когда я была грудным ребенком, мы снимали дачу. Папе велели погулять со
мной. Он понес меня в лес. Вдруг папа увидел нужную ему бабочку-репейницу. Эти
бабочки, кажется, улетают осенью на юг, как птицы. Папа положил меня в траву и
погнался за бабочкой. Пестрая бабочка с потрепанными от перелета крылышками так
увлекла папу, что он про меня забыл. Бабушка радовалась за папу и не заметила,
что папа пришел без ребенка. А мама стирала и радовалась, что я не плачу и не
отвлекаю ее от работы. Принесли они меня ночью с простуженным ухом. Я нисколько
не обижаюсь на папу. По-моему, увлеченные своим делом люди такими и должны
быть.
Видимо, на кухне бабушка обидела маму, если только сейчас, когда я
вошла, бабушка примирительно сказала:
— Ты только посмотри, Тамара, Кирочка всерьез занялась математикой. И
знаешь, она так похожа на Коленьку: подумай, расплакалась из-за какой-то мухи.
Когда Коленька был маленьким...
И бабушка рассказала известную уже нам с мамой историю, как папа плакал
в лесу, когда кто-то из взрослых, не заметив, раздавил муравьев на их тропинке.
Мне кажется, на папу я не похожа. Как-то в день рождения бабушки, на
даче, мы всей семьей с гостями сидели в саду. Гости спрашивали папу о снежном
человеке. Папа солидно наклонял голову и поглаживал рыжую бороду.
— Вы сами видели? — спросил не помню уже кто из гостей.
— Вопрос серьезный, — ответил папа, чуть вытягивая ноги и сложив руки на
большом животе. — Видите ли, я его не видел, вернее, пока не видел, но надеюсь.
Сколько лет я им занимаюсь, пять или шесть? А? Мама?
— Семь, — ответила бабушка.
— Но следы, следы говорят, что он есть, и от следов, уважаемый, трудно
избавиться.
Папа достал из внутреннего кармана пиджака несколько фотографий и
протянул гостю.
— Здесь след снежного человека. А это — снимок гипсового слепка следа.
Гости склонились над снимками. Мама понесла в дом посуду. Мне стало
приятно, что мой папа самый интересный, самый важный человек за столом. Обычно
люди показывают фотографии своих детей или близких и не понимают, что это
скучно другим. Все испортил дядя Женя, мамин брат. Бабушка его не любила, и как
тогда дядя Женя оказался у нее на дне рождения, я не знаю. Наверное, случайно
проезжал мимо на своей машине.
— Но след нетрудно изобразить на сырой земле, — сказал дядя Женя. — Вот
смотрите.
Дядя Женя подошел к кусту сирени, разровнял влажную землю щепочкой и
быстро-быстро стал тыкать в нее пальцем.
— Вот, пожалуйста, вам след белки, — показал и тут же стер дядя Женя. —
Вот заяц, лиса. Да что хотите, пожалуйста.
— По-твоему, я сам след оставил? — спросил папа грустно и покраснел от
обиды. — А эта, по-твоему, фотография тоже фальшивка?
Гости стали спрашивать, что изображено на этой фотографии. Я знала: это
снимок слепка початка кукурузы, надкусанного снежным человеком. Папа победно
смотрел на дядю Женю, зная, что без его объяснения никто не поймет, что
изображено на снимке.
— Скажи уж, — разрешила бабушка и так посмотрела на дядю Женю, что я на
его месте упала бы.
— По-моему, плохо отлитый початок, — сказал дядя Женя.
— Может быть, ты скажешь, что его надкусила лошадь? — спросил папа.
— Нет, — ответил дядя Женя, — у лошади зубы больше.
— Ну вот. — Папа добродушно улыбнулся.
— По-моему, надкус сделал осел, — сказал дядя Женя. — Ты ведь знаешь, я
много ездил с геологическими партиями по Средней Азии. Конечно, можно
предположить, что надкусил жеребенок. Но или лошади глупее ослов, или просто
прожорливее — они смаковать, то есть откусывать сбоку, зернышки не будут, сха́вают...
— Осторожней, здесь ребенок, — строго напомнила бабушка.
— Лошадь съест весь початок, а осел, как человек, выест зернышки.
— Может, ты прав, — согласился папа. — Моя задача — найти или доказать,
что снежного человека нет.
— От какой организации ты ездишь, голубчик? — спросила бабушкина
приятельница Нина Константиновна. — Откуда получаешь доходы на экспедиции?
— Увы, Академию наук в щедрости не обвинишь, — мрачно улыбнулся папа и
скромно погладил бороду. — Пока только мои близкие верят в меня, и я жив их
верой.
Мама так громко глотнула чай, что все к ней обернулись.
Я запомнила весь этот разговор, потому что в тот день я изменила свое
отношение к папе.
— Поедем со мной, оформляйся, — сказал дядя Женя, — та же Туркмения. Мои
ребята в партии, хоть и нефтяники — быдло, как ты называл работяг в юности, —
поверь, народ любознательный и в свободное время поищут кого пожелаешь...
— Принеси мне папиросы, Кирочка. Они в мраморном столике, — попросила
бабушка.
Папиросы лежали перед бабушкой, но ослушаться я не посмела, понимая, что
отсылают меня специально.
Поднявшись на крыльцо, я услышала вскрик. Папа висел в воздухе. От
полета борода и живот у него как-то съехали набок. Я не сразу сообразила, что
папа держится за сук липы. Из-за набитых карманов ноги его казались кривыми. Он
сейчас очень походил на орангутанга — такой есть у нас в зоопарке большой, солидный
самец. Вскрикнул, наверное, дядя Женя. Он хлопал себя по ногам выше колен и
приплясывал на месте. Бабушка рыдала, мама стояла согнувшись за стулом. Нина
Константиновна махала подолом платья так усиленно, будто хотела сдуть все со
стола. Сначала я подбежала к бабушке и увидела, что она хохочет. Я поняла все,
когда папа спрыгнул на землю. Он держал жука-носорога — такой очень славный
шоколадного цвета большой жук с рогом на голове. Видимо, папа, вскакивая за
летящим жуком, толкнул стол и облил гостей горячим чаем.
— Конечно, — сказал дядя Женя, уже не садясь за стол. — Зачем тебе
оформляться в нашу партию, ты ведь ищешь снежного человека только в самых
красивых, можно сказать, курортных местах Союза. А мы...
— Погода портится, — сказала бабушка.
Жук, зажатый между папиными пальцами, шевелил лапками. Мне было жаль
его. Но помочь я ему ничем не могла. Папа вынул из кармана пробковый кругляшок
и коробку с булавками.
— Не надо, пожалуйста, — попросила я. — Дай я выпущу.
Папа чуть подвинулся в мою сторону, но тут же судорожно прижал руку с
жуком к себе.
— И это говорит дочь биолога! — И папа строго посмотрел на маму.
Я заплакала и убежала в дом. Жук мне казался больше чем просто жук. Он
казался мне каким-то очень разумным существом. Я старалась не думать о нем. И тогда
думалось еще хуже: как папа наконец поймал снежного человека и накалывает его
на доску большой булавкой. Я плакала, уткнувшись в подушку. Бабушка подошла и
сказала:
— Смотри, вот жук, подержи его и выпусти в окно. Но помни: ты не права,
папу ты огорчила. Ему так был необходим этот жук в коллекции.
Тогда я поняла, что папу упросили отдать мне жука гости. И если бы не
они... Еще я поняла, что на папу я не похожа.
Наверное, взрослые как-то фиксируют в голове: в восемь часов нужно
напомнить Коле или Маше, чтобы они почистили зубы, полдевятого — пора в школу,
в двадцать один тридцать — пора спать.
Это называется заботой, а по-моему, взрослым приятно над кем-нибудь —
над детьми удобнее всего — властвовать. Не скажет ведь мама директору школы, в
которой преподает ботанику: «У вас желтые зубы, неплохо бы их почистить. С
такими зубами улыбаться стыдно». Или бабушка — Нине Константиновне: «Ну и
неряха же ты, хоть бы причесалась».
Сколько раз у меня бывало: умоешься, садишься завтракать — бабушка: «А
мыться кто будет?»
Раньше я как-то не думая выполняла приказания. Или старалась не слышать
их.
Сегодня в трамвае папаша так задергал мальчика, что мне стало жаль не
только ребенка, но и себя. Мне хотелось с сегодняшнего вечера стать
самостоятельной, не привлекать к себе лишнего внимания. Я не хочу, чтобы меня
дергали, как собаку: ложись, вставай, ешь. А впрочем, смотря какую собаку.
Милочке, даже на зиму стриженной южно-русской овчарке тети Зиты, я часто
завидовала. Ею командовали намного меньше, чем мной.
— Кира, тебе пора спать, — сказала бабушка. — Ты слышишь?
— Да, ложусь, бабушка.
Мальчик в трамвае не выходил у меня из головы.
Плетусь раскладывать свой диван. Обычно соединяющие спинку с сиденьем
железяки заедают и приходится долго шевелить большую плоскость дивана, чтобы
железяки изволили сработать. Галя Рассказова, наверное, знает, как называются
эти железяки. Мне же они не подчиняются, как будто мстят за то, что я терпеть
не могу всякую технику, даже такую примитивную.
Но сегодня диван раскладывается в одно мгновение. Стелю постель, ложусь
и тут же понимаю, что покорность дивана обманчива. Он, оказывается,
просто-напросто сломался. Лежать можно только посередине, на стыке двух
плоскостей, а если сдвинуться чуть вправо или чуть влево, то этот агрегат
превращается как бы в двухскатную крутую крышу. Сказать или не сказать бабушке,
что диван сломался? В конце концов, у любого человека может сломаться диван,
разбиться чашка... А еще точнее: человек может сломать диван, разбить чашку.
Может сломать, если может чинить, может разбить, если может купить. Какая-то
чушь! Какая разница? Разбиться? Разбить? Наверное, если бы я была взрослым,
зарабатывающим деньги человеком, я бы сейчас сказала: «Ну и дела! Эта техника
или механика, как там правильно называется, никуда не годится. Не умеют делать
добротно. Придется вызвать мастера». А впрочем, если бы я была взрослой, я бы
не стала раскладывать этот проклятый диван. Я как-то поспорила с бабушкой:
«Зачем раскладывать диван? Мне хватает на нем места и так!» — «Положено, —
ответила бабушка, — так удобней спать, а главное — люди не должны жить в
праздности, нужно все время что-то делать. Ты от лени не хочешь раскладывать
диван». — «Нет, — отвечала я, — мне удобней, когда есть спинка, я иногда ночью
боюсь темноты, иногда мне кажется, что ко мне тянется чья-то рука, длинная,
холодная, тогда я спиной прижимаюсь к спинке дивана, затыкаю щель между спиной
и лежанкой, закрываюсь с головой и мне не так страшно». Папа сказал: «А ты
знаешь, мама, Кира права: когда мы, то есть человечество, были животными...
спина, как известно, самое беззащитное у живых существ место...» — «Ерунда,
сказала мама, — я так устаю, что сплю и с открытой, и с закрытой спиной, на
мягком и на жестком...»
И вот теперь я лежала как бы на ребре двухскатной крыши и боялась пошевелиться.
Но почему я так боюсь? Меня ведь никогда не били и даже если ругали, то без
крика. Всего один раз в жизни мама на меня замахнулась. К нам тогда пришел
Сережа, а я как раз несла из кухни тарелку с борщом и у меня при виде Сережи
дрогнула рука. Борщ, естественно, расплескался.
«Кира, вытри пол!» — крикнула мама.
Я взяла тряпку и стала вытирать пол. Но не руками, как меня учили, а
ногой. Не могла же я ползать с тряпкой на полу, когда на меня смотрит Сережа.
«Нет, нет, руками, как положено», — приказала мама.
Мало того: она стала пригибать меня за шею к полу. Я вывернулась и
посмотрела на маму. Боюсь, что я очень плохо на нее посмотрела. У меня свело
скулы так, что даже зубы заныли. И вот тогда мама на меня замахнулась. Правда,
потом она мне сказала, явно желая помириться и даже как бы попросить прощения:
«Ты с такой ненавистью на меня посмотрела, а я на тебя не замахивалась — я
просто от тебя рукой закрылась».
Получается, что на меня и не замахивались ни разу в жизни. Так почему же
я боюсь? Мама меня за разбитые и поломанные вещи даже не ругает. Говорит:
«Жаль». Но в этом «жаль» не звучит особого сожаления. А вот бабушка вещи
жалеет, даже такие дряхлые, которые днем при соседях на помойку выкинуть
неловко, разве только ночью. Кресла с ободранными плетеными спинками, кожаный
диванчик, истертый до белизны. На них любил сидеть бабушкин папа. Мой диван
бабушка, кстати, терпеть не может. Мама его тоже не любит, но купила. Потому,
наверное, она его купила, чтобы проявить самостоятельность и что-то там такое в
очередной раз доказать бабушке.
В дверь позвонили. По тому, как радостно мама вскочила от своих
чертежей, а бабушка проворчала: «Не дадут ребенку поспать. Твоя Афродита или
Изабелла, то есть Изольда. Мне кажется, Милочке зимой было бы теплее в своей
шерсти», я поняла, что пришла тетя Зита. Она пришла не одна, а со своей собакой
Милочкой. Милочка — умная и очень приветливая собака. На длинных ушах
светло-серая шерсть, а остальное все сострижено. Тетя Зита вяжет себе разные
кофты, береты, шарфы, а для Милочки на зиму шьет попонки из старых суконных
тряпок. Но тетя Зита подобрала Милочку больную, истощенную и долго лечила,
вызывая врачей на дом. Может быть, она так закаляет ее. Я не знаю.
Милочка подошла ко мне поздороваться, я чуть подвинулась, и мой диван-крыша
зловеще заскрипел. Милочка сочувственно поглядела на меня.
«Милочка, — мысленно сказала я, — можно, я скажу, что это ты сломала
диван? Ну можно, Милочка?»
Она посмотрела на меня без всякого упрека и согласно вздохнула, но
именно поэтому я решила от ее жертвы отказаться.
Тетя Зита очень ревнует Милочку к другим людям, она никак не хочет
понять, что собаке иногда хочется пообщаться со мной. Ведь это не измена,
верно? Но собак, как и детей, не спрашивают об их чувствах.
Тетя Зита позвала Милочку, и та неохотно побрела к ней.
— Кира больна? — тихо спросила тетя Зита.
— Нет. Ей пора спать. Одиннадцатый час. Ты поздно пришла сегодня, —
ответила мама.
— Сейчас полдевятого, — сказала тетя Зита.
— Завтра первое апреля. Я часы перевела, чтобы не забыть, — сказала
бабушка.
— Ия тоже, — сказала мама.
— Как-то вы синхронно перевели вперед, а нужно назад, — сказала тетя
Зита.
— Кира, у тебя есть минут сорок, ты можешь встать, — разрешила бабушка.
— Спасибо, не надо, пейте чай, смотрите телевизор, а я ладно...
Я вдруг почувствовала, что устала от этих «ложись», «вставай», захотела
спать, и как-то спокойно сказала:
— У меня тут диван сломался.
Но на мои слова не обратили внимания.
Я проснулась от жалобного лая собаки. Милочка лежала на полу возле моего
дивана, и дергала лапами во сне, будто бежала, и то радостно, то тоскливо
взлаивала. Ей что-то снилось.
— Тс-с! Потом. Она сейчас заснет, — прошептала мама, вглядываясь мне в
лицо.
Мама и тетя Зита сидели за столом у окна. Тетя Зита вязала. Наверное,
новую кофту из Милочкиной шерсти. А мама водила пальцем по кактусу, будто
гладила его.
«Терпеть не может кактусы, зачем гладит?» — подумала я.
— Ну вот, клеенка выгорела, — прошептала мама, выпрямляя лампу-«подхалимку»,
— свекровь ворчать будет.
— Пора, пора, мой друг, лететь, — прошептала как стихом тетя Зита.
— Тетя Зита, что вы вяжете? Кофту? — спросила я.
— Берет, детка. Спи! Мосты развели, и мы с Миледи задержались.
От своего настоящего имени Милочка вскочила, ошалело моргая оглядела нас
сонными глазами и, покрутившись на одном месте, опять легла. Спать расхотелось,
но, чтобы не мешать подружкам, я перевернулась на другой бок, честно стараясь
их не слушать.
— Знаешь, Томка, как там здорово, — зашептала тетя Зита. — Ты на Кавказе
была?
— Нигде я не была. Ты же знаешь. На даче и в Выборг ездила. В Луге еще
была и то девчонкой с хором.
«Вот это да!» — удивилась я, даже не подозревая, что мама умеет петь.
— На Кавказе мне очень нравится, только я быстро начинаю скучать по
нашей Карелии, — опять зашептала тетя Зита. — А там как-то все вместе
соединено: вроде и Кавказ, и Карелия.
«Хоть бы не шептались, а просто говорили тихо. Так невольно прислушиваешься»,
— злилась я, пытаясь заснуть.
— Ну что ты меня будто уговариваешь? Я неделю уже на работу не хожу.
Правда, делаю вид, чтоб свекровь раньше времени не расстраивать, что на службу
иду, а сама — в кино. Столько картин пересмотрела, аж винегрет из них в голове.
«Ай да мама! Я тоже, если школу прогуливаю, в кино хожу».
— ...Представляешь, Зита, на мое место на следующий же день преподавателя
взяли. Мне кажется, я там нужнее буду... Ценить, что ли, больше станут... Ну,
это я уже глупости говорю.
— Ты прости, но мне было важно знать, как планировать свой отпуск.
— Так и планируй. В преподавателях там нуждаются, письмо, что хочу у них
работать, я послала, вот ответа жду. Со дня на день будет.
— Том, ты такая нерешительная...
— Хватит! Пожалуйста! — попросила мама.
Тетя Зита хорошо знала, что моя мама больше всего на свете боялась
подвести кого-нибудь.
— Не подведу, — сказала мама. — Свекровь только стыдно как-то оставить.
Будет сидеть тут одна с пауками.
«Меня мама, значит, берет», — сообразила я.
— Главное, Кире на Алтае будет хорошо, — сказала тетя Зита. — Климат...
Она такая слабенькая у тебя. И Николаю должно понравиться. Он ведь горы любит,
тайгу...
Вот это да... Мне стало жарко. Я знала уже давно, что мама хотела
уехать, но думала, это так, разговоры. Она у меня действительно нерешительная.
— Тебя выгнали с работы? — спросила я.
Подружки притихли. Милочка зевнула, села и стала чесать лапой живот,
стукая пяткой об пол.
— Ты подслушивала? — с неприязнью в голосе спросила мама.
— Если бы подслушивала, то промолчала бы, — заступилась тетя Зита. — А
чего скрывать, раз решено?
Их решение ошеломило меня. Сразу навалилось и расставание с бабушкой и
со школой, и Сережа вчера чуть не утонул в моей лодке...
— Мы навсегда? — спросила я хрипло, как тогда, с Сережей по телефону.
Мама подошла и поцеловала меня. Она меня не целовала давно-давно. Но я
помню тот последний раз, хотя была тогда маленькой.
— Спи, — сказала мама, — и я тебя очень, очень прошу: не говори пока
ничего бабушке.
— Скоро мосты сведут, проводи нас, — попросила маму тетя Зита. — Сейчас
хорошо на Неве.
«И тетя Зита с нами едет... На Алтае, наверное, много лошадей...» Я
пыталась заснуть, но все думалось, думалось. «Тетя Зита будет с нами недолго, а
потом мы останемся одни с мамой. И кругом незнакомые люди... Хорошо, хоть тетя
Зита сначала будет с нами. Бабушка ее не любит...» Я вспомнила давно забытое,
стыдное. Мама взяла у тети Зиты деньги в долг и не отдала в срок. У мамы была
шуба, неказистая, но теплая, единственная вещь на зиму. Тетя Зита пришла, когда
все сроки отдачи долга прошли, и сказала: «Знаешь, а я нашла покупателя на твою
шубу». Мама засуетилась, покраснела и, соглашаясь, часто-часто закивала
головой. Видимо, тетя Зита пожалела маму, или у нее поправились дела. Шуба
осталась висеть в шкафу. Я никогда не хочу быть богатой, а если почему-нибудь
придется, я буду тратить деньги, чтобы не быть жадной. Наверное, у тети Зиты
так получилось случайно, просто не подумала, ляпнула, а потом стало стыдно и
она передумала тогда с шубой. Все-таки она о маме заботится и обо мне говорит,
что на Алтае для меня здоровый климат, хотя я не помню, когда я болела.
«Сказать завтра Сереже, что я уезжаю?» И я стала загадывать: «Если диван, когда
я повернусь, скрипнет в ногах, — скажу, если у головы — нет». От резкого
телефонного звонка я даже не заметила, где он скрипнул.
Бабушка подошла к телефону раньше меня.
— Коля, сынок, это ты! Да, да, слышно хорошо, будто ты рядом, в соседней
комнате. Вот как? Приятно слышать. Микроскоп? Знаешь, удовлетворись пока
старым. У меня такое чувство, что Тамаре нужны деньги. Нет, не на одежду. Я бы
на твоем месте отправила ее куда-нибудь отдохнуть. Она очень устала, да и Кирочка
тоже. Кирочка так похожа на тебя, она черпает силы только в природе. Кормлю, не
беспокойся. Ловим мух. Ты слышишь? Дача — это не природа, а так, жалкая копия.
Ну, нет! Вот и хорошо. Береги себя, сынок. Если с тобой что случится, нам всем
будет очень плохо...
Бабушка бросила трубку и тихо заплакала.
«Как же я уеду от бабушки? Почему меня не две? Одну бы я оставила с
бабушкой, а другую отправила с мамой».
В день отъезда утром пришел Сережа, чтобы проводить нас. Я ожидала, что
он станет, как обычно, со снисходительностью человека, уставшего объяснять
прописные истины, просвещать меня об Алтайском крае. Но он только сказал:
— В Горно-Алтайске — я читал — интересный краеведческий музей. И в
Сростках вы будете? — спросил он у мамы.
— Наверное, — неуверенно ответила мама.
— А там что?
— Дом-музей Шукшина.
Говорить было не о чем. Мне все еще не верилось, что мы уезжаем
насовсем. Казалось, что мы, как обычно, едем на дачу.
Мама ковыряла вилкой в тарелке, неприятно скрежетала по дну. Обычно
сдержанная, спокойная за столом бабушка подкладывала нам несовместимые между
собой продукты: макароны с мясом поливала сметаной, а сверху селедку в
горчичном соусе. Я засмеялась. А Сережа фыркал. Он, наверное, сдерживался,
чтобы не смеяться, и поэтому фыркал. Как взглянет на селедку с мясом, так и
фыркнет, очень громко.
Бабушка стала говорить маме, как нужно обращаться со мной и чтобы не
забыли теплые вещи. Мы с Сережей отошли к окну. Я из ковшика наливала в горсть
воды и поливала кактусы, чтобы понемногу выходило. Они не любят много воды.
Потом брызнула водой на Сережу, и он потряс головой, как собака, стряхивая
брызги. При этом его толстые губы тоже как-то смешно пошлепались друг о друга.
Получилось совсем как у собаки.
— Кира, ты правда хотела меня утопить?
— Я не разворачивала лодку и не знала, что швы стерлись.
Я держала мокрую руку над банкой с каракуртом. Редкие капли попадали на
марлю и падали на дно банки. Черный с красными пятнами паучок медленно вышел
из-под листа и направился к капле.
— Надо же, и они пьют, — грустно сказал Сережа.
От волос Сережи пахло табаком.
— Ты куришь?
— Нет, дома все курят. У нас даже от кошки, смешно сказать, табаком
пахнет.
Напившись, паучок уже не тяжело, а шустренько убежал под лист.
— Пора, — сказала бабушка. — Присядем. Кира, Сережа, садитесь. Если что
понадобится, Тамара, напишите.
А я опять забыла, что уезжаем, почему-то перед глазами стоял припавший к
капле паучок. И опять мне показалось, что мы сейчас все вместе — и Сережа, и
бабушка — едем на дачу. Наверное, поэтому, прощаясь с бабушкой, я улыбнулась,
неловко ткнулась носом в ее мягкую щеку и сказала:
— Ну, пока, счастливо оставаться.
Сережа взял рюкзак потяжелее, сетку, а я свой рюкзак. На лестнице я
оглянулась. Бабушка гладила маму по плечу, но смотрела на меня. Я помахала ей
рукой и сказала Сереже:
— Знаешь, мне кажется, ты едешь вместе с нами.
— Мне тоже кажется. Не верится, что ты — и уезжаешь навсегда. Иногда
надоедает даже: идешь ли куда — тебя встретишь, в классе — ты сидишь. Куда бы
ни пошел, почти всегда тебя встречаю.
Мне стало обидно, но Сережа сказал еще:
— А я уже привык тебя видеть. Если не встречу, как-то странно
становится. А теперь тебя не будет...
Мы стояли во дворе, ожидая маму. Двор уже нагрелся солнцем, но мне
казалось, что тепло идет от нашего дома, от Сережи и даже от воробьев на
асфальте. Вот сейчас скажу маме, что никуда не уеду. Не уеду, и все.
Вышла мама с канистрой в руках.
— Схожу за вещами, — сказал Сережа. — Там еще много?
— Нет, здесь все.
Сережа плюнул себе под ноги, положил возле меня рюкзак и сказал:
— А я-то, идиот, как ребенок поверил. «Уезжаем! Навсегда!» Уж врала бы
хоть складно. Люди в недельный поход больше с собой берут. Постой. Вынесу тебе
лодку. Поплаваешь по Катуни, по Бии или по Оби. Хоть слышала про такие?
И Сережа побежал в свой подъезд.
— Он надолго? — спросила мама. На ее напудренных щеках остались дорожки
от слез.
— Совсем, живот у него заболел. Вытри пудру. Будто мелом намазалась.
— Жаль, я с ним не простилась. — И мама опять всхлипнула.
— Вы позднее не могли приехать? — спросила на вокзале нас с мамой,
краснея от возмущения или от жары, тетя Зита.
Вязаный берет плохо держался на ее голове.
— Опомнись, — грустно сказала мама, — полтора часа до отхода поезда. Мы
лучше бы побыли с Кирой лишний час дома.
— А вещи? — возмутилась тетя Зита.
— Вот, — сказала мама, положив сетку на асфальт, — здесь продукты на
дорогу, а в рюкзаках у нас с Кирой вещи. И вот твоя канистра...
Эх, лучше бы мама не говорила про рюкзаки!
— А мои вещи? — растерянно спросила тетя Зита. — Я больна, понимаешь,
больна. Да... с вами в тайгу не пойдешь. Значит, вы меня и в тайге бросите...
Я ничего не понимала, мама, глупенько улыбаясь, смотрела то на тетю
Зиту, то на меня.
— Если бы я знала, что вы так поздно придете, я бы позвала своих друзей,
они бы... — сказала тетя Зита, но тут же смягчилась: — Ну ладно, на первый раз
простительно, сразу видно, что вы не походные люди. Так! Мы с мамой идем за
вещами — моими конечно, они в камере хранения, — а ты со своими стань там,
возле Милочки. Вон она. Нет-нет, вон.
Я взглянула на коротко привязанную к столбу Милочку.
— Пойдем, — сказала тетя Зита.
— Я помогу Кире перенести вещи к собаке.
— Ну нет. Хватит! Время, время! Кира не маленькая. Кого ты из нее
растишь?
И тетя Зита, рванув за руку маму, потащила ее за собой.
Я поволокла мамин рюкзак по асфальту, но ко мне подошел дежурный, совсем
молодой дяденька. Он взял рюкзак и канистру.
— Керосин? Бензин? — спросил он, поболтав канистру.
— Другая жидкость, — сказала я.
Дежурный понюхал горлышко канистры.
— Однако не многовато ли для тебя?
— Это для маминой подруги.
— О! Запасливая женщина... Далеко едете?
— В Барнаул.
— Значит, через Москву.
Мы поставили вещи возле храпевшей Милочки. Я отвязала поводок, и собака
рухнула.
— Суровая у тебя хозяйка. Чуть не задавила! Зачем же так коротко
привязывать? — спросил дежурный. — Ты, девочка, загороди ее вещами, скоро поезд
подойдет. Чтоб она не укусила кого. Нужно намордник....
— Она не умеет кусаться.
Дежурный переставил вещи, загораживая Милочку.
— Вещей-то у вас кот наплакал — совсем ничего... В поход по Алтаю
решили?
— Насовсем.
— А вот врать не стоит.
Дежурный посмотрел на меня, на вещи и, ничего больше не сказав, пошел к
зданию вокзала.
Странные люди. Что же мы, должны с собой тащить шкафы, буфеты, кровати,
раз едем насовсем? Мы взяли с собой необходимые вещи и всё.
По платформе мимо нас с Милочкой бежали с тележками носильщики.
— Поберегись! Поберегись!
Я прижалась к столбу, а Милочка жалась ко мне, часто поглядывая на сетку
с продуктами. Подошел поезд, из него повалил народ. Нашу сетку зацепили углом
чемодана и потащили по асфальту. Милочка взвыла и рванулась за сеткой. Ременный
поводок лопнул.
Я не знала, что делать: караулить рюкзак или бежать за собакой? И где
мне ее искать?
Совсем недалеко от меня кто-то просил:
— Уберите собаку! Чья собака? Да возьмите же ее.
Я опять поволокла рюкзак по асфальту туда, где кричали.
Люди проходили не останавливаясь.
Стоял только старичок и то ли тянул чемодан к себе, то ли закрывался им
от собаки.
Сначала я подумала, что Милочка отнимает у него чемодан, потом увидела,
что она тянет к себе нашу сетку, зацепившуюся за угол чемодана. Я не знала, как
отцепить сетку от чемодана, когда их тянут в разные стороны.
— Возьмите собаку! — просил старичок.
— Не кусается! Вы не бойтесь, — сказала я, взяв Милочку за ошейник. Она скосила
на меня глаз, узнала и так рванула сетку к себе, что ручка у чемодана
оборвалась и старичок его не удержал.
Милочка сразу стала отжевывать зацепившуюся часть сетки от чемодана. А
старичок, испуганно глядя на Милочку, сказал:
— Придвинь ко мне чемодан, девочка.
Чемодан оказался тяжелый, и я проволокла его по асфальту к старичку.
— Как же я без ручки потащу теперь? Вот беда-то. Я думал, покусает.
Зверюга такая. До смерти напугать может.
— Она очень добрая!
Милочка из дыры в сетке ела полукопченую колбасу.
— Нельзя, Миледи! — крикнула я грозно, но не совсем уверенно, потому что
после «нельзя» Милочка посмотрела на меня сердито. «Не может же она меня
укусить?» — подумала я и, все-таки боясь, протянула руку к сетке. Собака
сморщила нос и заворчала.
Старичок цепко схватил меня за курточку и оттянул подальше от сетки.
— Леший с ней! — сердито сказал он. — С колбасой с этой. Собака теперь
сетку-то своей считает. Ни за что не отдаст.
Старичок меня все держал за куртку.
Тут я увидела маму. Она шла на полусогнутых ногах, неся огромный мешок.
Мама сбросила груз возле меня и крикнула:
— Пустите ребенка!
Кулаки ее сжались, а локти разошлись от боков в стороны.
Подошел дежурный, поглядел на меня и усмехнулся.
— Что у вас? — спросил он у старичка.
— Да вот, гражданочка драться лезет, а мне не уйти: ручка оборвалась на
чемодане.
— У меня от мешка спину свело и руки сами поднимались, — жалобно
оправдывалась мама.
— Возьмите собаку на поводок, — сказал дежурный маме. — То привязали ее,
что вздохнуть нельзя, теперь вообще отпустили...
Теперь старичок вцепился в мамину куртку:
— Не трогай! Укусит! Пусть доест! Всех перекусает. Я знаю...
А я подтвердила:
— Уже говорила ей: «Нельзя», так зарычала.
— Да пустите вы меня, — вырывалась мама. — Брось! Милочка! Что сказано,
брось!
Милочка сразу оставила недоеденный кусок колбасы, смущенно опустила
голову и стала прежней — ласковой и кроткой.
— Не любит она слово «нельзя», — объяснила мама. — Наверное, прежние
хозяева ее после этого слова били.
Дежурный достал из кармана пиджака проволоку и занялся ручкой чемодана.
— Запасливый. Может, и замок починишь? — спросил старичок.
— Нет, замок в мастерской через дорогу чинят. Это я так, чтоб не
потерялся чемодан.
Мама подняла мешок и пыталась завести его за плечо.
— Погоди, сердешная, помогу. — Старичок даже покраснел от натуги.
Я взяла сетку, ухватила за лямку рюкзак и опять поволокла его по
асфальту к столбу следом за мамой и Милочкой, слыша, как старичок размышляет
вслух:
— Целый мешок сахару везет куда-то. А зачем? Сахар вроде не дефицит...
Когда мама бросила мешок с плеча, я спросила со злостью:
— Что в мешке?
— Не знаю. — Мама опять глупенько улыбнулась. — Там еще много вещей у
Зиты, а я идти не могу, ноги дрожат.
Мне стало жаль маму.
— Не смей больше носить! Люди на тележках специально возят, а ты...
— Свободных носильщиков не было, а там еще мешок, три рюкзака и
чемоданы. Зита опоздать боится на поезд. Нервничает. У нее сердце больное, ей
нельзя носить тяжести.
— А зачем столько вещей набрала?
— Значит, нужно. Я, правда, боюсь, что в вагон нас не пустят.
Тут скороходовской походкой мимо нас промелькнул носильщик с тележкой.
Было непонятно, кто кого тащит: тележка носильщика или он тележку. Пока я
думала, носильщик убежал.
— Ну чего ты? — напала я на маму.
Следующему носильщику мы закричали вдвоем с мамой:
— Сюда! Сюда!
Носильщик взял рюкзак, но мама сказала:
— Нет, нет, вещи не трогайте. Вы меня просто отвезите в камеру хранения.
— Мы людей не возим.
— Там подруга с вещами у камеры хранения...
Но я перебила маму:
— Она мешок несла, а теперь устала. Отвезите, пожалуйста.
— До конца платформы довезу, пока народу нет, а то смеяться будут, —
недовольно согласился носильщик. И мама села на тележку.
Мы подъезжали к Москве. До Барнаульского поезда оставалось много
времени. По жестким подсчетам тети Зиты, «чистых» шесть часов было в нашем
распоряжении. Само собой, мы хотели посмотреть Кремль. Сходить в Мавзолей
Ленина.
— Кирина мечта — посмотреть здание Баженова, хотя бы одно.
«Как же я забыла? — благодарно взглянув на маму, подумала я. — Ну и молодец
же она».
— Обязательно, — согласилась тетя Зита. — Только Миледи отвезем, как
договорились, моим знакомым.
От своего настоящего имени Милочка сжалась и опустила голову. Не думаю,
чтобы она понимала значение слова «миледи». Просто люди, услышав, что неровно
стриженную лесенкой с плешинами собаку кличут Миледи, невольно смеялись.
Похоже, и собакам не нравится, если над ними смеются. А вот мордочка у нее была
действительно милая, с открытым застенчивым взглядом. Несмотря на большие
размеры, Милочки никто не боялся.
Проводница, заглянув к нам, сказала:
— Вы последние выходи́те, не
из-за собаки... а столько вещей тащить... с целого вагона столько не набрать.
Девочку жалко, а то сдала бы вас, мешочников!
К знакомой тети Зиты мы ехали долго-долго на такси. Мы с мамой сидели
позади. Милочка лежала у нас на коленях.
— Это вроде театр... М-м. Забыла, — вспоминала на переднем сиденье тетя
Зита.
— Это баня, гражданочка, — поправил шофер, — театр справа подальше
будет.
— Ты думаешь, Изольда, мы успеем что-нибудь посмотреть?
— Тетя Зита, а Моховая улица далеко?
— Давно проехали, — ответил шофер.
О доме Пашкова на Моховой улице мне рассказывал мамин брат дядя Женя.
Мне кажется, дядя Женя может свободно проводить экскурсии по городу. Я как-то
спросила у него: почему он не водит экскурсии? Он ответил, что это ему быстро
бы надоело. Но лучше всего дядя Женя рассказывает про архитектора Василия
Ивановича Баженова. Большинство строений Баженова находятся в Москве, у нас в
Ленинграде только Инженерный замок, и дядя Женя сказал, что это далеко не самое
лучшее его творение. «Вот будешь в Москве — обязательно посмотри дом Пашкова,
это что-то сказочное».
Обложенные вещами, придавленные к сиденью собакой, мы с мамой не могли
шевельнуться. Я завидовала тете Зите и наконец не утерпела:
— Тетя Зита, можно, я впереди посижу?
— Кира! — одернула меня мама.
— Уже скоро. Надо было девочку раньше вперед посадить, — заступился за
меня шофер. — Если вы не долго, я подожду. Город покажу.
— Пожалуйста, — согласилась мама, — мы и выходить не будем с Кирой. Ты,
Зита, собаку отведи и возвращайся.
У тети Зиты от обиды аж голос изменился:
— Как же так, Тамара? Я так много тебе рассказывала. Такие люди
оригинальные. Хоть из простой любознательности познакомьтесь.
— Минут десять подожду, не больше, — сказал шофер.
Когда мою маму начинали упрекать или убедительно просить, она сразу
уступала.
— Ну, если на полчасика, не больше, — уступила мама.
— Нет, столько ждать я не могу, — сказал шофер.
На дверях тети Зитиной знакомой висела подкова концами вверх. Милочка
так рвалась к этой двери, словно была здесь не впервые.
— Вы только подумайте, как грамотно висит подкова! — И тетя Зита ткнула
в подкову пальцем. — Эх вы! Незнающие вешают подковы концами вниз, и у них
утекает счастье. Звони, — приказала мне тетя Зита.
Вместо обычного звонка-кнопки была подвешена ручка, как в туалете, на
цепочке.
— Тут такие оригинальные люди живут — ахнете.
И тетя Зита радостно помотала головой. Милочка шумно дышала, поджав
хвост, вздрагивала.
— Да не томи ты собаку, звони.
— Звоните сами, у мамы руки заняты, у меня тоже.
В такой звонок мне совершенно не хотелось звонить. «Глупо, конечно, мало
ли, что другим нравится», — подумала я. А тетя Зита, угадав мои мысли,
поставила диагноз: возрастной комплекс.
— Обычным звонком легче пользоваться, — заступилась мама, — нажал кнопку
и все.
— Как вы все привыкли к стандарту, — грустно сказала тетя Зита и
потянула ручку вниз.
Дверь открыла тетенька со стоящими вверх пушистыми от завивки волосами.
Под безбровым лбом сияли глазки радостно и приветливо. Тетенька, стоя на одном
месте, изгибалась худым телом и подпрыгивала. Меня так удивила ее прическа, что
я не догадалась посмотреть ей под ноги.
— Алисочка, родная!
Тетя Зита бросилась обнимать ее, расставив руки, но не обняла, а только
подставила свою щеку для поцелуя. Из квартиры нехорошо пахло. «А еще срамной
звонок навесила», — подумала я, крепко сдерживая рвущуюся в дверь дрожавшую
собаку. Тетя Зита, всхлипнув, вскричала:
— Да отдай ты Кире сетки! Познакомься наконец! Я так мечтала об этой
встрече! Я такой, именно такой, как вижу, представляла тебя.
Тетенька Алиса, все так же изгибаясь и сияя глазками, не сходя с места,
протянула маме для пожатия руку.
«Да что она к полу приклеилась? Или ее за ноги держат?» — подумала я, но
посмотреть мне не удалось.
Я двумя руками вцепилась в ошейник собаки. Обычно послушная, деликатная
Милочка, задыхаясь, тянула к ногам прыгавшей тетеньки Алисы. На сгибе моего
локтя висела авоська, переданная мне тетей Зитой при выходе из такси.
«Осторожно, диетические яйца! — шепнула мне тогда тетя Зита. — Подарок
Алисочке».
Вдруг Милочка рванулась, припав на передние лапы, и я, не выпуская ее,
упала.
По Милочкиному большому уху растекался лучиком желток. Яичная скорлупа
колола мне шею и переносицу. Я закрыла глаза и заплакала.
— Ну вот! — вскричала тетенька Алиса. — Изольда, зачем вы яйца везли? В
Москве их полно.
— Ты ведь просила в письме...
— Не может быть!
— Зита, возьми у меня сетки или помоги Кире подняться. Кира, что с
тобой?
В голосе мамы было такое беспокойство, что мне стало приятно. Я,
конечно, могла встать, но раньше со мной при маме ничего не случалось и она до
обидного не беспокоилась обо мне. Сочные поцелуи стали быстро и нежно покрывать
мое лицо. В ужасе ожидая почему-то увидеть распростертую на полу тетеньку
Алису, я открыла глаза. Помаргивая прямыми светлыми ресничками, на меня смотрел
поросенок. Два раза хрюкнув, снова начал меня целовать. Я стала колотить и по
поросенку, и по чьим-то ногам, и по собаке. Вокруг рычало, кричало, визжало, и
я как-то по-собачьи пронеслась по небольшому коридору в приоткрытую дверь
комнаты. Не вставая на ноги, круто развернулась и навалилась на дверь всем
телом, захлопнула ее. Веки, кожа на лице и шее у меня быстро стягивались, и
казалось, что лицо сильно уменьшилось в размерах. Я прикрыла его руками и
заорала так, что шума за дверью не стало слышно.
— Ты кто? — спросила у меня, судя по голосу, маленькая девочка.
— С-сума-сшедшая, а я думал — врач, — раздался голос мальчика.
Я попыталась, несильно напрягая веки, взглянуть. Но они не разлипались.
— У меня поросенок кожу съел на лице? — прошептала я.
— Нет, — ответил мальчик, — блестит только. Я думал, врач пришел. Папа
вышел доктора встретить.
Врачам я никогда не радовалась, а тут сразу поняла всю важность и
необходимость медицины. Я с трудом прошептала сквозь стянутый рот:
— Скоро?
— Наверное. К животным «скорые» тоже быстро приходят, — сказал мальчик.
— Мы часто вызываем, — перебила девочка. — Принц краску выпил. Много. А
раньше у нас свинка умерла.
Дверь пытался кто-то открыть. Я не пускала и даже зарычала от
напряжения.
— Да чего ты, пусти, — уговаривал меня мальчик, — это мама, наверное.
Как я ни упиралась, меня сдвинули дверью.
— Что с тобой, Кира? Открой глаза!
Мамины пальцы ощупывали, гладили веки. Мама всхлипывала:
— Это от свиньи, не зря их в дом не пускают. Началось или рожистое
воспаление, или свинка.
— Тамара, стыдись! Ты человек с высшим образованием, а несешь... Тоже
мне биолог... «Свинка».
— Ох, Зита, если бы с твоим ребенком... ты бы тоже все перепутала.
Прости! Зита, прости.
У тети Зиты детей не было. Я никогда не думала, что мама меня так любит.
Просто никогда, никогда она так за меня не переживала.
— Ах, это такой пустяк! — радостно воскликнула тетя Алиса. — Я
догадалась, в чем дело. Олежек, намочи полотенце. Девочку уложим на его диван.
Леночка, убери за Принцем — он напачкал.
Во время распоряжений тети Алисы меня, поддерживая, отвели и помогли
лечь на что-то такое неровное и жесткое, словно из булыжников, что я и про лицо
забыла. Очень хотелось очутиться сейчас дома, на моем мягком диване, и чтобы не
только мама, но и бабушка сидела рядом и держала меня за руку.
— Это от свиньи! — сжимая мне руку, горестно повторила мама.
— Так все хорошо было, я прямо... Милочка, не вой!
— Не винись, Изольда! Девочки! Милые! От Принца зараза? Он же с детьми
спит в одной комнате. А у девочки белок от яиц стянул кожу. Это полезно.
И тетя Алиса стала осторожно, но крепко вытирать меня.
— Я каждый день делаю белковые маски, это так омолаживает кожу лица.
Только зря ты, Изольда, яйца везла из Ленинграда.
— Ты же писала, Алисочка, сейчас вспомню... так... «Невозможно достать
кормовую свеклу в Москве, даже сахарной не купить. Про крапиву, лебеду и прочий
комбикорм и говорить не приходится...» А потом у тебя что-то про яйца сразу:
«маски из яиц». Я ведь не знала, что у тебя поросенок. Думала, из сахарной
свеклы будете сахар делать. Так туго с комбинированной едой, что даже про
крапиву и лебеду шутишь: мол, скоро есть придется.
С лицом у меня стало все в порядке, и я спросила:
— Как это — маски из яиц?
Тетя Алиса посмотрела в сторону двери, прислушиваясь.
— Врача долго нет. Принц краску выпил. Кажется, «белила» называется. Вы
не в курсе, это очень опасно? Вы, кажется, биолог?
— Животных не кормят краской, — ответила мама. — А вы его сами?.. Или на
бойню?
— Тамара, разве я Милочку смогу зарезать на колбасу? У Алисочки доброе
сердце.
— Ах, это наше несчастье. Третий год подряд берем свинок: Леди,
Каннибал, теперь Принц. Врачи с ног сбились, без конца вызываем. Говорят:
«Корма нужны специальные». А где их достать? И еще свиньи чувствительны к газу.
— Я думаю, все дело в этом. Наверное, нужно не включать газ.
Тетя Зита говорила очень серьезно, хотела еще что-то сказать, но я ее перебила:
— Мальчик!
— Олег его звать, — недовольно напомнила тетя Зита. — Алисочка, в сетках
мясные продукты для Милочки, а на вокзале в камере хранения мешок сахара, два
мешка картошки...
За дверью повизгивал поросенок, взлаивала визгливо Милочка. Я слушала
про мешок пшена, вспомнила присевшую от тяжести поклажи маму на вокзале, поглаживала
каменистую поверхность дивана и подумала: «Узнать бы про диван и уйти отсюда».
— Олег, у тебя под ковром булыжники спрятаны?
Олег вскочил со стула и встал «смирно».
— Скажете тоже. — Он застенчиво улыбнулся. — Это папа нам с Леной
лежанки горбылями накрыл.
Одет Олег был необычно, как в фильмах про старое время. На нем была
серая рубашка до колен, на талии стянутая простой веревкой. Стриженная наголо
голова тоже казалась серой из-за отросших немного волос. Ответив, Олег опять
сел.
Я отогнула коврик на тахте, посмотрела на полено с зеленовато-серой
корой. Тетя Алиса откинула коврик с тахты наполовину.
— Я настояла на осине. Муж хотел делать «спартанскую спальню» из сосны,
но я считаю, что претенциозный запах, как резкие духи, не годится для детской
спальни. Вы чувствуете этот горьковато-терпкий аромат свежести?
Если бы тетя Зита не посмотрела на меня строго, я бы рассмеялась.
— Олег, покажи Леночкину тахту — она из березы.
Мама стала усиленно принюхиваться.
— Не надо, — попросила я ее шепотом. — Вспомни тюльпаны.
Моя мама с самого рождения не чувствует запахов.
Мы пришли к Нине Константиновне в день рождения. Папа преподнес ей
большой букет тюльпанов от нас всех. И тут мама сказала: «Придется вам на ночь
вынести их в коридор, может, от их запаха голова разболится». — «Томочка,
тюльпаны не пахнут, — удивилась Нина Константиновна. — А, поняла, ты шутишь!» А
мама потом допытывалась у папы, поняла или нет Нина Константиновна, что мама не
чует. «Да какая разница: чуешь, не чуешь? Притворяться хуже», — сердился папа.
А сейчас я просто завидовала маминому недугу. В комнате пахло не осиной
и не березой, а поросенком.
Тетя Алиса прикрывала «спартанские ложа».
— Мы с мужем разделили воспитание детей. Олег, взгляни на Принца. Я
прививаю им любовь к природе, к сельскому хозяйству, а муж...
Не успел Олег выйти, как в дверь заглянула тоже стриженная наголо
Леночка.
Не хотела бы я иметь папочку, который стриг бы меня наголо и заставлял
при разговоре со старшими вскакивать, словно на физкультуре по команде
«смирно».
— Принц икает! — сказала Леночка.
— А Милочка? — спросила тетя Зита.
— Она не икает.
— У свинок такое хрупкое здоровье, — всхлипнув, сказала тетя Алиса.
— Может быть, им нельзя жить в городе? — мягко спросила мама.
— Только ради детей, только из-за них я жертвую здоровьем Принца. Раньше
у нас была кошка... Прости, Изольдочка! Кошка Зита и спаниель Бой. Что же
получалось? Прихожу с работы, спрашиваю Олега: «Кормил?» Леночка еще не
родилась тогда. Отвечает: «Да, мама, кормил». Кошка у ног моих на кухне трется,
а собачка с порога следит за мной голодными глазами. Вижу, обманывает меня сын.
«Почему за кошкой не убрал?» — спрашиваю. «Она только что. Не успел». А как-то
увидела, как он с Боем гуляет. Бою к кустику надо, а Олег волочит его на
поводке за собой, о собачке и не думает...
Тетя Алиса замолчала, прислушиваясь к двери, а мама с тетей Зитой
переглянулись. Мне кажется, они подумали о том же, что и я: Милочке здесь будет
плохо.
— Пора нам, — сказала мама, — хочется Москву поглядеть, хоть немного, до
поезда. Мы с Кирой впервые здесь. Даже на поезде дальнего следования впервые
ехали...
— У людей горе!
Тетя Зита подошла к подруге и обняла ее за плечи.
— Мне не до музеев. Рассказывай, Алисочка!
— Только не подумайте... Олежка обожает животных. Сам тогда и щенка, и
котенка принес. Умолял разрешить ему их держать, хотя мы с мужем не были
против. Леди появилась у нас случайно. Знаете, как носят с базара на юге кур,
поросят, индеек?
— Это ужасно, — содрогнулась тетя Зита, — за лапы головой вниз.
— Свинку Леди я привезла оттуда. Думала, поживет у нас немножко и отдам
в совхоз. Она-то и отучила Олега обманывать, она-то научила его, как нужно с
животными обращаться. Вовремя не накормил — такой визг поднимала, соседи в
двери стучали...
— А куда вы собаку дели и кошку? — не выдержав, перебила я.
— У мамы моей живут. Мама их любит.
— Не вовремя я вам Милочку привезла, — сказала тетя Зита.
— Ах, они так сдружатся! Изольда, они будут неразлучны, только бы Принц
поправился. Олег стал намного внимательнее ко всем животным.
В такси мы садились, как и раньше: тетя Зита впереди, мы с мамой сзади,
но уже без собаки и сеток. На осмотр Москвы времени не осталось. Шофер
высунулся в окошко и спросил, прислушиваясь:
— По телику «Веселых ребят» показывали? Хорошая картина.
— Это настоящий кричит, — сказала я шоферу, — его в ванной купали. Врачи
ему желудок чистили.
Шофер, обернувшись, подмигнул мне:
— В этой картине все настоящее. Заказывали вокзал?
— Хорошо бы сначала в столовую, — попросила мама, — прямо голова
кружится. Кира даже побледнела от голода.
Алисе не до еды было, раз поросенок заболел.
— Правда свинью в квартире держат? На моей работе чего только не
услышишь. До праздников далеко. К семейному юбилею разве готовятся, так в
магазине свинины полно, — допытывался шофер, выруливая во второй ряд, и мне
теперь из окна были видны только машины.
— Любят свиней люди и держат, — объяснила тетя Зита.
— Проще собаку завести.
— Я держу собаку, а моя соседка, встречаясь с ней в коридоре, каждый раз
брезгливо губы поджимает. А сама рояль держит и поет. Да как! У меня от ее
пения голова разламывается. У соседа внизу мотоцикл часами тарахтит и газует.
Вонь, гарь, треск. Это пожалуйста, мы привыкли, что так вроде и должно быть.
Говорите: «Собаку проще завести». Она только на газон встанет — сразу услышишь:
«Грязь! Пачкает!»
Мне очень понравилась речь тети Зиты, но шофер не хотел соглашаться:
— Мы же в городе живем, как же иначе?
— А так, с поросенком хоть гулять не надо, живет себе в комнате и все.
Мама тоже не согласилась:
— Конечно, своими увлечениями всем не угодишь, но свинью в комнате
держать просто не гигиенично.
Тетя Зита разозлилась:
— Держать пауков и скорпионов, как вы, конечно, лучше. Прости, Тома, я
просто от голода злая.
— Товарищ, подвезите нас к кафе, а потом на вокзал, — напомнила мама.
Но шофер сухо ответил:
— Времени мало. Мне еще людей возить надо.
Поесть нам так и не удалось. У тети Зиты вещей стало не намного меньше.
Московские носильщики, оказывается, сами стараются загрузить свои тележки. К
окошку камеры хранения то и дело подбегал очередной носильщик. Быстро
накладывал вещи пассажиров на тележку, так же быстро спрашивал, какой поезд, и
почти бежал с тележкой в нужном направлении.
— Барнаул, — сказала тетя Зита, и мы побежали за носильщиком из вокзала
на улицу и прибежали на другой вокзал.
Носильщик убегал, тетя Зита отставала, я схватилась за мамину руку, как
маленькая, боясь потеряться в массе спешащих людей.
Кто-то больно пнул меня в бок, но не только остановиться — даже
оглянуться не было возможности. Столько народу я никогда не видела.
— Беги за носильщиком! — крикнула мне мама.
«Тетя Зита нездорова», — вспомнила я, замедляя шаги. Одиночество среди
людей так напугало меня, что захотелось выпрыгнуть из этой толпы вверх,
повиснуть высоко в воздухе и закричать: «Мама, я здесь!» Но сзади напирали,
передние люди мешали погоне за носильщиком. Скоро стало непонятно, кто кого
толкает: сосед меня или я соседа, и страх потеряться куда-то исчез и даже стало
веселее.
Носильщик остановился, я возле него. Он стал озираться, потом сказал:
— Тьфу, отстали, — и влез на тележку.
— Барнаул! — гаркнул он, как «караул». — Женщина в собачьем берете!
Подойдите к вещам!
Тетя Зита и зимой и летом ходила в берете из Милочкиной шерсти.
Я не предвидела скандала, а только удивилась: как он догадался, из какой
шерсти берет?
— Чьи вещи? — опять заорал носильщик.
Я дернула его за форменную куртку.
— Мои! Мы вместе с беретом!
— Какой вагон? — заорал он. — Номер вагона!
— Не знаю.
Он стал сгружать вещи под ноги идущих людей. Я испугалась, что мелкие
тюки распинают по перрону, но сплошной поток ног стал послушно обходить их.
— Девочка, быстрее!
— Что быстрее? — спросила я, уже догадавшись, что нужно платить.
— Так бы и сказала, что нет денег!
Носильщик говорил, опять накладывая вещи в тележку:
— Двойной тариф: за доставку багажа сюда и за доставку в контору. Идем!
Носильщик сделал только шаг, но я вцепилась в подол его тужурки сзади,
присев, рванула его на себя. Развернувшись вполоборота, носильщик зашипел:
— Дурища деревенская, порвешь!
— Мама потеряется. Не смейте увозить! Дяденька, не уходи.
— Дылда деревенская! Ты что, в полях, где потеряться можно? Здесь
Москва, центр. Объявят по селектору на вокзале — и придет твоя мама. —
Носильщик попросил почти ласково: — Ну пусти ты пиджак, порвешь. Встань на
тележку, контора близко, а мама, если встретится, тебя скорее заметит.
Меня везли на тележке сквозь толпу вместе с вещами. Мне было паршиво и
стыдно. Вчера маму возили, сегодня...
— Кира!
Мужской голос, знакомый-знакомый. Рядом с тележкой шел мужчина и
улыбался. Я быстро перебрала в уме: школу, дом, знакомых бабушки, мамы,
зоопарк, соседей — и не вспомнила. Еще чуть-чуть, вот-вот вспомню. А вдруг
уйдет? А может, я его по телевизору видела?..
— Здравствуйте! — сказала я ему таким голосом, словно мы виделись только
вчера. — У вас есть деньги?
— Есть, — ответил мужчина совершенно незнакомым мне голосом.
Он еще улыбался, но в глазах появилось удивление.
Тележка резко остановилась, и мужчина помог мне не упасть, поймав за
локоть. Прижав руки к груди, решив все объяснить после, я взмолилась:
— Дайте мне денег!
Уже потом, только в поезде, сообразила, что просьба получилась
требовательной.
— Ну, племянница, ты даешь!
Рядом с моим знакомым телевизионным мужчиной стоял дядя Женя.
— Это ее я сегодня вспоминал, — сказал дядя Женя мужчине, — тоже
поклонница Баженова. Думал, будет среди представителей ленинградских
школьников, а она, видишь, на вокзале промышляет: «Жизнь или кошелек». Тебе еще
черную повязку на глаз и нож. Только с каких пор бандитов на тележке возят?
— Мама там. Деньги он хочет.
Носильщик просто сиял в улыбке.
Дядя Женя пожал руку товарищу:
— Жаль, Федора проводили! Сильно он сегодня там пошумел. Считай,
выиграли. Да иначе и быть не могло. До завтра, как и договорились.
Товарищ дяди Жени приветливо кивнул и мне тоже.
— Какой вагон? — спросил дядя Женя.
— Не знаю.
— Первый от вокзала, — сказал он носильщику, — легче найдемся.
Дядя Женя расплатился. Он повернул меня спиной к сложенным горкой вещам,
отгородил от толпы.
— Тамара найдет нас, не маленькая. Я думал, вы через неделю едете. Хотел
зайти, конечно.
— Тете Зите удобней сейчас было. Мы вместе едем.
— А... Вместе? Так я про Баженова... Ну, ты, конечно, в курсе, что дом
Пашкова нуждается в реставрации. Вот мы тут с товарищами ходим по организациям.
Напоминаем, можно сказать. Обидно: в наше время, уникальнейший памятник
России... Ну где же вы были? Ты ведь впервые здесь? Чего ты бледная...
— Наконец-то! — крикнула мама.
Мама с дядей Женей обнялись. Тетя Зита, взяв у мамы пакет, передала мне
пирожки. Пока дядя Женя заслонял меня от толпы, меня не толкали. Чтобы пакет не
выбили, пришлось держать его двумя руками, смотреть на торчащие из теста
жареные колбаски. Вдыхать их аромат было невыносимо тяжело, и мне стало
безразлично: заметно ли будет у меня жирное пятно на платье, о чем говорит с
дядей Женей мама и куда мы едем. Единственное, о чем я мечтала, прижав пакет к
груди и поедая один за другим пирожки, — это вернуться домой.
Я вспомнила, как вчера утром бабушка стояла рядом со мной, размешивала
мне ложечкой кофе с молоком, а я не хотела его пить.
Уже другой носильщик побросал на тележку вещи. Мама с тетей Зитой
сопровождали его, мы с дядей Женей шли тихонечко. Народу на платформе
убавилось, видимо, разошлись по вагонам. Вдоль платформы люди стояли кучками.
Дядя Женя о чем-то меня спрашивал, но я вдруг жутко захотела спать. Оса
подлетела к моему лицу. Замирала в воздухе перед носом, отлетала и опять
возвращалась.
— Да возьми ты платок! — уже крикнул мне дядя Женя, видимо поняв, что я
плохо его слушаю. — Вытри рот, от тебя пирожками пахнет. Ос мясной дух
привлекает.
Только оса улетела, как на меня напала икота. Да так громко икалось, что
дядя Женя услыхал, несмотря на вокзальный шум и объявления по радиотрансляции
об отбытии, прибытии, посадке.
— Тебе попить надо, пойдем к автомату. Вы правильно решились уехать. Я,
правда, не думал, что мама рискнет. Для Николая там работа найдется: он в
пчелах здорово разбирается. А там, смотришь, и университет заочно окончит, ему
ведь только год осталось учиться. Изольда надолго с вами едет?
— В отпуск только. Ты знаешь, — сказала я ему, — я украла у тебя лодку.
— Какую еще лодку?
— Брезентовую, у нас дома, сложенная, на антресолях лежала.
— О господи, она уже пересохла давно. Ее выбросить надо. И почему
«украла», да еще трагическим тоном? Понадобилась — взяла.
Дядя Женя легонько дернул меня за челку и пошел за вещами. В наше купе
заглядывали разные люди, смотрели номера мест и выходили. Бородатый парень
привел старушку. Большую сумку они держали за ручки вдвоем.
— Вот тут, бабуля, верхняя полка. Да не унесу я твоей сумки.
Парень вышел, а бабка села рядом со мной, сумку опустила на пол, но
ручек не выпустила из рук.
— Ты, доченька, одна едешь?
— Нас много.
— Одной семьей? Далеко?
— До конца.
— Ты, доченька, не поспишь за меня на верхней полке?
— Я и так на верхней буду, за вас мама полезет.
— Уговори ее, а я тебе за это черешенок дам.
— За это мне ничего не надо, бабушка.
Чтобы не говорить со старухой, я стала смотреть на дядю Женю. Он
появлялся у окна, брал вещи и скоро входил в купе.
— Дядя Женя, а ты к нам приедешь?
— Вряд ли. Скоро, наверное, не смогу. А почему ты спрашиваешь? Мы
договорились с тобой, по-моему. Исполнится тебе шестнадцать — и ко мне на лето
в экспедицию. У меня в основном молодежь.
Я очень люблю дядю Женю, боюсь при нем сказать глупость или сделать
что-нибудь такое, что ему может не понравиться. Как-то я рассказала ему про
выпавшего из окна кота. Кот разбился. Я стала рассказывать, как он мучился.
«Зачем ты мне это рассказываешь?» — перебил дядя Женя. «Тебе противен кот? Он
так мучился. Жалко...» — «Мне противна ты. Ты знаешь, что я люблю животных,
помочь коту я ничем не могу, мне нужно работать, думать, а вместо этого я буду
думать о разбившемся коте. Это похуже навязчивой дурной песенки, когда ни о чем
думать невозможно больше».
Мы сидели в купе. Дядя Женя грустно поглядывал на меня и маму, доедал
оставшийся пирожок. Тетя Зита устала больше мамы. На ее влажном от пота лице
выступили красные пятна.
— Скорей бы доехать, — сказала тетя Зита. — Алтайский воздух меня в
корне меняет. Никакой тебе одышки.
— Рад, что хорошо походили по Москве, будет что вспомнить. Усталость
уйдет. Где были-то?
— Там женщина с поросенком... — начала я рассказывать.
— А, в зоопарк все-таки пошли! Он, конечно, лучший в Союзе. Для людей,
что проездом, все время заберет. Выборочно ходили? Там редчайшие звери были: на
медведя похожи, только белые с черными очками. Я давно был. Живут еще?
— Женя, ты перебил Киру. У женщины в комнате — поросенок. Понимаешь,
брат, свинья в...
— Большой?
— Порядочный.
— Они в зоопарке не только кабанов — тигров приручают и на поводках
водят.
— До чего вы, Евгений, непонятливый. В зоопарке мы не были.
Познакомились с редкими, необычными людьми. Вместо собаки люди держат свинью. У
их детей воинская дисциплина, а спят они на досках. По утрам бегают босиком, и
зимой тоже.
Дядя Женя посмотрел на меня и спросил:
— А где еще были?
Мама устало ответила за меня:
— Нигде мы больше не были и не ели даже целый день. Хотела Киру к дому
Пашкова свозить, помнила, что обещала, да не удалось.
Но дядя Женя смотрел только на меня:
— Это, попав в столицу своей Родины, ты просидела в гостях у поросенка?
— Нынче дорого поросята стоят, — вмешалась бабка. — Весной брали? Я так
сорок пять рубликов отдала...
— Дядя Женя, я еще не взрослая, меня привели, нам надо было собаку
оставить.
— Не взрослая! Спросить, где вокзал, не смогла бы? До Красной площади
тоже язык не довел бы? Ох ты!..
Дядя Женя, не попрощавшись, вышел, я бросилась за ним:
— Я уйду с тобой! Я не поеду...
Дядя Женя немножко постоял, прижавшись к окну лбом. Не глядя, притянул к
себе рукой меня за плечи.
— Мама у тебя тоже не самостоятельная, вы бы как-нибудь вместе. А?
Впрочем, ты еще действительно не взрослая. Обидно мне: впервые в Москве и так у
тебя вышло... В декабре в отпуск к вам приеду. Поохочусь. Вот мама идет.
— А чего ты в Москве делаешь? — спохватилась вдруг мама.
— На самолете прилетел на два дня. Потом опять в Среднюю Азию. Не
обижайтесь, не выношу, когда поезд на моих глазах близких увозит.
И дядя Женя, постояв немного у двери, ушел.
Кто-то схватил меня за ногу повыше ступни, больно сжал костлявыми
пальцами. Второй рукой шершаво провел по ноге и стал отпихивать, толкая в бок.
Тусклый свет и частые короткие блики от фонарей. Постукивание колес казалось
страшным. Меня стали заворачивать в матрац, придавливая и отпихивая и все
больнее сжимая ногу. Как же мама и тетя Зита позволяют? А может, их уже... И
теперь очередь за мной? Кричать было нельзя, лучше притвориться спящей.
— Ишь откормили, не сладить! — раздался старческий голос.
Я извернулась, сползая ногами в пустоту, и увидела в полумраке возле
себя лицо старухи. «Уговаривала меня на верхней полке спать», — вспомнила я.
— Вы чего? Что вам нужно? — спросила я, почти падая с полки.
— Да тихо ты! Слезай.
И старуха опять больно схватила меня теперь за руку.
Я стояла перед ней босиком на мягком коврике, в ужасе косилась на
закрытую чем-то темным голову тети Зиты.
— Хи-хи, — тихонько хихикнула старуха, поправляя мой свисающий с полки
матрац. — Я тоже сперва напугалась. Это она от света шапку на лицо натянула. И
как только дышится ей? Тут и без покрышки душно.
— Вы чего, бабушка, не спите?
— А выспалась, все думаю, думаю. Поезд идет, а я думаю. Хотела у вашей
лицо открыть: задохнется человек во сне. Э, нет, думаю! Другой так обругает,
что на день руки опустятся. Смотрю, у тебя постелька сползает, сползает. Тут
уж, думаю, будить надо, расшибется девка во сне.
— Здесь вода где находится?
— Куда ты пойдешь? Черешенки поешь, освежишься.
Мне очень захотелось черешни, и я не стала отказываться. Бабка достала из
сумки полиэтиленовый пакет с ягодами. Поднесла его к лицу.
— Ничего не вижу. Два сорта везу. Один сорт — красная, красивая ягода, а
вкуса нет. Другая просто желтенькая, мелкая, а сладкая. Косточку обгрызать не
надо, сама отстает.
Не знаю, какой сорт достался мне, но было вкусно.
— Парнишка помогал нести, так все об стенки колотил сумкой. Думала, одни
косточки целые привезу.
Поезд остановился. Тетя Зита повернулась к нам лицом, стянула берет и
облегченно глубоко вздохнула. За окном прошли с фонарем. О чем-то спорили два
мужских голоса. Один кричал, другой отвечал потише. Поезд тихонько, незаметно
тронулся. Бабка зевнула, и я, сказав «спасибо», встала, собираясь залезть на
свое место.
— Ты погоди, выспишься, в пути только и дел — спи да спи. Один бок
отлежишь — второй уже отошел.
Бабка громко шептала, но мама и тетя Зита не просыпались.
— В отпуск едете? — спросила бабка. — На каникулы, отдыхать?
— Да, вроде.
Бабка давно не казалась мне страшной.
Волосы она забрала с лица. Глазки у нее были маленькие из-за широких
скул. Руки костлявые, а кончики пальцев широкие с будто приделанными к ним с
чужой огромной руки ногтями.
— На мои руки смотришь? Они с детства у меня граблями стали от огородной
работы. У твоей бабушки, наверное, не лучше? К ней едете?
Я скучала по бабушке и почему-то соврала, что к ней.
— А дед жив? Ты ночью в окно не гляди: ничего не видать, а не заметишь,
как грусть окутает.
— Дедушка давно умер. Папа еще маленьким был.
— А я к сыну в Запорожье ездила. Второй раз женат. Первая у него
погибла, вот уже седьмой год пошел. Людей спасала, а сама не уцелела. Он только
в позапрошлый год женился.
Бабка помолчала, глядя в окно.
— Люди автобуса ждали, и наша Наденька с ними. Дорога широкая там меж
скал проложена, а повыше площадка, если какой машине развернуться понадобится.
Водитель из автобуса вышел, а тормоза не закрепил, и он пополз, автобус, к
народу медленно — люди рассказывали потом, — а потом быстрее, но не очень
быстро. И нет чтоб ему, проклятому, ровно ехать, так он еще вилять стал. Вот
словно дьявол или фашист за руль сел и высматривает, где люди стоят. К одной
скале прижмутся — он к ним заворачивает, перебегут к другой — он опять за ними.
А Наденька стала камни под колеса подкладывать. Чуть остановится — опять
перевалит через камень и вихляет. Только на Наденьке остановился. Видно,
человечьей жертвы хотел.
— Бросилась? Специально чтоб остановить?
— Кто знает, доченька: телом решилась остановить или увернуться не
успела. Остановила.
Бабка съела ягоду и долго смотрела на не отставшую от черенка косточку.
Я хотела спросить: как же ее сын мог жениться? Это после такой-то жены! И не
знала, можно ли об этом спрашивать.
— Сынок, Мишенька мой, долго один был.
А в позапрошлом году с командировочной сошелся. В Запорожье теперь живут.
Родители у нее старые. Отец хворает. Наденькина фотография у них на стене
висит. Большая, в рамке. Видимо, неплохая женщина его жена теперешняя. Другие,
знаешь?.. Разрешили бы фотографию вешать, жди...
— Зачем же он женился? Не может быть верным?
— Он Наденьку не забывает. Фотография висит. Не встретил бы хорошего
человека — не женился бы.
Бабка встала, перевернула свою подушку. Я поняла, что она обиделась.
Трудно со взрослыми разговаривать. Не скажешь ведь: «Если бы Наденька была
вашей дочкой, не то бы говорили и со мной согласились бы».
Сразу мне залезать на свое место было неловко. И бабка мне уже
нравилась. Далеко, параллельно поезду, шла машина, освещая фарами дорогу. Бабка
дернула меня за руку. От улыбки краешки глаз закрылись.
— Тебя как звать?
— Кира.
— А меня — баба Аня. Анна Даниловна. Дома все баба Аня да баба Аня
зовут.
Поняла бабка, молодец, что бабой Аней мне называть ее неудобно.
— Спать хочешь? — спросила она. — А то я все болтаю.
— Нет.
— Твои вон спят как хорошо, и поезд плавно идет, не качает. Дай бог
здоровья машинисту, о людях не забывает. Есть я чего-то захотела, составь
компанию, девка, уважь!
Анна Даниловна локтем легонько толкнула меня, а другой рукой доставала
из сумки.
— Тут у меня в горшочке... Хлеб только в бумаге. Шуршать будет,
проклятая. Это колбаска домашняя, смальцем залита. Невестка — хохлушка. Колбасу
они вкусно делают.
Есть мне хотелось, а после черешни так очень.
Мы по очереди доставали пальцами куски колбасы, а от хлеба Анна
Даниловна отделила ломоть.
«Хорошо, что бабушка не видит, она бы не одобрила», — подумала я, но так
есть мне очень понравилось.
— Ты обиделась, что Миша женился? А я тебе скажу, что Наденьку я больше
сына любила. Вот и сейчас живу с внучкой Любой и мужем ее Сашенькой. Люба
неплохая, только нервная, бывает, по-родственному и накричит на меня, а
Сашенька всегда мою сторону возьмет. Ты вот пока спала, я все лежала и думала:
не ту кофту Любке везу, что заказывала купить. Она просила редкой вязки, а я
плотную, теплую взяла. Она хотела розовую, а я опять не то — коричневую купила.
Вот как она встретит меня теперь? Если бы не Сашенька, то и домой бы ехать не
хотелось. Черешни для него везу. Любит он больше вишни, но не созрели еще.
— Спасибо, баба Аня.
— Давай-ка поспим, девонька. Да ты ножку-то на стол ставь, куда ты
полезла? Со стола легче залезать вверх.
Я лежала и думала. Еще вечером баба Аня мне не понравилась. Ночью она
показалась страшной, чуть позже — приятной, а теперь стала близкой и как бы
родной. Отчего это?
— Проснись ты, Кира! — Мама гладила меня по плечу. — День уже, а ты все
спишь. Ночь спала, полдня спишь — голова заболит. Поесть надо.
Вдоль железной дороги шла дорога для машин. Возле дороги паслись телята.
Сразу по двое друг против друга. Я довольно долго смотрела в окно и считала,
через сколько секунд появится другая пара. Получалось, через девять секунд.
Возле каждого по ведру. У некоторых ведро было опрокинуто. Ни одного домика.
Поля до горизонта. Кончится кукурузное поле с маленькими всходами — начинается
картофельное. Зерновые поля намного длиннее картофельных. А жилье так и не
встречалось. Я знаю: телят привязывают возле дома, а на ночь уводят в хлев. Где
мы снимали дачу, там совхоз и тоже есть телята. Их держат в большом загоне. И
все они живут возле людей. Почему тут?..
— Баба Аня! А почему телята...
На столе лежала большая горка разноцветной черешни. В глиняном горшочке
было еще много колбасы, а на месте бабы Ани сидел усатый мужчина и смотрел в
окно.
— Вы не хотите покурить? — спросила тетя Зита мужчину.
— Не курю.
— Ну тогда придется тебе одеваться там, Кира, — сказала тетя Зита с
ударением на «тогда» и «там».
Мужчина и после этого не вышел. Я взяла платье с сетчатой полочки и
стала думать о бабе Ане. Как же она могла так вот встать и уйти? В этом была
какая-то несправедливость. Было грустно, что я ее никогда не увижу, как не увижу больше того маленького мальчика
в трамвае, который все время спрашивал у папы: «Почему?..» А мне было не все равно,
как встретит ее внучка Люба. Простит ли покупку кофты? Обрадуется Люба ее
приезду или обиженная баба Аня уйдет в свой огород?..
— Что у тебя за привычка
замирать в бездействии?
Мама взяла у меня из рук платье и положила тренировочный костюм.
— Я уже чай заказала тебе, мы раньше пили. Умыться надо.
— А бабушка давно ушла?
— Бабка-то? Часа три прошло. Чудная, хотела тебя будить, а я не дала.
— Ну почему? Почему не разбудили? Ее звать Анна Даниловна, а не бабка.
— Кира! Смени тон и иди умываться. Направо ближе.
Проводница принесла четыре стакана чаю.
— Если можно, сейчас заплатите, я запуталась...
— Мы просили один, — сказала мама.
— Если я всем буду по одному носить, когда вам вздумается... Ресторан
открыт, вы спрашивали.
Мама положила на столик мелочь.
— Тут за три.
Мужчина с черными усищами все так же смотрел в окно. Платить он не
собирался, и мама, пожав плечами, добавила из кошелька монетку.
Телят за окном больше не было. Мужчина отодвинул сахар и стал пить чай
большими глотками, не глядя на нас. Мама придвинула ко мне горшок с колбасой. У
нас никто не был жадным в семье, но, по-моему, мама поступила правильно: нельзя
поощрять наглецов. Так всегда считал Сережа.
Тетя Зита даже развеселилась от такой наглости:
— Может, еще хотите?
И пододвинула свой чай к нему.
Мужчина посмотрел на стакан, кивнул и опять стал пить большими глотками.
Тетя Зита достала из-под подушки сумочку, вынула записную книжку, ручку,
что-то записала и показала маме. Я тоже прочитала: «Этот тип странный. В
ресторан идти не стоит. Как бы мы не остались без вещей».
Я стала наблюдать за мужчиной. Нас он просто не замечал. В окно он
смотрел странно: не следил за опять появившимися телятами, а смотрел куда-то
далеко-далеко, в одну точку. А если отворачивался от окна, то смотрел или на
стол, или на мамину верхнюю полку, хотя там на подушке лежала только книга. Я
взяла книгу, но мужчина все равно смотрел туда. «Чем-то ему нравится подушка, —
подумала я и вспомнила: — У мамы тоже сумочка под подушкой лежит».
Мы сидели молча напротив мужчины и смотрели в окно.
Шел дождь. Поля, поля с разными всходами и привязанные к колышкам
телята, как и раньше, по двое, друг против друга, разделенные дорогой. Песок на
дороге был рыжий, почти такого же цвета, как и телята.
— Мам, а почему жилья нет, а телята пасутся? Для волков их тут
привязывают, что ли?
Мужчина вдруг оглядел нас, будто впервые заметил, но тут же снова стал
глядеть на подушку. «Может, он не вор, а просто сумасшедший? Зачем вору при нас
так пристально глядеть на сумочку?»
— Ну так что там про телят? — спросила тетя Зита. — Действительно,
бросили их здесь...
— Почти вдоль любых дорог, — стала рассказывать мама, — идет довольно
большая, вернее, широкая полоса травы между дорогой и полями. Как правило,
такая полоса пропадает, ее не косят. Кто-то умный наконец придумал: привязывать
там телят. Выпускают весной, а забирают уже здоровых, откормленных бычков
осенью.
— Так они же траву за день съедят, сколько привязь позволит? —
усомнилась тетя Зита.
— Дослушайте. Несколько раз в день мимо них проезжает специальная
машина: выпил теленок воду — ему подольют, съел траву — его колышек
передвигают.
— А почему они ровно по два у дороги? — спросила я.
— Проще выйти из машины сразу к двум телятам и обслужить их, чем возле
каждого останавливаться.
— Интересно: здесь деревья раньше росли? Сколько едем — и ни одного
деревца, — спросила я.
— Утром не надо было спать, — сказала тетя Зита. — Горы проезжали.
— Разбудили бы.
— На Алтае наглядишься на горы... И бабка тебя утром будить не
разрешила. Мы с мамой тут гадали: когда это вы успели с ней познакомиться?
Вечером легли рано, ночью спали...
— Вы бы с мамой поменьше спали — и гадать не пришлось бы. А что она
сказала? Мне ничего не передала?
— Горшок с колбасой и черешню. Говорит, любит ваша девочка.
— И все?
— Кира! — Мама заглянула в горшок. — Мы с Зитой поели, и еще вон сколько
осталось.
— Ничего не сказала?
— Ну, если хочешь, — усмехнулась тетя Зита, — она сказала: «Желаю ей
хорошего жениха, а вам милого зятя, как мой... Васенька».
— Сашенька.
Я взглянула на дядьку. Не смеется ли? Глаза у дядьки были влажные от
слез. Он смотрел на стол, в сторону горшочка.
— Вы поешьте, — предложила тетя Зита, — вот вилка.
— Может, чайку вам принести? — спросила мама.
Я никогда не видела, как плачут мужчины, и мне захотелось уйти.
— М-ма-ма умерла, хоронить еду. Шесть лет не мог выбраться и вот еду.
Он грубо провел по своему лицу ладонью. Резко встал и вышел.
— Мрачная история, — сказала тетя Зита, — я подумала, что он из
заключения: без вещей, без денег, боялась из купе выйти, как бы...
— Деньги у него есть. Он бумажку смотрел какую-то, так денег много, но я
тоже за странную личность его приняла, — призналась мама.
Мне стало стыдно, что я смотрела на мужчину как на вора. Ну почему я не
подумала, что у человека горе?
Вошла проводница с веником и сказала:
— Сами спрашивали про ресторан. Пока сидите, его на перерыв закроют.
Мы прошли через несколько вагонов, и меня удивило, какие они разные: в
одних коридор купе выстлан мягкой ковровой дорожкой, висят зеркала, а в других
много людей и там, где у нас коридор, у них спальные места. Интересно: в других
поездах тоже разные вагоны?
— Ты рада, что мы уехали? — спросила мама, когда тетя Зита ушла вперед.
— Не жалеешь хоть?
— Не знаю. Бабушку жалко. Вместе жили, а теперь она одна...
— А почему Сережа нас не проводил?
— Не поверил, что насовсем. Вещей у нас мало для путешествия насовсем. И
дежурный на вокзале не поверил.
— Дикость какая-то. Взяли необходимое. Зимние вещи бабушка почтой
вышлет. Если бы я только могла предположить, что тетя Зита столько потащит с
собой барахла...
Тетя Зита замахала нам, чтобы поворачивали.
— Уже не пускают. На полчаса раньше закрыли. Секретничаете?
— А вы были на Алтае? — спросила я.
— Два раза. Ты на лошадях ездила?
— На пони в зоопарке.
— Верхом ездила?
— Нет.
— Придется поучить тебя. В тайге без лошади пропадешь.
Поезд остановился, многие стали выходить, и мы тоже вышли — не из
нашего, а из другого вагона. В чугунках продавали картошку в мундирах. От нее
шел пар.
— Продай вместе с чугунком, бабка, — просил военный.
— Нашел дуру. Из этого чугунка еще бабка моя девчонкой картошку тягала.
Он вечный.
Мимо нас прошел усатый мужчина из нашего купе. Руки у него были в карманах
пиджака. Он шел быстро, маленькими шажками. Мама и тетя Зита сочувственно
смотрели ему вслед. Усатый наткнулся на парня в спортивной куртке, что-то выбил
у него из рук.
— Ну, ты, — с угрозой произнес парень, — ослеп, что ли?
Этот окрик был для меня как пощечина. Немногим я, пожалуй, отличалась от
этого парня. Как бы я хотела помочь мужчине. Но ни ему, ни бабе Ане, ни
мальчику в трамвае я ничем помочь не могла.
— Проснись, Кира, верблюды!
Тетя Зита отодвигала перед моим лицом занавеску. Ей бы надо подвинуть
занавеску на себя и этим освободить мне верхний уголок окошка.
— Прыгай, никого здесь нет. На стол вставай! Быстрей!
Верблюдов я успела увидеть. Один стоял, высоко подняв голову, а другой
лежал, но голову держал важно, как и стоявший. Не знаю почему, но у меня было
хорошее настроение, может быть, из-за верблюдов. Я пошла умываться. С
полотенцем в руках встретилась мама.
— Мама, ты видела верблюдов?
— В зоопарке, в кино, а так не приходилось. Нет, еще в ЦПКиО видела на
Празднике зимы. Так мы с тобой и папой ходили. Помнишь?
Я помнила. Верблюда вела на привязанной к уздечке веревке девушка. Мы
встретили их на аллее. Она вела его в другой конец парка, туда, где детишки
катались на тройках с колокольчиками. Пони возили в ярких санях детей, а ослик
с мягкой шерсткой на крутом лобике выпрашивал блины. Он исправно вез, как и
пони, свои санки, но вдруг останавливался, поднимал верхнюю губу и, не слушая
мальчика-возницу, поворачивал к толпе. Многие кричали: «У кого блины, дайте ему
блин».
Получив блин, ослик ждал, пока люди вручную развернут сани, послушно
передвигался в оглоблях. И никто не сердился на него за то, что катает детей
меньше, чем пони.
— Там еще ослик блины выпрашивал, помнишь?
Мама смотрела в окно и ответила не сразу:
— Папа его фотографировал с блином в зубах. Помнишь?
— А папа приедет к нам?
— Не знаю. Надеюсь, что приедет.
— Телеграммы! Кому требуется отправить телеграмму? Газеты, журналы.
Покупайте книги.
— Надо газеты купить.
Мама пошла в купе за деньгами, а мне очень захотелось дать телеграмму.
Лучше сразу три. Папе, бабушке и Сереже.
— Тебе книжку, девочка?
— Нет, телеграмму.
— Возьми бланк.
Такие простые в голове слова получились бы на бумаге глупыми: «Папа, мы
едем на Алтай, обязательно приезжай к нам. Здесь тоже по дороге, как и в твоей
Средней Азии, встречаются верблюды». Или: «Бабушка, не волнуйся, мы едем в
поезде хорошо. Я видела верблюдов, а по тебе скучаю». «Сережа, мы уехали
насовсем. Ты меня никогда не увидишь больше».
— Девочка, ты телеграмму составь, а я назад пойду — отдашь. Все так
делают.
— Как хорошо! — обрадовалась тетя Зита, увидев у меня бланк. — А то я
забыла сказать Алисочке.
И тетя Зита написала: «Милочке нельзя говорить нельзя только брось».
Мама и тетя Зита просматривали газеты, а я надеялась увидеть опять
верблюдов. Один раз мне повезло, и я увидела домик, возле него человека, а
когда поезд отъехал, за домиком издали стал виден верблюд. Но ощущение было уже
не то. Те, первые, верблюды словно позволили мне побывать в степи, где только
небо, степь и они, верблюды. Больше никого, никого нет. А я будто бы никто и
меня будто нет, но я все вижу, я будто была там. Тогда в ЦПКиО мне просто
понравился верблюд. Он был похож на девушку, ведущую его, вернее, у девушки на
лице была такая же важность, как у верблюда на морде. Папа стоял тогда между
мной и мамой. Он держал двумя руками фотоаппарат, раскачивался в поисках нужной
точки для снимка и говорил: «Какая схожесть в выражениях лиц, какая степенность
— нарочно не изобразишь». Если бы папа не сказал тогда, как они похожи, я бы не
заметила, наверное. Я помню, что мы с мамой боялись помешать папе
фотографировать. Старались отойти в сторону, но выходило, что папе именно туда
и надо было встать. Потом девушке, наверное, надоело идти пешком. Она пошлепала
легонько верблюда по широким лохматым суставам передних ног — и он вдруг,
переломившись в ногах, рухнул на колени, громко покряхтел и подогнул задние ноги.
Девушка села верхом между горбами. И мне тогда было интересно: сильно ли давят
ее горбы? И какие они на ощупь? Мягкие или твердые? Верблюд выпрямил задние, потом
передние ноги, и девушка оказалась так высоко, что нужно было задрать голову,
чтобы ее увидеть. И сразу почему-то они стали мне менее интересны. И папа
сказал: «Ну, это уже будет банальный снимок, неинтересно». А потом у нас из-за
этого верблюда испортилось настроение. В небе зашумело, и низко-низко над поляной
завис вертолет. Поднялся сильный ветер, все схватились за головы, закрывая уши
и придерживая шапки. Но скоро все стали смотреть не на вертолет, а в другую
сторону. Верблюд словно взбесился под девушкой. Он лягал ногами в разные
стороны, ревел, раскачивал шеей, бил головой себя по бокам. Винт на вертолете
затих, но верблюд не успокоился. Был слышен его рев и чьи-то крики: «Убьет!
Убьет!» Девушка то совсем было выпадала из горбов, то каким-то чудом
втискивалась обратно. Перед разъяренным верблюдом оказался мужчина без пальто и
шапки. Рыжая борода сильно выделялась на белом свитере. Мужчина резко согнулся
и прыгнул верблюду снизу на шею, обхватил ее, как дерево, руками и ногами.
Верблюд пинал его в спину коленом, потом рухнул шеей и грудью в снег и стал
растирать человека под собой.
«Ужас! — сказала мама. — Пойдемте. Кира, не смотри! Николай, хоть бы
милиционера... Пристрелить надо. Он убьет человека».
Но папы возле нас не было. Папа не давал оторваться шее и голове
верблюда от дороги. Он что-то крикнул девушке, и она, бросив колотить верблюда
по боку, подскочила к голове. Мы подбежали, когда папа, сидя верхом на лежащей
верблюжьей голове, закручивал верблюду губу.
«Дайте ремешок от аппарата! Да даст кто-нибудь ремешок!» — так рявкнул
папа, что верблюд, не шевеля головой, опять заскреб ногами.
Девушка почти лежала на верблюжьей шее.
Я стояла близко от них с папой, и девушка сказала мне: «Девочка, выдерни
тесемку из моего капюшона, у меня руки заняты».
Я стала вытягивать тесемку, ее где-то заело.
«Рви, она слабо пришита».
«Быстрее можно? — прорычал папа. — Губа ускользает из рук». Он обернул
ко мне окровавленное лицо, узнал меня и опять прорычал: «Где мама?» — «Ремешок
ищет твой».
Наконец я выдернула тесемку и подала ему. Папа протянул мне руку. Я
совала ему тесемку в руку, а он не брал.
«Уберите ребенка! — кричала какая-то женщина истошным голосом. —
Безобразие, уберите ребенка!»
«Это мой ребенок!» — громко сказал папа.
У меня внутри просто все затеплилось от гордости. И тогда папа опять зло
зарычал на меня: «Бестолочь, вытри мне руку, она скользит от слюны и крови, мне
не удержать губу».
Я, сорвав с головы вязаную шапочку и вытирая папину руку, думала с
гордостью, что на чужого ребенка он бы не стал так орать.
«Это мой ребенок!» — опять и опять повторялось у меня в ушах.
«Кира, отойди», — задыхаясь, пихнула меня мама.
«Ну нет, — подумала я, — если бы папа сейчас сидел на тигре, крокодиле,
гремучей змее или динозавре, я бы тоже не боялась и не отошла».
«Аппарата нет, украли! А пальто и шапка вот». — «Нашла время, завязывай!
Сильней узел тяни. Сильней!» — «Больно будет. Как он тебя! Ты весь в крови...»
— «Господи, да можешь ты затянуть что есть силы... Теперь второй узел бантиком,
чтобы сдернуть быстро. Семейка...»
Верблюд сильно задергался, задрожал всем телом, а ноги вытянул
ровно-ровно.
«Вы шею не ослабляйте, пусть так минут десять полежит», — сказал папа
девушке, не отпуская верблюжьей головы.
«Зачем ты больно так губе его сделал?» — спросила мама.
Мне тоже было непонятно, зачем мучить зря верблюда, но я бы не решилась
сейчас спросить.
«Он вертолета напугался, а сейчас, кроме боли, ему ни до чего нет дела,
и про свой страх забудет. А боль уберем — опять смирным станет...»
Папа раздвинул пальцами верблюжье веко. Огромный лиловый зрачок дрожал.
Поезд остановился и сразу опять пошел.
«Полторы минуты стояли», — ответила кому-то проводница.
Но мне показалось, что поезд только чуть притормозил и опять тронулся. К
нам вошел мужчина с реденькими светлыми волосами и с розовым-розовым лицом. Он
был маленького роста и очень худенький. Под брезентовым пиджаком виднелась
вылинявшая клетчатая рубашка. Такая старая — лет сто ей, не меньше. Но главное
— он был в брезентовых рукавицах и с нежной, как у грудного ребенка, кожей
лица.
— Здравствуйте, молодые красавицы!
Мы дружно и весело ответили:
— Здравствуйте!
— Это станция была? — спросила тетя Зита.
— Полустанок.
— Неужели тут живут? — спросила мама.
— Еще как! Тут такая жизнь, самая что ни на есть. Бьет ключом. Тут, чем
бы живее, тем ценнее.
Мы втроем быстро заглянули в окно. Картина была та же — ровная земля.
— Весело, — вздохнула мама. — Ни деревца, глаз остановить не на чем,
кустики и те жалкие.
— Не такие они и жалкие. Голыми руками не возьмешь: на них колючки
ого-го.
— У вас для них рукавицы? — спросила я.
— Все продумано! — подмигнул мне мужчина.
— Как вас зовут? Вы нам нравитесь, — сказала тетя Зита.
— Борис, а папу Сережей зовут. Вы не обидитесь, если я посплю? Эх,
наверх бы!
— Полезайте, конечно, — с готовностью согласилась я.
— Ты бельишко с постели сними, а матрац оставь.
Мы вышли и постояли в коридоре. За окном было ровное невспаханное поле с
бурой травой. Только далеко у горизонта, как и у нас, виднелись тракторы,
тракторы и еще много-много тракторов. Было светло, но они шли с зажженными
фарами.
— Какой приятный мальчик Борис Сергеевич, — сказала мама.
— Какой он мальчик, мама? Взрослый дядька. Веселый просто. Дядя Женя
тоже иногда дурачился, как мальчишка.
— А вы заметили, девочки, какая у него кожа на лице?
Тетя Зита оглянулась, не слышат ли нас.
— Помнишь, Тома, я говорила?.. Ну, на Алтае есть бабки, они составляют
из трав мази. Такой мазью мажешься и еще настой из трав пьешь — и будь тебе
хоть семьдесят лет, а кожа станет, как у двадцатилетней. Наверняка он такую
бабку знает. Они скрывают состав от чужих, знаешь как?
— Зита, помешалась ты на травах. Молодой парень, вот и кожа молоденькая.
— У Кирки кожа, по сравнению с его, и то грубая. Что же ему, девять лет,
по-твоему?
Я незаметно провела пальцами по лицу, но ничего грубого не обнаружила.
— У него кожа, как у грудного ребенка. У Гали Рассказовой я видела
братика трехмесячного, так у него тоже такое личико розовое. Что же в этом
хорошего? Дядька, а с таким лицом!
Тетя Зита посмотрела на меня с завистью и сказала:
— Кира, Кира, счастливая ты. Ничего ты еще не понимаешь.
— Чего тут не понимать: вы с мамой хотите быть красивее. Только маме
зачем это? Она и так...
Но мама сделала такое страшное лицо, что красивой ее назвать сейчас было
невозможно.
Тетя Зита взялась за ручку нашего купе и сказала:
— А я у него спрошу про лицо. Вот увидишь: у него бабка.
— Зита, неудобно. Стыдно, наконец, о таком спрашивать.
— Спрошу.
Борис Сергеевич спал в рукавицах. Так спят маленькие дети, забыв отложить
игрушку. И я вспомнила бабу Аню, как она легла в Москве на мое место и
зажмурилась. Про детей я немножко знаю. Наш класс шефствовал над детским садом.
Недолго совсем, в порядке эксперимента. Закончилось шефство коллективным ревом
детей при дежурстве Вити Казакова. Он собрал им железную дорогу. Она давно была
сломана, и детишки играли с отдельными вагончиками, пуская их не по рельсам, а
так, по полу, вручную. Витя пустил состав по всем правилам: вагончики бежали за
паровозом по кругу, останавливались по Витиному приказу и опять шли. Все было
бы хорошо, но дети захотели поиграть сами.
«Не дам, — сказал им Витя. — Опять сломаете».
Витя стал играть один. Состав бежал по рельсам, в воздухе Витиным
голосом гудел немецкий самолет. На состав падали бомбы-фишки. Потом он стал
бросать в вагоны мячи. Дети давно хором ревели от обиды, но, когда шеф,
сраженный снарядом, упал взаправду и зашиб мальчугана, вбежала воспитательница,
схватила его за ухо и, доведя до передней, сказала: «Чтобы духу вашего здесь не
было!»
За день до этого случая дежурила я. Мне достался «тихий час». Дети
лежали в кроватях.
«Тетенька, мне туфелька жмет». — «Какая туфелька? Меня звать не
тетенька, а Кира. Спи». — «Тетенек так не зовут. Тетя Кира, сними мне
туфельку».
Я откинула одеяло. Девочка легла спать в зашнурованном ботинке. Я долго
развязывала шнурок. Пришлось растягивать узел зубами.
«Тетя Кира, у тебя есть детки?» — «Какие еще детки, нет», — ответила я
испуганно. «Значит, ты не тетенька».
«Дядя Кира, дядя Кира!»
Я обернулась. На соседних кроватях сидели детки по трое и больше. Только
на дальней лежал ребенок и плакал. Я подошла к нему. Под одеялом было еще
что-то большое, кроме ребенка. Мальчуган спрятал под одеяло грузовик и порвал
об него рубашку. Дети стали бегать босиком, визжали. Вошла воспитательница.
Сказала строго, как гипнотизер по телевизору, которого мы с бабушкой видели в
передаче «Здоровье»: «Спать. Всем спать. Закрыть глаза и спать».
Детишки мигом нырнули под одеяла, старательно стали жмуриться.
«Иди домой, девочка, ты им спать мешаешь», — выпроводила меня
воспитательница.
Мама и тетя Зита шептались. Когда они говорили громко, я не слышала,
точнее, не слушала, а теперь невольно отвернулась от окна.
— Я сразу подумала: рукавицы на нем неспроста, — шептала тетя Зита.
— Он, когда снимал рюкзак, такие рожи корчил забавные, кто бы мог
подумать? — отвечала мама. — Что мы, не люди? Помогли бы.
Я посмотрела на спящего. Брезентовая рукавица с правой руки дядьки
немного спустилась, обнажая белоснежные бинты.
— Мам, помнишь, у папы руки в крови были и лицо?
— Помню, с верблюдом боролся. Только, — мама улыбнулась тете Зите, — на
Николае ни царапинки не было. Верблюд подбородок об крючок на брюках себе
распорол. Давил Николая, а сам расцарапался.
— Ты рассказывала мне, я помню... Не могу больше, Тамара... — Тетя Зита
возмущенно посмотрела в окно. — Будет конец когда-нибудь нашей
бесхозяйственности? Июнь месяц — они пашут. В других районах уже урожай скоро
снимать будут. Мало этого: светло, а они с зажженными фарами, хоть бы здесь
экономили... Насколько я понимаю в технике, от этого садятся аккумуляторы. А
сюда их доставлять не так-то просто...
— Ты права, Зита, они садятся! — согласилась мама.
— Их заряжают, — поправил Борис Сергеевич.
Я была тоже согласна с тетей Зитой. Но как я потом радовалась, что не
успела ничего сказать и молчала...
— Милые женщины, чем героев критиковать, давайте лучше чаю попьем.
Он уперся в свою и соседнюю полку локтями и спрыгнул к нам.
— У нас проводница чай по настроению своему выдает, — сказала мама.
— А мы закажем по два стакана, она и заварит. Осилим?
Борис Сергеевич вышел. Мне он очень нравился. Только неприятно, если
тетя Зита права и он, мужчина, так следит за своей кожей. Мне увиделось, как он
сидит перед зеркалом и натирает кремом лицо, смазывает руки.
Хорошо, что Борис Сергеевич вернулся, а то бы я еще «увидела», как он
красит себе волосы.
— Все как в аптеке. Чай готовят. Хорошо вовремя хотеть. Она как раз для
всех заваривает. Мне и просить не пришлось.
— Почему вы скрываете бинты? — строго спросила тетя Зита.
— Зита, смотри какой куст, — пыталась отвлечь ее мама.
Борис Сергеевич растерялся даже сначала и стал оправдываться:
— Я не скрывал. Просто запачкаются... Хочу домой к жене с чистыми
руками, то есть с чистыми...
— Вы уже женаты? — не унималась тетя Зита.
— Зита, ну гляди ты...
Я видела, что маме неловко.
Мне тоже такая решительность маминой подруги не нравилась. Хотя меня
всегда привлекало смелое поведение людей, на которое я не была способна.
— Давно женат. Дочери семнадцать лет. И очень люблю свою жену. Дочь
тоже. Но жену больше. Просто боготворю жену.
Я бы на месте Бориса Сергеевича просто разозлилась бы. А он отчитывается
с юмором, беззлобно, не стараясь обидеть тетю Зиту.
— А что у вас с руками?
— Ошпарился. Я повар.
— Опрокинули кастрюлю? — спросила мама как-то через силу. Я знала: мама
никогда не была любопытной. Когда спрашивала одна тетя Зита, было неловко. Она
выспрашивала, словно допрашивала. А когда спросила мама, получилось, будто они
втроем разговаривают и никакого назойливого выспрашивания нет. Я очень любила
сейчас свою маму и гордилась ею почти так же, как тогда папой в ЦПКиО.
— Кастрюли я не опрокидывал. Я хороший повар, — улыбнулся Борис
Сергеевич.
— И скромный, — тоже улыбнулась тетя Зита.
— Сюда плохих не посылают. Зато я оказался плохим помощником
тракториста...
— Чай, печенье? Вафли? Есть лимоны.
— Все давайте! Кира, достань у меня в кармане кошелек.
Я поняла, что так надо, и спокойно полезла к нему в карман.
— У нас есть, — засуетилась у сумки мама.
— Позвольте мне быть мужчиной. Или я совсем есть не буду, — обиделся он.
Я положила ему сахар в стакан, стала размешивать.
— А можно еще сахару?
Я давала ему откусывать от вафли. Стакан он поднимал ко рту сам. Мне
казалось, что я медсестра, а он раненый.
— Так вы оказались плохим трактористом, — не забыла тетя Зита.
— Трактористом я не был, это приятель мой Юра Казаков...
Я даже вскрикнула:
— Ой! А я его знаю. Он из Ленинграда?
— Да.
Я невольно посмотрела в окно, уже с любопытством, на тракторы. Мама и
тетя Зита тоже стали вглядываться, словно ожидая увидеть за окном знакомых.
— Он провожал меня. — Борис Сергеевич тоже поглядел в окно.
— Он брат Вити Казакова из нашего класса. Он сдает экзамены или зачеты
раньше других студентов и второй год уезжает весной на целину.
— Приезжает Юра четвертый год. А как работает! Это там, у нас на месте,
надо видеть. Жарища. Пыль на зубах хрустит. Рубашка от пота колом стоит. Да,
все у нас работают на износ: спят часто в кабинах, покемарит часок — и опять
мотор включает. До постелей некоторые и дойти не могут. Обед и воду прямо к
машинам им подносим. Сами просят, чтобы время зря не тратить, а мне кажется,
многие выйти просто не в силах. Я Казакову воду принес, а у него трактор стоит,
от мотора дым идет. Я Юре ковшик с водой подаю, а он показывает на трактор и
говорит: «Ему воды надо». А самому и не вылезти из кабины, вижу. Спросил у
меня: «Залить воду сумеешь?» Я и соврал, что сумею. Ошпарился не вовремя.
Всегда, глядя на машину, я и видела только машину. КамАЗ или трактор,
автобус или легковая, красивая или так себе. Транспорт всегда был для меня
чем-то вроде одушевленного предмета. Будто сам по себе, без людей движется.
Конечно, иногда замечаешь шофера. Это когда переходишь дорогу не по правилам и
шофер обругает тебя, или, если шофер знакомый, тогда его, конечно, замечаешь. И
тут, глядя из окна на бесчисленные тракторы, я ни разу не подумала, что там,
внутри их, сидят люди, пока Борис Сергеевич не назвал Юру Казакова.
— Работа тяжелая, бесспорно, — сказала мама, — только мне непонятно:
сейчас уже лето — извините, кто же сейчас пашет? Это всегда делается весной.
Борис Сергеевич немножко с сожалением посмотрел на маму:
— Работников не хватает. Земли много. Пропадает она. А даже сейчас
засеют — и еще успеет вырасти на ней хлеб.
— Это понятно, — вмешалась тетя Зита, — но вот светло сейчас, а у них
фары зажжены... И заметьте: сколько едем — тысячи машин и у всех зажжены фары.
Это ведь чистой воды бесхозяйственность. Согласитесь!
Борис Сергеевич еще больше порозовел лицом.
— Видите, шлейфы пыли тянутся кверху за каждым трактором? Это издали нам
в чистом вагоне кажется, что шлейфы обходят тракторы стороной. На самом деле
они и при включенных фарах работают почти на ощупь... В кабинах пекло, ребята
мокрые, от пыли саднит в легких, не прокашляться... А это много-много часов за
рулем надо выдержать.
Сейчас ползущие тракторы напомнили виденные мной фильмы о войне, когда
все поле усыпано танками. Я сказала:
— Будто в кино битву показывают.
— Ну, это и есть битва. Только за хлеб, Кира. А на поле — герои.
Борис Сергеевич посмотрел мне в глаза. Лицо розовенькое, какое-то ненастоящее,
а глаза серьезные.
«Наверное, тоже героем себя воображает», — подумала я с неприязнью и
спросила:
— А почему же вы повар, а не тракторист, раз они герои?
Но тут молчавшие мама и тетя Зита накинулись на меня.
— В нашей спокойной кухне с водой в кране и то, ты думаешь, легко обед
готовить? — сказала мама.
— Дома провозишься, — поддержала тетя Зита, — а ты представь, что он на
такую ораву должен приготовить и в таких условиях. Тут на тракторе легче наверняка
работать.
— Да не легче — труднее приходится трактористам.
Борис Сергеевич ответил раздраженно. Мне почему-то захотелось с ним не
соглашаться. В конце концов, могу я высказать свое мнение?
— По-вашему, если приходится трудно, это уже геройство? А кто же тогда
люди, влезавшие в огонь, чтобы спасти человека? Конечно, похоже на битву. Будто
по полю идут танки, а не тракторы. Только знаете, в танки стреляли, бросали
гранаты и никто не знал, выйдет ли он живым с поля боя. А тут каждый тракторист
знает: как бы он ни устал, он останется жив, отдохнет... Вот я знаю: один
человек боролся с верблюдом и тот его чуть не разорвал. Человек не знал, будет
он жив или верблюд его убьет. Он, по-моему, герой.
— Кира, остановись! Это разные вещи. Ты не понимаешь.
— Мама, мне нельзя спрашивать? Я хочу понять.
По-моему, тетя Зита сказала правильно:
— Борис Сергеевич там работает и просто благородно отзывается о своих
товарищах.
— Кажется, я понял, о чем Кира спрашивает, — сказал Борис Сергеевич. —
Есть у нас один казах. Работает механиком. Осматривает тракторы, перегоняет их
при нужде. В общем, машины знает хорошо. Как-то к нашим палаткам ночью прибрели
верблюды. Три штуки. Не знаю, то ли свадьба у них верблюжья была, то ли им не
понравилось у нас что-нибудь, только один верблюд просто взбесился. Увидит, что
человек хочет из палатки выйти, — бегом туда: ревет жутким голосом, с морды
слюна пеной падает, по палатке головой лупит, лягает, потом зубами схватил и
потащил. Не знаю, чем бы это кончилось.
— Они очень опасные, мы с мамой видели, — сказала я.
— Я доскажу, можно? Но тут к верблюду подошел казах. Верблюд прямо
осатанел от ярости: заревел еще громче, пасть как-то набок перекосил — мне все
казалось, что он казаху хочет откусить голову. А мы, все здоровые парии, из
палаток, как мыши из нор, выглядываем, а выйти помочь никто не решился. Потом
многие сознались, что просто животный страх напал. Прямо ужас перед чудовищем
какой-то. Казах бросил перед верблюдом свою куртку, и зверь стал на ней
плясать. Пока верблюд плясал, — а мы не сразу поняли, что он просто в ярости
топчет вещь, пахнущую человеком, — казах подошел к верблюдицам и повел одну в
степь. Вторая пошла за ним сама. Скоро верблюд заметил, что самки уходят, и
погнался за ними. Мы подумали, что казаху будет конец, единственное ружье
оказалось разобранным...
— Вы извините, — сказала мама, — но мы знаем, как опасен верблюд в
ярости. Вы хотите сказать, что казах — герой? У вас, действительно, все герои.
— Я хотел сказать, что казах справился с верблюдом. Вернулся целый и стал
героем дня. Но когда казаха попросили подменить заболевшего тракториста, он
согласился, но смог просидеть за рулем только пять часов — потом потерял
сознание, не выдержал. А ребята работают по десять и больше часов. Юра Казаков
иногда и по пятнадцать.
— Борис Сергеевич, — сказала тетя Зита, — у вас на Алтае есть знакомая
бабка? Я давно хотела спросить.
— Есть, конечно. Какой-то удивительный вопрос. Соседка есть старенькая.
У жены бабушка жива. Да много...
— Ну, будто не понимаете? Вы не стесняйтесь. Бабка-травница. У вас такая
нежная кожа, будто только родились. А в таких условиях, как вы говорите, где
люди сознание от работы теряют, сохранить такой цвет лица без специальных
мазей...
Борис Сергеевич растерялся. Мама никак не могла поставить в правильное положение
ручку на двери, чтобы выйти. Я стояла возле нее, тоже готовая удрать.
— За кого же вы меня принимаете? — брезгливо спросил Борис Сергеевич.
— Рецепт. Скажите рецепт. — Тете Зите явно было неловко, но она не
хотела отступать.
Борис Сергеевич вдруг улыбнулся с жалостью:
— Рецепт я вам сразу сказал, вы просто не обратили внимания.
— Тысячу раз извините мою навязчивость, но мы женщины в определенном
возрасте.
Я готова была укусить тетю Зиту за слово «мы». Я никогда не буду так
жалко выпрашивать средства, чтобы молодеть.
— Моя бабушка и без мазей красивая! Мажьтесь сами, нам не надо! —
крикнула я.
Борис Сергеевич расхохотался, прижимая к лицу рукавицы. Но тут же
прекратил смеяться. И сказал серьезно:
— Рецепт я вам напомню, только надеюсь, что вы им не воспользуетесь. Я
ошпарился. Заливал воду в раскаленный радиатор машины Юры Казакова и ошпарился.
Кожа на лице слезла. Эта, розовая, — новая кожа. Старая меня больше устраивала,
новая очень болит.
Тетя Зита даже не скрывала, как расстроилась. Она смотрела на краешек
стола, и я поняла, что она может заплакать.
Дверь, приоткрытая мамой, от толчка поезда отъехала до конца. Борис
Сергеевич вышел. Мне очень понравилось, что он сообразил выйти. Тетя Зита
достала платок.
— Зита, брось ты. У тебя
нормальное, свежее лицо. Что ты выдумываешь про себя?
— Мне скоро сорок лет. Ну
поверь, совсем недавно было двадцать, я не заметила, как время ушло.
Тетя Зита вдруг запела тихонько-тихонько:
Ну ж ты молодость
Моя молодецкая,
Не видела я тебя,
Когда ты прошла,
Миновалася,
Со лица красота
Да потерялася.
— Это моя мама пела, — сказала тетя Зита. — Она много песен знала. А с
мазью — так, ерунда, конечно. Ничего в жизни путного не сделала, решила лицо
обновить. У тебя хоть дочь есть. И не вздумай жалеть меня. Рассказывай про телят
ей, про верблюдов...
Последние слова тетя Зита сказала со злостью и вышла.
— Ну дела, — сказала мама.
— Ты с ней с какого класса училась?
— Недавно, два года, как познакомились. Бабушка ее не любит, я и
придумала, что со школы... Она хорошая, про травы много знает. Путешествует
много. Мне интересно с ней...
— Папа к нам приедет?
— Ты уже спрашивала. Я очень хочу быть хозяйкой. Сама. Хоть раз в жизни
пожить самостоятельно. Чтобы были мои вещи: стол, шкаф, вилки. Я хочу
почувствовать себя взрослой. Да, да, не удивляйся: мне скоро, лет через пять,
будет сорок лет, а я до сих пор боюсь нечаянно хлопнуть дверью или разбить
чашку. Мне очень хочется иметь свои цветы, кошку и не старинный, а простой
шкаф, под которым легко вытирать пыль. Ты только не думай, я хорошо отношусь к
бабушке и уверена, что она к нам приедет. Просто каждый взрослый человек должен
иметь свой дом, свое дело. Ты поняла?
Тетя Зита и Борис Сергеевич вернулись спокойно, будто глупого разговора
про мазь между ними не было.
— Скоро приедем. Часиков в восемь будем дома, — сказал Борис Сергеевич.
В вагоне зажгли свет, от этого за окном стало совсем темно.
А далеко, у горизонта, светились вереницами бесчисленные фары тракторов.
В Барнауле авто- и железнодорожный вокзалы рядом. Мама и тетя Зита, обложенные
вещами, сидят на скамейке между вокзалами и спорят, а я стою возле них и смотрю
вслед Борису Сергеевичу и его жене. Рядом с женой Борис Сергеевич кажется
высоким, но не только потому, что она ниже ростом. При встрече с прохожими
Борис Сергеевич, словно опасаясь, что его жену могут толкнуть, вытягивается и
распрямляет плечи. Мне обидно, что они забыли про нас, и еще грустнее, что я их
никогда больше не увижу. Людей, даже на вокзале, мало, не только по сравнению с
Москвой, но и с крупным пригородом Ленинграда, например городом Пушкином в
летнее время. Я вижу часть широкой улицы с большими деревьями, красивый дом на
углу. Определять, красив ли дом, меня научил дядя Женя. «Возьми мысленно
здание, поставь его на большой холм и окружи лесом, только дорогу перед
фасадом, конечно, расчисти. Если строение своим видом будет портить лес,
значит, оно плохое». Мне такая игра нравится, и я часто переношу дома в лес, к
озеру, на болото. Обсаживаю елками, кленами, чаще всего липами.
Сейчас я перенесла здание на берег пруда с утками, пустила пастись возле
клумбы с красными цветами белую лошадь. Но то, как здание стояло на самом деле,
мне нравилось больше, чем в моем воображении, и я вернула его на свое место.
— Я начинаю жалеть, что поехала, — говорит мама.
— Мне необходима канистра, понимаешь? Она нас очень выручит первое
время, понимаешь?
— Ты представляешь, сколько придется из-за нее тащиться? — возражала
мама. — Мне Киру жалко.
— Да Кире на автобусе в сотню раз интереснее ехать, чем самолетом.
Правда, Кира? Представляешь, из Барнаула на автобусе? Самолетом мы ничего не
увидим.
Берет у тети Зиты был надвинут на лоб, на носу блестели крупные капли
пота. Она будто спрашивала у меня, как у маленького ребенка: какую игрушку тебе
купить? Автобусик или самолетик?
Я взглянула на маму.
Ее явно не интересовало мое мнение. Она смотрела на сквер за дорогой.
Там видны были высокие каменные плиты, к ним поднимались по ступенькам люди.
— Изольда, мы летим самолетом, или я вернусь домой, — решительно сказала
мама.
Я представила встречу с Сережей. «Вас так долго не было. Целых три дня».
Нет, он бы ничего не сказал, просто усмехнулся. Прищурил бы глаза и усмехнулся.
Молча.
А что бы я смогла рассказать о нашем путешествии?
Вместо Москвы видела какого-то поросенка в квартире. И еще проехали
место, где работает брат нашего школьного товарища. Потом взрослые поспорили,
лететь или ехать, не договорились — вот мы и вернулись.
Тетя Зита помолчала, опустив голову, потом нехотя согласилась:
— Наверное, ты права, дорога автобусом будет утомительной, летим. Только
мне в Горно-Алтайске придется проваляться. Резкую смену давления не все
здоровые-то люди легко переносят, что говорить про больных.
— Прости, Зита, — сразу уступила мама, — я эгоистка.
Оставив меня с вещами, они ушли в автобусную кассу. В чем-то местные
люди отличались от привычных мне ленинградских жителей. Я разглядывала
прохожих, стараясь уловить это различие. Вроде одеты они были так же, как и у
нас: кто понаряднее, кто попроще. Может быть, здесь меньше спешили и толкались
и в этом различие? Или здесь более загорелые, свежие лица? В воскресенье утром
у нас тоже не так людно и загорелых немало. Только когда я перестала сравнивать
людей из таких далеких друг от друга городов, мне показалось, я поняла в чем
дело: меня замечали здесь. Вот прошла пожилая женщина в цветастой кофточке.
Голубые цветочки, голубые глаза на сильно загорелом лице. Пока шла мимо, она
все смотрела на меня, вскользь окинула взглядом вещи и опять взглянула на меня.
Она словно спрашивала взглядом: «Кто ты? Приехала или собираешься уезжать?
Почему одна?»
Ее участливое любопытство я поняла, когда женщина свернула за угол. А я
на нее смотрела, кажется, равнодушно, по крайней мере, старалась делать вид,
что не замечаю. Наверное, если бы можно было сделать так, чтобы она прошла еще
раз, я бы у нее что-нибудь спросила. Например: почему в скверике стоят каменные
плиты и туда идут люди?
Потом прошел мужчина с красивыми густыми волосами. У мужчины был
продолговатый разрез глаз, и я подумала, что он, наверное, алтаец. Он тоже
посмотрел на меня участливо и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Он улыбнулся
еще, совсем хорошо и открыто, и пошел дальше. Спросить у него про плиты я не
решилась: а вдруг он не знает русского языка. Наверное, из-за многолюдия у нас
не замечают на улицах друг друга. Тем более на вокзалах. А может быть, это я не
замечала других людей? Иногда проходишь мимо знакомых и не узнаешь, пока тебя
не окликнут. Мимо шла женщина с ребенком на руках. Девочка была большой, лет
пяти. Она спала, обняв мать за шею. Женщина была крепкой, загорелой, с крепкими
мускулистыми ногами. Она была босиком. Туфли, совсем новые, несла в одной руке,
а другой поддерживала ребенка, словно он ничего не весил.
— У тебя мешок свалится со скамейки, поправь, — сказала женщина.
Я поправила сползший к краю рюкзак тети Зиты. Внутри что-то громоздкое и
жесткое застучало.
— Кости везешь, что ли? Гремят в мешке.
— Не знаю. Может, посуда. Не знаю, — ответила я.
— Тут мужчина с двумя детьми не проходил? Мальчик и девочка с ним.
— Не заметила, — ответила я.
— Значит, не проходил. Как можно не заметить? Разминулись. Приехали в
город за покупками. Пока я туфли покупала, он машину под мебель пошел
заказывать. Наверное, меня пошел искать, а я его. Зачем туфли старые выбросила,
дура? А эти жмут. Старые еще хорошие были. Смешно: привезут мебель в село, а
нас нету. Увидишь его — скажи: Галя пошла к тетке Лизе.
— Может, он прошел уже?
— А ты-то давно здесь сидишь?
— Давно. Только на людей я недавно смотреть стала.
— Во смешная, а на кого же смотреть? На воробьев, что ли? Ты скажи: к
тете Лизе. Его Васей зовут. Узнаешь. У него уши здоровые, в стороны растут.
Ушастый Вася с детьми не проходил. Наверное, он прошел раньше. Как я
могла объяснить Гале, что я в большом городе всегда смотрела на людей почти как
на волны: увидела — и тут же забыла, как человек выглядел.
Я так усиленно высматривала и в ближних и в дальних редких прохожих
Галиного мужа, что маму с тетей Зитой увидела, только когда они подошли ко мне.
— Кира, а ты обгорела, — сказала мама. — Не больно? Лицо просто пунцовое.
— Очень прошу, не долго! Я буду волноваться, — просила тетя Зита. —
Полтора часа промелькнут...
Мы с мамой перенесли вещи ближе к автовокзалу, оставили с ними тетю
Зиту.
— Умоляю, — крикнула она нам вслед, — не долго!
Мы шли к красивому зданию, что понравилось мне.
— Чистый город, — заметила мама. — Обидно: почти как с Москвой
получается. Я думала, пробудем здесь хоть сутки, город посмотрим. Зита боится
пропустить цветение нужных ей растений для лекарств. А наверстать время
самолетом тоже нельзя. С канистрой в самолет не пустят.
— Почему так мало людей? — спросила я.
— Многие на работе еще. Потом, это же тебе не Москва.
Мы прошли немножко по проспекту.
— В магазины заходить не будем, — сказала мама, — времени в обрез. Хоть
воздухом барнаульским подышим.
Но мимо булочной мы пройти не смогли. Запах теплого хлеба всегда
привлекает, но тут из булочной пахло совсем особенным, необычно вкусным хлебом.
Мы выбрали большую круглую высокую с коричневой корочкой буханку. Она
была горячей и, несмотря на размеры, не тяжелой. Мама нехотя передала ее мне.
Ей явно приятно было нести хлеб самой.
— Если я не ошибаюсь, Барнаул — самый главный центр по хлебу в стране, —
сказала мама.
Под пальцами корочка потрескивала. Мы отломали по большому куску, шли
молча и ели. Хлеб был такой вкусный, что я не могла ни о чем думать, только
вдыхала его запах и ела.
По дороге назад мы с мамой зашли в сквер к большим каменным плитам. У
входа в почетном карауле стояли пионеры. Огромный мемориал в честь погибших в
годы войны. На плитах высечены фамилии. Буквы маленькие для таких огромных
плит. Тут были высечены тысячи и тысячи фамилий. У Вечного огня — цветы, у
подножия плит — цветы. Каждой фамилией был когда-то живой человек. Я посмотрела
на площадь, на редких прохожих. А на плитах — тысячи фамилий погибших.
Мы с мамой долго смотрели на пламя Вечного огня. Хлеб все еще был
теплый.
— Жуть берет, сколько людей погибло, — сказала мама. — Я сейчас
по-другому вспоминаю нашу дорогу. Эти необработанные поля. А ведь у погибших
были бы дети.
Мама взяла у меня хлеб. Я не могла объяснить как, но у меня в сознании
тоже тесно переплелось все, связалось вместе: терявшие сознание от работы
трактористы, бесконечная земля, запах хлеба и очень дорогие мне погибшие
солдаты.
Четыре дня мы не можем выехать из Усть-Коксы в нужный нам поселок. А он
совсем рядом. Стоит только переплыть на другой берег Катуни и пройти несколько
километров. Машиной намного дальше, в объезд через мост, а главное — машину не
удается достать. Но мама отказалась от лодки.
Тетя Зита привела бабку.
— Она согласна перевезти нас на лодке, — радостно сообщила тетя Зита.
Бабка захотела посмотреть вещи. Мы провели ее в наш гостиничный номер.
Бабка легко приподняла самый тяжелый рюкзак одной рукой.
— С каждого мешочка рубль, — сказала бабка.
— Это рюкзак, — уточнила я.
— Мне все равно: мешок, рюкзак, сетка. Рубль место будет, а с людей по
пятерке. Задаток вперед давайте. Рублей этак семь хватит.
Мама бросилась к своей сумке, но тетя Зита сказала железным голосом:
— Никаких задатков.
Лицо у бабки, когда мама полезла в сумку, сначала напряглось, застыло,
потом уголки губ дрогнули в улыбке. А после тети Зитиных слов на лице ее
появилась такая гримаса горя, что я, думая, будто бабка шутит, изображая
радость и страдания на лице, рассмеялась.
— Эта тоже поедет? — ткнула в мою сторону бабка пальцем.
— Почему эта? — обиделась мама.
— Лодка у меня старая, а девки все вертлявые. Как бы чего на Катуни не
вышло.
— Мы не поедем! — сказала, как отрезала, мама. — Никаких лодок!
— Мамочка, пожалуйста, — взмолилась я. — Я буду сидеть тихо.
Тетя Зита поддержала меня:
— Мы можем здесь пробыть еще неделю. Сейчас разгар стрижки овец в
совхозах.
— Ну? Решайте. А то мне идти надо. — Бабка, посуровев, ждала ответа. —
Зимой бы вы приехали... Ну! Тогда другое дело, машин много. А сейчас... Женщина
права: время горячее. Людей для стрижки овец привозят — раз, отвозят на обед по
домам — два...
— Проще обед им привезти, — встряла тетя Зита, — чем каждого по домам
развозить.
— Ну, вы скажете... У всех скотины дома полно своей. Корове не
объяснишь: «Я занята, доить тебя не буду».
— На лодке мы не поедем, — опять твердо сказала мама.
— Тамара, чего ты уперлась? — спросила тетя Зита. — Лучшего выхода нет.
— Сколько километров до поселка? — спросила мама у бабки.
— Ну, семь, десять. Так.
— Зита, а как мы вещи перетаскивать будем? У меня две руки, тебе нельзя.
А Кирке я не позволю тяжестей таскать.
— Мы Киру оставим на берегу с вещами, а сами пойдем в поселок за
подводой. Лучший выход. Согласна?
Мне очень хотелось переплыть на лодке Катунь, проехать на подводе, чтобы
самой править лошадью, и скорее увидеть дом, в котором мы будем жить. Но тут же
после слов бабки расхотелось.
— Чудные! Как же вы девку надолго одну в безлюдье бросите? А если ее
медведь съест?
Мама сильно побледнела. И мне опять стало приятно, что мама меня очень
любит и, конечно, медведю не оставит.
— Съесть, может, не съест, — продолжала рисовать картину моей встречи с
медведем бабка, — а вот напугать девку может. Или она потом онемеет, может,
трястись начнет... А вот как вам уезжать, я придумала, кажется... Ты, девонька,
выйди, у нас разговор будет.
Я сошла с высокого гостиничного крыльца. По привычке поглядела на
дорогу, нет ли там машин. Возле универмага на площади стоял большой фургон. С
него сгружали мужчины ящики с товарами. «Этот нас не возьмет», — сообразила я.
Возле здания райисполкома была привязана лошадь. Она стояла на солнцепеке,
опустив голову. Из райисполкома вышел алтаец с озабоченным лицом. Засунул в
голенище сапога сложенную бумагу и стал отвязывать лошадь.
— Игнат! — крикнули ему из окна. — Нашел врача?
— Какое. Сорок коров... А врача нет.
Меня в какой раз удивило, что местные алтайцы говорят совсем чисто
по-русски, без всякого даже акцента.
— Подожди, Игнат, из совхоза «газик» вышел, звонили, что к вам идет.
Потом у табунщиков за Верхним Уймоном врача заберет. Как же ты не углядел?
— На двести семь голов я один. Хоть бы школьников дали в помощь...
До меня вдруг дошло, что придет машина и пойдет через Верхний Уймон в
нужное нам место. Перескакивая через две ступеньки, я бросилась наверх, к
нашим. Корова, лежащая в тени крыльца, шумно выдохнула в пыль, словно сказала:
«Наконец-то!».
Я пересказала маме и тете Зите услышанный разговор, но ответила за них
бабка:
— Тогда это меняет дело. Ты, — показала она на тетю Зиту, — будешь не из
газеты, а наймешься овец стричь. До вечера пострижешь, ничего с тобой не
случится. А ты будешь уже не художник...
— Фотограф, — поправила мама.
— Ну, будешь не с передовиков снимки делать, а пастухом к овцам
наймешься. Соглашайся гнать только в свой поселок, и точка. Ну, из своего
поселка овец. Поняла?
— Господи, я никогда не пасла. Только чужих куриц с участка на даче
прогоняла, — расстроилась мама.
— При овцах козел должен быть, — учила бабка. — Ты его гони, а овцы за
ним пойдут, можешь не оглядываться. Да эта с тобой будет. Девка взрослая,
поможет. У нас и младше ее все на работе.
— Как? Дети? Работают? — спросила тетя Зита. — Собирайтесь быстрее,
машину пропустим.
— Чудные! А чего с ними сделается? Старшие в совхозе работают: и на покосе,
и пастухами. Младшие тальниковые ветки скоту на зиму режут. Тоже деньги в дом
приносят. Такие, — указала опять на меня бабка, — если только заболеют, дома
околачиваются.
Дежурная по гостинице и бабка помогли нам с мамой перенести вещи к
райисполкому.
— Вы уж пустите нас в гостиницу, если не уедем, — попросила мама.
— Придется, — пообещала дежурная. — Только цветы не дам носить больше. И
мусора от вас полно, и кусты жалко. Все ободрали с берега. Как нарядно
боярышник цвел... Зимой птиц на нем полно. Клюют ягоды. А теперь!.. И зачем он
вам?
— Для лекарства. От болей в сердце помогает, — охотно ответила тетя
Зита.
— А! В аптеку сдаете. Ну, это нужно людям, конечно.
В аптеку тетя Зита не сдавала. Она делала лекарства сама. Сушила всякие
травки, цветочки. Потом настаивала их на спирту и раздавала знакомым. Если
кто-нибудь из знакомых заболевал, у тети Зиты от любой болезни было лекарство.
Как-то она принесла бабушке настойку для снятия усталости.
«Сколько стоит? — шепнула бабушка маме. — Спроси». — «Что вы, — замахала
мама руками, — Зита денег не берет».
На следующий день бабушка пошла искать подарок для тети Зиты. Вернулась
усталая и сердитая, с перевязанным ленточкой свертком, сказала: «Знаешь,
Тамара, мне больше от твоей Земфиры лекарств не надо. Столько магазинов обошла
в поисках подарка. Мне проще в аптеку пойти. Подобное снадобье, оказывается,
свободно продается. Сделано, кстати, более квалифицированными людьми, чем твоя
Изабелла». — «Ее Изольда зовут», — только и сказала мама.
Мама и тетя Зита пошли в райисполком наниматься на работу, а я осталась
с бабкой.
Бабка мне очень не нравилась. Мне было неприятно, что она учит маму
врать. И почему маме не противно? Сама-то я, конечно, врала по необходимости.
Бабушка пошлет в магазин, как назло, встретишь кого-нибудь из знакомых девочек,
немного поговоришь, придешь, а магазин закрылся на обед. Или очередь большая.
Не знаю, кто как, а я считаю, что лучше обойтись без какого-то продукта, чем
долго стоять в очереди. Говоришь бабушке: «Сметаны не было». Из моих ровесников,
по-моему, не врал только Сережа. Если дома его просили сходить в магазин, он не
шатался по улице, убивая отведенное на очередь время, а отвечал маме спокойно:
«Я не пойду!» — «Почему?» — «Не хочу». — «А есть будешь?» — вмешивался папа.
«Могу не есть». Когда его мама одевалась, брала сумку, Сережа был спокоен. Я
очень неловко чувствовала себя тогда у Сережи. Мне хотелось забрать у его мамы
сумку и самой сбегать в магазин. Мне кажется, лучше бы Сережа врал, сказал бы,
что уроки делает или что голова болит, а не говорил бы так жестоко: «Не хочу».
Но мне очень-очень неприятно было сейчас, что будет врать моя мама.
Какая она пастушка? У нее есть письмо из поселка: «...Очень рады...
Преподаватели нам нужны... Жильем обеспечим...»
Тетя Зита едет собирать травы. Наверное, это ее работа. Я еду с мамой, и
мы никак не можем доехать, нет машины, и поэтому моя мама будет врать. Сейчас в
Ленинграде, недалеко от нашего дома, на стоянке такси, наверняка стоит много машин
с зеленым огоньком. В этом есть какая-то несправедливость.
— Чего ты на меня злишься? Эта женщина ваша хворая пришла ко мне,
попросила помочь выехать. У меня, думаешь, дел мало? А я раз обещала что-нибудь
придумать...
— Придумали, чтобы мама врала? А как тетя Зита к нам приедет, раз стричь
овец в другом поселке будет?
— Тетку в конце работы отвезут, куда прикажет. А поселки не далеко. Если
бы не багаж, так на лодке перебрались бы. Ну! Твоя мама училка? Вот к сентябрю
бы приехали, когда учить надо, — так вас бы аж из Барнаула встретили. Сейчас
почет нужным рабочим, всем, кто скот обслуживает. Вот им.
Бабка кивнула на доску «План продажи государству». Там было написано
необычное для меня: «Сдать пантов — 7490 кг». Недавно слышала про панты. Но
тогда слушала невнимательно и теперь жалела. Рассказывал мне старичок в
автобусе по дороге из Горно-Алтайска в Усть-Коксу.
Я сидела между мамой и старичком на заднем сиденье. Тетя Зита — впереди,
прикрыв лицо платком. Ей было жарко. Даже мы с мамой через час езды стали
«квелыми», как сказал старичок.
— Издалека в наши края? — спросил старичок.
Мама сказала, откуда мы.
— Самолетом?
Мама ответила. Голоса мамы и старичка срывались от тряски. В автобусе
было очень пыльно. Окна закрыли, но все равно все было покрыто слоем пыли. Даже
кабины шофера не было видно из-за пыли в воздухе. Каждый вдох был неприятен.
Легкие не хотели такого воздуха. Челюсти я держала плотно сжатыми: чуть
забудешься, расслабишь — и зубы начинают стучать друг об друга. Я сравнила себя
с трактористом, вспомнив, как об их работе говорил Борис Сергеевич. И тут же
поняла, как это глупо. Наш автобус шел по почти ровной, укатанной дороге,
только не асфальтированной. Трактористы — по целине. Я просто ехала, вцепившись
двумя руками в поручни. Они — управляли машиной.
Старичок толкнул мужчину на боковом сиденье.
— Слышь, Петр, Петр! Эти из Барнаула аж автобусом едут. Пересели в
Горно-Алтайске на другой и опять едут. То-то я сразу приметил: квелые,
наверное, лечиться едут. Сначала думал, торговать чем: вещей, как у хорошего
купца, набрано. А их утрясло.
Петр оглядывал нас долго и пристально, потом ойкнул, подпрыгнул на
сиденье и сказал:
— Но! У меня за час, пока
едем, все внутренности в животе смешались. А эта, в подштанниках, что платком
накрылась, с ними вроде?
Мама, как и старушкам в Сростках, продававшим укроп на автобусной
остановке, объяснила за тетю Зиту, что это не мужское нижнее белье, а модные в
городах брюки.
Автобус в Сростках стоял пятнадцать минут. Все пассажиры вышли
размяться. Чтобы хоть немного успеть посмотреть места, где жил Шукшин,
Дом-музей Шукшина, нужно было ехать следующим автобусом.
«Ты думаешь, я не хочу здесь побывать? — сказала расстроенной маме тетя
Зита. — Очень хочу! Но мы в этот автобус еле сели. А вдруг следующий тоже забит
и шофер с вещами не захочет брать? Этот же сказал: «Много багажа, не возьму».
Сколько уговаривала я его, помнишь?»
Мама с ненавистью посмотрела на автобус, где лежали вещи, но ничего не
сказала.
«...Пантов — 7490 кг», — все смотрела я на доску с планом. Это сколько
же штук рогов нужно?
Старичок сказал, когда мы проезжали мимо высоких розовых дощатых ворот:
— Здесь мараловодческий совхоз. Панты срезают с маралов. Знаешь?
— Нет, — призналась я.
— Молодые рога весной режут. «Панты» называются. Он, рог этот, целебной
кровью наполнен. Чтоб кровью рог не истек, его сразу в бочку с горячей водой
опускают.
До этого я очень испугалась и, чтобы не слушать про кровь, сказала:
— Как красиво выкрашен забор. Розовый!
— Петр! Слышь, Петр! Во́ мне
соседка попалась: то иманов за лебедей приняла, а теперь доски крашены,
говорит. Не знает, видишь, что доски из лиственницы такого цвета.
Петр опять заулыбался и что-то сказал соседке. Та — женщине впереди. На
меня оборачивались и улыбались.
Иманы — это козы. Летом они пасутся в горах, а на зиму пастухи как-то их
собирают с гор и, полуодичавших, пригоняют хозяйкам. Зимой их вычесывают,
собирают пух. Все это потом, когда в автобусе вдоволь надо мной посмеялись, мне
объяснил старичок. И еще сказал:
— Это ничего, что смеются. Ты не обижайся. Трясет так, пыльно —
посмеяться хорошо. Спеть бы, да вместо слов кваканье получится. Но! Так и
подумала на иманов, что птички сидят? Правда?
А я действительно подумала, что высоко на скале сидят три белые птицы,
белые, как лебеди. Летели, устали, наверное, и сели передохнуть.
Автобус остановился, как назло, у голой горы. Шофер что-то поправлял в
моторе, и некоторые пассажиры вышли.
— К обрыву не подходи, — испуганно предупредила меня мама.
Я бы и сама не пошла. Из автобуса я насмотрелась в пропасть, где далеко-далеко
внизу блестела река Катунь. Смотрела, пока не поняла, что автобус идет по краю
обрыва: шофер может заснуть или не удержать руль — и тогда... И тогда я стала
смотреть в сторону, где сидит невидный за пылью шофер, и мысленно просить его:
«Миленький, ты держи покрепче руль и только не засни!» Я просила более горячо и
искренне, чем до этого: «Ну что тебе стоит сломаться ненадолго возле этого
холма в цветах, как огоньки».
Мы выходили из автобуса, обходили его осторожно, прижимаясь спиной к
грязному боку, шли к скале. Мрачная, серая скала закрывала солнце, а
высоко-высоко на приступочке сидели три птицы.
— Лебеди! — закричала я. — Мама!
Эхо повторило несколько раз: «Лебеди! Мама!»
Я, конечно, не ожидала, что у меня так громко получится, и мне стало
неловко: заорала как дура, как маленькая.
Шофер починил машину быстро. Прежде чем войти в автобус, я опять
посмотрела на вершину скалы, на три белоснежные точки, и, не выдержав, словно
по чьему-то приказу, сделала шаг к обрыву и посмотрела на далекую полосу
Катуни. Кто-то рванул меня за плечо:
— Ну, девка, ты что это. Ишь побелела. Разве можно сначала вверх, потом
вниз смотреть. Голова закружится. Долго ли? Тут и куска не найдешь от тебя.
— Маме не говорите, — попросила я.
— Зачем же? Не скажу.
Все долго ехали молча, и только потом, нескоро, когда старичок снова спросил
у меня: «Так птичек, говоришь, видела? Иманы это...» — надо мной стали
смеяться. Первым засмеялся остановивший меня у обрыва Петр.
Я так обрадовалась, что можно смеяться.
«Кира, у тебя какой-то истерический смех. Перестань», — останавливала
меня мама.
Потом я думала, почему они не смеялись надо мной там, когда я крикнула:
«Лебеди!». Кажется, поняла. Из-за скал, обрыва в бездну, неизвестности: надолго
ли сломался автобус, не выскочит ли из-за скалы встречная машина — ее маленький
толчок может всех отправить вниз, «куска не найдешь». Вспомнила я рассказ бабы
Ани о первой жене сына, как она останавливала автобус в горах.
— ...Слушай, — толкнула меня бабка, — тебе солнцем голову не напекло?
Стоишь, в одну точку смотришь.
— Нет, думаю. Это сколько же у одного марала рога весят, если тут:
пантов семь тысяч четыреста девяносто килограммов?
— Чудная! Ты что, читать не умеешь? Внизу же есть.
Верно, дальше было написано: «1 марал — сырых пантов — 76 кг».
— Это, если бы сейчас панты среза́ли, — спросила я у бабки, — вы бы моей маме резчиком быть посоветовали?
— Чудная! Туда чужих не пустят. Вон они, на доске Почета! Их в лицо все
знают. Тут работа тонкая. Нож на чуть-чуть не так повернешь — марал кровью
изойдет. Им перед работой в магазине без очереди любой продукт, дома стараются
не обидеть, по делам тоже не ругают, на после откладывают. Это чтоб не обидеть,
чтоб спокойный был человек. У него если рука дрогнет, сама понимаешь, марала
поранит. Рог не так срежет — кровь фонтаном забьет. Останавливать трудно. А хорошо
сделает — минутка — и он чистенький без рогов из станка выскочит.
— А вот...
— Ты знаешь, я тут чего с тобой торчу...
Бабка вдруг засмущалась, стала крутить пуговицу на пиджаке.
— Ну, за помощь твои меня не обидят, а вот, знаешь, от любопытства
помру... Что вы в этом мешке везете? Вроде кости большие. Сначала думала —
палки. Потом думаю: не дураки же люди сюда дерево везти? Чего-чего, а дерева в
тайге хватит. От нас и ложки сувенирные возят, и веретена. В том мешке
стеклянные банки, твоя тетка предупредила: мол, хоть укутаны, но осторожней. А
тут что? Скажи...
— Не знаю. Это вещи тети Зиты. Мне кажется, деревянные вещи какие-то.
— Ну, может быть... Городских трудно понять бывает. Могут и скалки с
собой везти... А чего ты про доску спросить хотела?
Конечно, я теперь думала о рюкзаке с деревяшками или костями и на доску
не смотрела, пытаясь вспомнить, что хотела спросить. Так... один марал, один
олень... Вот!
— «Получить и сохранить от каждой матки: телят — 80, ягнят — 80, жеребят
— 65, маралят — 50, оленят — 45», — прочитала я вслух. — Это у вас корова по
восемьдесят телят рожает? Вот у нас только по одному, ну, иногда, я слышала,
два теленочка родит. А у вас?..
Бабка сидела на крыльце и хрипела, уткнув лицо в колени, ничего мне не
отвечая.
Наконец вышли из райисполкома мама и тетя Зита с довольными лицами.
— Тетя Зита, у вас в этом мешке кости? — спросила я.
— Что за глупости? Там вещи, необходимые каждой женщине, — ответила тетя
Зита. — Машина сломалась, но теперь вроде в порядке. Идет.
— Представляешь, все оказалось проще, — радостно объявила мне мама. —
Мне надо было сразу туда пойти, мы давно бы уехали...
— Пригодился мой совет? — спросила бабка, вытирая слезы.
— Очень! Если бы не вы... Я так не люблю ходить по организациям.
Мама достала из сумочки бумажку, но бабка махнула рукой:
— Девка говорит: тутока корова по восемьдесят телят телит за раз.
— Я в магазин зайду, — сказала тетя Зита.
— В пастухи нанялась? — спросила я у мамы.
— Нет, все хорошо. Если бы не она, — посмотрела мама вслед уходящей
бабке, — я бы просить не пошла, а там есть комната и по вопросам образования.
Меня туда потом отвели. А так мы с Зитой пришли в комнату по сельскому
хозяйству к главному и говорим, что мы пастухи и овец стричь умеем. Он говорит:
«Не до шуток мне, посидите». Мы в коридоре сидели, сидели. Только слышим: он
все по телефону звонит, ищет машину. Наверное, эту, что ты говорила, потому что
про ветврача все беспокоился: привезти надо к коровам. Потом мы поняли, что к
коровам уже поздно, но врача все равно надо к овцам. Это тоже в нашу сторону, к
Верхнему Уймону.
«В Москве к одному поросенку сразу прислали, а тут сорок коров остались
без врача», — подумала я.
— Потом этот главный по сельскому хозяйству вышел и говорит: «Зачем вы
меня обманываете? Если помочь в стрижке овец хотите, спасибо, конечно, я вас
учетчиками по шерсти поставлю: взвешивать и отмечать будете... Только не могу
понять цели: зачем обманываете? Если бы назвались библиотекарями, учителями или
там бухгалтерами, я бы больше поверил». Пришлось сознаться, что я преподаватель,
что просто выехать не можем. Ну, а дальше на машину эту нас возьмут. Только
одно очень плохо: пока будем жить у какой-то женщины, Татьяны Фадеевны.
Учительница в другой район скоро переедет, и нам освободят дом. Я так
рассчитывала, что сразу в свой дом въедем. В Ленинграде еще виделось: окошки
помою, вместо кактусов герань поставлю.
— А мне нравятся кактусы, — сказала я.
— Пожалуйста, в своей комнате хоть верблюжьи колючки сажай. А чем ты
бабку так насмешила?
Я показала маме на доску показателей:
— Внизу читай... от каждой матки телят — восемьдесят.
— Чего же тут не понять? Коров, допустим, в стаде триста голов, а маток
восемьдесят, от них надо сохранить восемьдесят телят. А остальные коровы или
молодые, или уже старые.
Наконец-то мы выехали из Усть-Коксы и летим по дороге к нашему поселку. Рядом
с шофером, впереди, сидит важная, как я поняла, «шишка» из райисполкома. Мы
сидим позади, на боковых скамейках «газика». Перед нами огромная гора вещей.
Важный человек нас просто не замечает, будто нас нет в машине. Я сижу за его
спиной, и, когда подкидывает машину, не решаюсь схватиться за ручку на спинке
его сиденья, а хватаюсь за брезентовые ремни под крышей «газика».
— Заверни! — приказал он шоферу.
Шофер дал задний ход и свернул по указателю: «Аэропорт». На поле не было
ни одного самолета. Но прямо на взлетной полосе лежали три коровы, рядом
паслись лошадь и козел.
— Скажи, чтобы это безобразие убрали, — приказал он шоферу.
Шофер постучал в дверь здания. Дверь приоткрылась. Шофер говорил тихо.
Ему отвечал мужчина громким, сварливым голосом: «Колька, ты подрасти еще,
сопляк. Нашел кому замечание делать. Самолет только завтра днем будет. Пусть
жрут. Скосить надо, говоришь? Ах ты указчик!»
Сначала появились две руки, схватили шофера за рубашку на груди и сразу
отпустили. Из двери вышел дядька, хромая подбежал к машине и охотно, словно
только и мечтал исполнить приказание, доложил:
— Я мигом, Александр Васильевич. Правильно, нечего скотине в официальном
месте быть. Могут и полосу об-п-пачкать.
Возле каждого поселка Александр Васильевич говорил: «Сюда заверни».
Он выходил ненадолго, заходил в здания и скоро выходил оттуда в
сопровождении двух или трех человек. Что-то говорил им, показывал в сторону
рукой, видимо, на какой-нибудь объект, и, ни разу не улыбнувшись никому, опять
садился в машину. Нас он не замечал совсем, будто мы были неживые, как наши
мешки. Мне от этого было обидно. Я старалась внушить себе, что просто он занят,
ему не до нас. А может, он правда не видит нас, занятый своими мыслями? И я стала
кашлять громко, так, что не услышать меня было просто невозможно. Александр
Васильевич, не оборачиваясь, покрутил на дверце ручку и закрыл окно. В машине
сразу стало очень душно. Было и без того жарко, а Александр Васильевич сказал
шоферу:
— Коля! Закрой окно!
— У меня вынута рама, — ответил шофер.
— Вставь.
Он не сказал, как обычно говорят: «Девочка кашляет, может заболеть».
Тогда бы я извинилась, сказала бы: «Это я так, в горло что-то попало. Не надо
закрывать окна». Но он сказал только: «Вставь!», будто это для него надо
закрыть окна. И я не решилась сказать: «Не надо», боясь, что он не услышит моих
слов, не захочет услышать. Мама и тетя Зита тоже молчали, — наверное, боялись
его так же, как я. В машине было уже невозможно жарко и душно. Пот тек по лицу
и между лопатками. Лица мамы и тети Зиты сильно заблестели. Александр
Васильевич положил под воротник рубашки платок. Мне стало жутко стыдно за свою
глупость. Из-за меня сколько людей задыхаются! А он совсем пожилой человек. И
тетя Зита больна...
Мы уже выехали из поселка и набрали скорость. Проехали мимо двух мужчин,
идущих вдоль дороги с тяжелыми сумками.
— Ну-ка притормози, — приказал Александр Васильевич.
Он приоткрыл дверь, посмотрел на мужчин и, вдохнув громко, полной грудью
свежий воздух, сказал:
— Давай назад, к магазину.
Он вошел в магазин совсем ненадолго, почти сразу вышел. Уже подошел к
машине, когда выскочила продавщица. Подбежав к Александру Васильевичу, она
визгливо закричала:
— Не губите! У меня дети. В последний раз прошу. Они на вечер, сказали,
вино берут. В рабочее время обещали не пить.
— Я вас предупреждал. Не унижайтесь. Передайте магазин Ульяне
Степановне. Овцы нестриженые в загоне, голодные стоят, а вы людей спаиваете.
Стыдно!
Продавщица плакала, но он сел в машину, и мы опять поехали.
На краю поселка мальчишка тащил на брезенте через дорогу здоровую
железяку, наверное, деталь.
— Останови, я выйду, — сказал Александр Васильевич строго.
Мне стало очень жаль мальчика. Наверное, как и мне, ему было лет четырнадцать
или чуть меньше. Он был босиком, в грязной рубашке, и лицо, и руки тоже были
грязные.
— А ну, стой! — властно крикнул Александр Васильевич и так стоявшему
мальчику.
Он подходил к мальчику медленно и сказал жестко, будто ударил:
— Так!
Мама переглянулась с тетей Зитой, а шофер противно засмеялся. Только что
женщина плакала, — хотя мне до этого было не очень жаль ее, скорее противно,
что она виновата и так унижается, — а теперь он напал на ребенка. Я быстро
решила сказать маме: «Доберемся как-нибудь! Не хочу я ехать на этой машине. Или
я одна уйду!».
Александр Васильевич забрал из рук мальчишки конец брезента, потянул.
«Наверное, мальчик взял без спроса нужную деталь и теперь ему придется худо.
Видимо, этот человек не умеет никого жалеть». Мальчишка, к моему удивлению, не
плакал, а, наоборот, улыбался, прямо рот до ушей.
— Ну, Толька! — заорал Александр Васильевич, а потом попросил умоляющим
голосом: — Ну вот очень тебя прошу, не таскай тяжести. Нужно — лошадь возьми!
— Последнюю деталь заменю, — ответил мальчишка. — Скажете тоже, лошадь.
Пока найду ее, обратать надо, привести...
— Я ведь, брат, не понимаю в механике, — сказал виновато Александр
Васильевич. — Неужели машину починишь? Она ведь самой никудышной, из списанных
была?
— Уже починил. Мария Густавовна на днях смотрела. Деталь мне от нее
привезли, заменю сейчас, эта поновее, надежней.
— На днях она выступала для
молодых шоферов по радио. Слышал? — как с равным говорил с мальчиком Александр
Васильевич.
— Не-а!
— Куда тебе ее подбросить?
— А тутока, к тетке Ульяне, тамока и машина стоит. У ней двор большой.
— Тутока, ты мой милый! Потащим! — с нежностью сказал Александр
Васильевич мальчику, и они вдвоем взялись за брезент.
— Александр Васильевич! — сказал шофер.
— Я с Толей пойду, ты езжай сзади, тут рядом.
Мы медленно ехали сзади их. Я откровенно завидовала мальчику. Вспомнила
Сережу, пыталась представить его на месте мальчика Толи. Во-первых, Сережа не
разрешил бы никому даже дружески накричать на себя, во-вторых, я не представляю
его чумазым. Интересно: уважал бы Александр Васильевич Сережу или, как меня,
просто не замечал бы? Наверное, надо уметь что-то хорошо делать, чтобы
заслужить его внимание. Конечно, и Сережу, и Галю Рассказову он бы уважал.
Увидел бы, как они чинят телевизор... а я ничего не умею.
Я представила себе, что увижу сейчас новую, черную «Волгу», в которую
нужно вложить только одну деталь с брезента. Раньше эта машина, покореженная,
старая, облупленная, уже давно списанная, валялась в канаве. Но ею занялся
Толя, и вот сейчас в нее он вложит деталь и новая машина, сделанная уже Толей,
помчится по дороге. Вот тут я представляла почему-то Сережу. Не чумазого Толю
рядом с чистой «Волгой», а опрятного, подтянутого Сережу. Я смотрела в
брезентовую щелочку «газика», пытаясь увидеть красивую машину, краем глаза видела,
как мама с тетей Зитой молча укладывают сползшие со своих мест от тряски
рюкзаки. Вместо красивой машины на чистых розовых бревнах стоял огрызок от
грузовика: кабины и кузова не было, без колес, вместо сиденья ящик, капота тоже
не было. Были только соединенные между собой пыльные детали. Должно быть, это
мотор, а из него торчал руль.
Наверное, этот Толя его родственник. Приласкал мальчишку, а я сразу:
уважает! У нас во дворе мальчик сядет на скамейку верхом, в руках держит колесо
и крутит его, будто руль машины или корабля, и еще кричит на весь двор:
«Р-р-р!» Кто-нибудь из взрослых подойдет. «Молодец! — скажет. — Ты кто,
капитан?» — «Летчик!» — ответит мальчик. Когда маленький так играет, понятно, а
тут большой мальчик, а я еще сравнивала его с Сережей. Дура! Толя сел на ящик,
поискал чего-то руками. Александр Васильевич и шофер стояли за его игрушкой, и
я видела их ожидающие лица. Стояли они долго, а Толя все искал чего-то.
— Ну ладно, Толя, ты не расстраивайся, нам пора. — Александр Васильевич подошел к нему и протянул руку.
Толя стоял, опустив голову, не замечая руки, и одной босой ногой тер
другую.
Мне стало жаль его. Зачем, дурачок, врал? Мне больше и больше нравился
Александр Васильевич. Другой бы сказал: «Зачем врешь!» или: «Я занят, а ты...»
Мы уже отъехали чуточку, когда Толя заорал:
— Стойте!
Александр Васильевич взглянул на часы, потом открыл дверь и вышел.
— Я нашел! Ключ в карман спрятал, а тамока ищу.
Наш шофер тоже вышел, и я стала смотреть в щелочку. Толя снова сел на
ящик, чего-то повернул, нажал — и его игрушка ожила, заработала, как настоящая
машина. Александр Васильевич махнул рукой, и Толя выключил мотор.
— Вот что, — сказал Александр Васильевич шоферу, — ты скажи в гараже,
чтобы перевезли мотор срочно и чтобы все новое поставили: и кузов, и капот, и
прочее. С колесами у вас как?
— Туго, — ответил шофер.
— Вот на этой машине чтобы все новое было! Толя, ты как домой
добираешься? Хочешь с нами, я потеснюсь...
Мне опять стало очень неприятно.
— Мама, я тебя прошу, давай выйдем! Лишние мы! Давай!.. — взмолилась я.
— Не, я с мамкой поеду, — видимо поколебавшись, ответил Толя. — Мамка с
пасеки на телеге поедет вечером. Серко перековать надо. Игнат обещал сегодня
перековать.
— Может, у механиков поработаешь? — спросил Александр Васильевич. — Там
и заработки хорошие.
— Не-а, пчелы роятся, а отец, сами знаете, до осени с табуном ушел. Сено
косить надо еще.
— Ну, дело хозяйское.
Александр Васильевич пожал Толе руку и сказал шоферу:
— Поехали!
Мы подъезжали к длинному сараю. Еще издали слышно было громкое блеяние
множества овец.
— Я здесь сойду, — сказал Александр Васильевич шоферу, — а ты гостей
свези, врача захватишь — и назад.
Мама вдруг просто побледнела и сказала сухо:
— Во-первых, я не гость, а еду к вам работать. А если бы даже в гости?
Что же тут плохого? Нельзя же так к людям относиться.
— Вы из Москвы? — спросил Александр Васильевич.
— Из Ленинграда.
— Чем же вам город не угодил, что сюда устремились?
— Я, может, не хочу в городе жить, хочу в деревне. Может такое быть?
У мамы лицо из бледного стало красным.
— Быть такое может, только под Ленинградом тоже работники в деревне
нужны...
От неприятного разговора, от жалобного блеяния тысяч овец я заплакала.
Пыталась сдержаться, но от этого плакала все сильнее и сильнее.
— А если в гости бы ехали? — спросила тетя Зита. — Вы не ответили: что в
этом плохого?
— Не вовремя! Понимаете? Гости хороши вовремя, в праздник, а вот видите,
сколько овец пригнали, и еще, и еще пригонят. Пока овец не остригут, они стоят
в загонах голодные. Ждут своей очереди. И только стриженых их гонят на
пастбище. Когда хозяева вас развлекать будут? А? Что я вам говорю! Вот
продавщица отвлекла людей от работы одним путем — вы будете забирать время,
требуя внимания к себе, другим путем. А ты, девочка, не плачь, к тебе это не
относится. Тебя привезли сюда, а захотят — так же увезут. Погуляешь...
— Я не уеду. Что вы меня за куклу принимаете?
— Иди-ка умойся. Там, в амбаре, вода есть. «Не уеду»...
Я вошла в амбар. После яркого солнца здесь казалось темно. У двери рядом
с весами лежала гора серой шерсти. Женщина в синем халате и резиновом фартуке
брала, сколько могла обхватить, из кучи шерсть и укладывала ее на площадку
весов. Она уронила большой клочок шерсти, а я подняла его. Шерсть была тяжелой
и липкой. Даже не верилось, что, если ее вымыть, расчесать, она станет белой и
пушистой.
Стрекот машинок был еле слышен из-за блеяния овец. Я не сразу
разглядела, что в амбаре много людей. Они почти неподвижно стояли у столов,
зато овцы, стриженые и нестриженые, толкали друг друга, стараясь выбраться на
волю. Между стенкой амбара и овцами — узкие высокие столы по грудь людям, чтобы
не нагибаться при стрижке, как я поняла. Перед каждым человеком лежала овца со
связанными ногами, и ее стригли электрической машинкой. На столах бутылки с
йодом. Ближняя от меня овца на столе дернулась, женщина схватила бутыль,
помазала рану йодом и стала стричь дальше. Кончив стрижку, женщина развязала
овце ноги и столкнула ее вниз. Навалившись грудью на стол, прямо за шерсть
схватила нестриженую овцу, с трудом подняла ее, связала ноги. У одной, уже
стриженной и отпущенной, овцы на шее была глубокая длинная рана. Я подошла к
женщине, которая взвешивала шерсть, спросила:
— Где здесь можно умыться?
— Вон тамока, — кивнула она в сторону бочек.
— Знаете, там у овцы рана глубокая, — сказала я.
Женщина пошла, подняла в загоне вверх дверцу и стала искать раненую
овцу.
— Стриженая? — крикнула мне женщина. — Где рана?
— Да! Рана на шее! — ответила я.
— А ты чего стоишь, помоги! — опять крикнула мне женщина.
Овцы то шарахались от нас, то толкались, больно наступая копытцами на
ноги. Казалось, они не ходят, а перетекают с места на место как волны. Женщина
отловила овцу с раной и, держа ее за кожу у шеи и хвоста, подтащила к столу,
подняла, взвалила и сказала мне:
— Придержи, я перелезу. Да ты что, приезжая? Овцы удержать не можешь!
И она перелезла через стол, стянула овцу вниз и повела за собой. Я
перелезла следом, довольная, что хоть чем-то смогла помочь, сказав про рану.
Женщина довела овцу к весам, опять сказала мне:
— Держи! — Быстро скрутила из шерсти веревку, завалив овцу, связала ей
ноги.
— Кира! — крикнула из дверей мама. — Ты с ума сошла, машина ждет!
— Вы лечить ее будете? — успела я спросить у женщины.
Женщина улыбнулась устало:
— Ну, скажешь! Что я, врач? Какое лечить! Спасибо, что сказала: так бы
пала и все, а так успеем на мясо. Ты хоть и приезжая, но молодец.
— Вам сегодня ветеринарного врача привезут. Он вылечит! Не режьте ее! —
попросила я. — Сейчас машина за ним пойдет.
— Чудная, до нас врач уже четыре дня не может доехать, его просто на
части рвут: и к маралам, и к лошадям. Когда спит человек, непонятно.
«И зачем я только указала на овцу с раной. Так бы, наверное, выжила, а
теперь...» — мучилась я.
— У вас аптечка есть? — спросила я. «Только бы была. Ну скажи, что есть,
или придумай, где достать», — молила я про себя женщину.
— Тамока в углу ящик. Неужели умеешь по медицинской части? Наверное,
мама или отец доктор. Я вот трактор водить могу, а палец перевязать толком не
сумею.
Я вынула из аптечки перекись водорода, йод, лейкопластырь, бинт и клей
БФ-2. Только ножниц не было.
— Жаль, — сказала я, — ножниц нет.
— На, — сказала женщина и полезла в карман халата.
Она смотрела на меня недоверчиво. И я сказала, боясь, что женщина не
разрешит помочь овце:
— У нас в школе лекции врач читала. Как оказать первую помощь при
травмах, порезах, еще как делать искусственное дыхание...
— А ты ничего не перепутала, девочка? Вот я знаю, что перекисью женщины
волосы красят, а клей так совсем чудно, что ты достала.
Я смочила вату перекисью, промыла рану. Овца даже не дернулась.
— Я не знала, что волосы этим красят. Вот если из носа кровь идет, то
бабушка мне тампон, намоченный перекисью, вкладывает и кровь останавливается, —
объяснила я женщине.
Я смазала края раны йодом, покапала на поврежденную ткань клей.
— Клей-то зачем? — опять встревожилась женщина.
Мама просто влетела в дверь.
— Ты издеваешься над нами, что ли? Шофер уже вещи выносит из машины.
— Я ему дам сейчас вещи выносить. Девочка делом занята. Врача они
привезти не могут, а вещи выкидывать так могут. Ты делай, делай. Не выкинут. Я
сейчас ему скажу. Только вот, гражданочка, — спросила она у мамы, — клеем разве
можно мазать?
— Это медицинский клей, вроде повязки будет, а рана заживет — и он
вместе со струпиком отвалится, — сказала мама. — Попросите шофера подождать.
Женщина вернулась, когда я по всем правилам наложила повязку.
— Ну ты и молодец! Просто спасибо, — с уважением сказала мне женщина. —
Баранчик был бы — так куда ни шло, а овечку жалко, ягняток народит. Меня Ольга
Дмитриевна звать. А вы к кому? Гостить?
Мама ответила, куда и зачем мы приехали.
— Только с жильем туго, придется у чужих людей жить. Если бы знала, то
позднее бы приехали, когда прежняя учительница дом освободит.
— Сразу так обещать боюсь, — сказала Ольга Дмитриевна, — но постараюсь
что-нибудь придумать на днях. Меня люди депутатом выбрали, приходится и
жилищные вопросы решать. Девочка у вас хорошая, руки просто золотые. Вы
разрешите ей, пока стрижка, ранки, порезы обрабатывать. Стригут все, кто умеет
и не умеет, — бывает, и щипнут машинкой.
К машине я подходила гордая от похвалы и только жалела, что Ольгу
Дмитриевну не слышал Александр Васильевич.
— Граждане, — сказал шофер, — имейте совесть.
Мы уже сели в машину, когда мама сказала тете Зите:
— Кирка-то как профессионал: так обработала шею овце — залюбуешься.
Смотришь, может, врачом станет или медсестрой. Депутат ее даже похвалила. Я в
Ленинграде и не подозревала за Кирой таких способностей.
— Зато меня из-за вас она не похвалила, — сказал недовольный шофер. — Я
в детстве и врачом хотел быть, и наездником, даже поваром, а стал шофером.
— Нет, — вздохнула мама. — Кира никогда, к сожалению, не изъявляла
желания быть кем-нибудь.
Я ничего не сказала, но действительно впервые захотела кем-то быть —
ветеринарным врачом!
Наш поселок был обнесен жердями. Чтобы въехать на машине, жерди нужно
было снять со столбов. С виду жерди были толстые, длинные и, наверное, очень
тяжелые. Шофер остановился, не въезжая в поселок, и сказал:
— Все! Приехали.
— Довезите, пожалуйста, до места, мы заплатим, — попросила тетя Зита.
— Я не такси. А что спешу очень, сами знаете, и не жравши с утра. Второй
дом ваш. Хозяйку Татьяна Фадеевна звать, ее очередь приезжих держать.
Шофер отогнул сзади «газика» брезент и стал выносить наши пожитки на
край дороги.
— Пожалуйста, — стала просить мама. — Мне одной придется все нести, а
расстояние до дома порядочное.
— Не могу! — ответил шофер. — У меня на это полчаса уйдет, как раз до
врача за это время доеду.
И он взялся за гремящий внутри деревяшками загадочный рюкзак.
— Да на машине две минуты займет, не больше! — просила мама.
Шофер уже опустил брезент и застегивал ремешки, но ответил:
— Жерди снять. Въехать. Жерди поставить на место. Отъехать. Сгрузить.
Вернуться. Жерди снять. Выехать. Жерди поставить на место.
— А не проще: снять, въехать и, уже выехав, закрыть? — шутливым, скорее
заискивающим голосом предложила тетя Зита.
— Нет, — ответил шофер, садясь в машину. — Вон бандиты ждут только, как
бы из поселка смыться. Будто в бинокль глядят.
Далеко от нас, по ту сторону изгороди, пасся небольшой табунок рыжих
лошадей и все, как один, подняв головы, смотрели в нашу сторону.
Шофер отъехал назад, развернулся, но мама бросилась к машине, крича:
— Эй, Коля! А как нам завтра на работу ехать? На чем?
— Со всеми. Как все, так и вы.
И, не кивнув нам даже на прощание, уехал.
— Мы стричь будем? — спросила я.
— Я предложила свои и Зитины услуги в стрижке Александру Васильевичу.
Покажут. Что мы, без рук? Мне до сентября делать нечего. А ты...
— Кто тебя за язык тянул? Хоть бы меня спросила, — рассердилась тетя
Зита.
— Давайте помолчим, — сказала мама.
Мы смотрели на поселок, облокотившись на жердь. Светло-желтая дорога, по
бокам нежно-зеленая травка, и много-много белых бабочек. Где тонкой полоской,
где лужками трава, будто рамкой, украшала дорогу. По правую сторону, вдоль
дороги, стояли дома, обнесенные изгородями. Не видно ни одного человека, только
далеко, в конце поселка, строили высокое деревянное здание и по розовой крыше
два человека несли розовую доску из лиственницы.
Если бы не новые розовые строения, поселок был бы совсем мрачным.
— Нравится? — спросила у меня мама, нарушив молчание.
— Не знаю. Как видно здесь далеко! Только поселки здесь все неуютные
какие-то.
— Горный воздух самый чистый, поэтому видно хорошо, — сказала тетя
Зита.
— Кира, а ты мне идею подала. Я все мучилась: как, думаю, с ребятами
сойдусь, не зная никого? А первый урок так и начну: попрошу всех в классе у
своего дома посадить дерево. Деревьев нет, поэтому поселок кажется мрачным.
Действительно, в поселке не было ни одного деревца. Я уже не говорю про
большие деревья — березу или тополь, а даже не было просто яблонь, что обычно
растут у нас на каждом приусадебном участке.
— Мам, и яблонь нет. Странно.
— Я знала, что яблок не будет, — успокоила тетя Зита. — Взяла целый
мешок сушеных.
Но мама объяснила:
— Обычные яблони здесь не растут. Зимой мерзнут. Я читала. Но это не
проблема. Здесь приживаются яблони со стелющимися по земле ветками. При школе
посадим, а потом по дворам раздадим. Будут и яблони. Ой, девочки, а мне здесь
нравится. Только бы дом наш скорее освободился, неудобно у чужих жить.
Мама подтащила мешок, не разрешив мне помочь, к изгороди, неловко
перелезла через жерди. А мы с тетей Зитой подали ей мешок. Мне было очень жаль
маму, и я сердилась на тетю Зиту не за то, что она не может помочь, а за то,
что едет всего на месяц и взяла столько барахла.
— Может, перенесем вдвоем поближе? — попросила я тетю Зиту.
— Давай! Сейчас пару жердей скинем, чтобы хоть через них не поднимать.
Мы еле-еле сняли две верхние жердины, помогли надеть вернувшейся маме
рюкзак.
— А дома нет никого. Я у калитки складываю. Напротив дома речушка тихая.
Отсюда не видно, — сказала, уходя, мама.
Мы быстро вдвоем перенесли вещи за изгородь и хотели положить назад
жерди, но лошади уже подходили к нам. Мы даже не заметили, как они подошли, не
вплотную, но близко.
— Ты не пускай, а я попробую жердь положить.
— Кыш отсюда! — крикнула я передней лошади.
Она послушно повернулась, будто уходит, подбросила вверх зад и лягнула
воздух. Потом посмотрела на меня через спину, мол: ну как? Что скажешь еще?
Я люблю животных, особенно лошадей, но эта была очень наглой. Я не знала,
что делать: тете Зите было не поднять одной жердь. У нее даже губы посинели.
— Давайте отгонять пока. Может, руки раскинем? — предложила я. — Мама
поможет сейчас тоже.
Одна лошадь подошла к вещам, сразу впилась зубами в один из мешков и,
придерживая его копытом, как собака лапой, порвала, видимо, непрочную ткань и
стала есть сушеные яблоки.
Тетя Зита стянула с головы берет, стала шлепать по наклоненной к мешку
шее. Та лошадь, что лягалась, теперь, прижав уши, стояла между мной и тетей
Зитой. Наверное, ждала, кто ее первой тронет, чтобы на нас наброситься. Вдруг
заржав, легко перепрыгнула низкую загородку и, проскакав совсем немного,
остановилась, стала громко ржать, высоко подняв голову. Тогда лошади одна за
другой стали прыгать через загородку, нисколько не боясь меня. Эта тоже бросила
есть высыпанные на траву яблоки и перепрыгнула. Из семи рыжих лошадей
оставалась только одна, наверное, самая пугливая: она ржала, но, подбежав к
нам, сразу пугалась и отбегала. Когда сзади нее появилась мама, лошадь так
решительно поскакала в нашу сторону, что мы отскочили, уступив ей дорогу. Та
наглая лошадь обежала табунок, словно посчитала, все ли на месте, и, поскакав
от поселка, повела табунок за собой. Сначала топот их копыт звучал нескладно,
вразнобой, но скоро слился в один ритм, будто скакал один гигантский конь.
Мы положили жерди на место. Молча собрали в кучу разбросанные по траве
яблоки, сели возле них и стали есть.
— После лошадей есть не противно, — сказала тетя Зита, — они самые
чистоплотные. Вот если бы свинья покушала, тогда бы...
А мы и не брезговали, жевали и жевали сухие яблоки.
— Как нехорошо вышло, — сказала мама. — Не успели въехать, а уже...
Нехорошо.
— А что нам будет? — спросила я.
— Может, обойдется? — неуверенно сказала тетя Зита. — Погуляют, наедятся
и придут как миленькие домой. В конце концов, кто знает, что мы выпустили?
Я подумала, что не нарочно же мы. Что мы, виноваты, раз лошади такие
нахальные: их не пускаешь, а они совсем с людьми не считаются? И еще подумала:
выходит, прав оказался Александр Васильевич, когда не хотел замечать нас, а
потом намекнул, что от гостей вред один. Я представила, будто живу здесь уже
давно. Крыш не видно из-за деревьев. Многие из них посажены мной. «Вы знаете, —
говорит мне Александр Васильевич, — с тех пор как вы работаете здесь
ветеринаром, у нас не заболело ни одной коровы, и трава теперь не пропадает
вдоль дорог. Как хорошо вы подсказали, где надо пасти телят». Но сейчас, когда
мы выпустили лошадей, мне меньше всего хотелось встретиться с Александром
Васильевичем. Не знаю, сказал бы он что-нибудь маме и тете Зите, но меня он
просто бы не заметил. Какой может быть с куклы спрос: захотели — привезли,
захотят — увезут... Если бы Толя выпустил лошадей, его бы ругали, как
взрослого. Его уважают...
— Не расстраивайся ты так, — сказала тетя Зита. — Придут люди с работы —
я попрошу мужчин, чтобы поймали лошадей.
— Ты уверена, что они, усталые, пойдут искать? — спросила мама.
— Ну, что спрашивать, ты же знаешь... У меня в канистре спирт для
лекарств. Выделю на такой случай...
— С продавщицей забыла, что он сделал? — напомнила мама.
— Может, ты права, но у меня и получше есть. Знаешь, у них же масса
шкур: и овечьи, и жеребячьи. Про пушнину я и не говорю. А выделывают по
старинке. Кажется, квасят в молоке ивовые ветки. В общем, масса возни, а я
кислоты везу. Короче — химия! За день можно будет столько шкур выделать, что
они и за месяц не сделают. Видишь! А ты: «Зачем столько вещей? Лучше бы
самолетом». Хорошо, что я не послушала тебя, не выбросила ничего. Теперь
пригодится.
Получилось так, будто тетя Зита заранее знала, что мы выпустим лошадей,
и, чтобы ловить их, везла с собой нужное для выделки шкур.
И я спросила:
— Сначала, в Ленинграде, вы не знали ведь, что пригодится? А почему
везли?
— Глупенькая. Ты знаешь, как красиво — шубка из жеребенка или молодой
овечки? Я их научу кислотой пользоваться и отдам ее, — конечно, бесплатно, — а
они дадут нам за это шкур на шубы...
— Хватит! — сказала мама. — Я, Зита, не желаю в этом участвовать и тебе
не разрешу. Афера какая-то. Нам с Кирой жить здесь. Свекровь приедет, может,
осенью. Николай сюда переберется.
— Надо написать бабушке, — обрадовалась я.
Мама взяла очередной тяжелый рюкзак и, велев нам нести вдвоем мешок
полегче, сказала:
— Мы так долго сюда добирались, что наверняка от папы и бабушки письма
уже лежат на почте. Бабушка адрес наш знает, а папе я еще в Ленинграде перед
отъездом написала.
Мы принесли с тетей Зитой мешок к калитке.
— Давай внесем, калитка отперта, — предложила тетя Зита маме.
— Ну нет, без хозяев я не пойду, — сказала мама решительно и даже зло.
— Ты посмотри, на кого мы похожи. Надо хотя бы переодеться. Не на улице
ведь это делать? Даже собака на нас не лает.
Возле изгороди, со стороны улицы, стояла будка, из нее виднелась собачья
морда. «Вроде овчарка, только уши висят», — подумала я. Собака тяжело дышала.
— Миска без воды в такую жару, — сказала мама. — Вот и не лает.
Мама подняла длинный обрезок доски и стала им придвигать миску. Собака
выскочила из будки и в ужасе заметалась на короткой цепи. Пес был очень худой.
Тогда мама отбросила палку и взяла миску не боясь.
— Что ты, песик, сейчас водички тебе Кира принесет. Сходи, из речки
принеси, — велела мне мама.
— За калиткой колодец, смешно просто, ты уже перебарщиваешь, —
усмехнулась тетя Зита.
— Нас, может, за лошадей и на порог никто не пустит. Это лучше, чем мы
без спроса войдем и нас выгонят.
Я с радостью ушла: мне не нравилось, что мама и тетя Зита стали часто
спорить.
Речка оказалась мелкой, с чистой, совсем прозрачной водой. Стайка рыб
размером с нашу корюшку в испуге уплыла от берега. Свинья с прехорошенькими
поросятами настороженно смотрела на меня, встав из грязи. По берегу ходила
корова, сильно припадая на переднюю ногу. «Вот когда я буду врачом...» Но меня
от будущего отвлекла утка на берегу. Несколько уток на середине реки, видимо
испугавшись меня, уплывали по течению, а эта утка бежала за ними по берегу,
громко крякая, но в воду не входила. С виду совсем целая утка почему-то не
хотела или не умела плавать.
Я сняла тапочки, чтобы зачерпнуть воды, где поглубже, и чуть не упала:
таким неожиданно сильным было течение на совсем мелком месте.
Пес с жадностью пил воду, благодарно повиливая хвостом.
— Мам, почему утка не плавает? Другие плывут, а одна воды боится... —
спросила я.
— Не болтай глупости, все утки плавают, — раздраженно ответила мама.
Мне стало обидно, и я не сразу спросила:
— Где вещи?
Возле калитки лежали только наши вещи: большой желтый рюкзак и две
спортивные сумки.
— Зита под навес отнесла, — неохотно ответила мама.
Тетя Зита вдруг заплакала.
— Ну что в этом плохого? — сказала она сквозь слезы. — Что ты ко мне
придираешься? Зачем хозяев пугать количеством багажа?
— Прости, Зита, не обращай внимания. Я действительно как с цепи
сорвалась. Надо было бы мне сначала одной приехать, устроиться. А так дочку с
места сорвала, мужу написала, чтобы приезжал.
Мы шли по поселку, чтобы найти кого-нибудь из людей и спросить, где
почта, магазин, чтобы купить хотя бы молока. Мама виновато улыбалась,
поглядывая на тетю Зиту:
— Ты знаешь, больше всего на свете хочу увидеть дом, в котором нам жить,
и школу, в которой работать, а Кире — учиться. И очень хочу, чтобы Кире
понравилось.
В одном из дворов очень старая бабушка кормила кур. На кольях изгороди
кверху дном сушились банки.
— Бабушка! — крикнула мама. — Где здесь школа?
Бабка кинула еще горсть курам из мешочка и быстро пошла к дому.
— Бабушка! — опять крикнула мама. — Ответьте!
Только поднявшись по ступенькам крыльца, бабка обернулась к нам, держась
за ручку двери.
— Не продадите молочка? — спросила тетя Зита.
— Нет молока, лишнее телятам споила, — ответила бабка, вцепившись
взглядом в тети Зитины брюки.
— А где здесь школа? — опять спросила мама.
— Тамока, — махнула бабка рукой в сторону длинной зеленой крыши.
— А почта? — спросила я.
— Вот! — указала бабка пальцем.
— Магазин? — спросила тетя Зита.
Это уже походило на игру, но бабка скрылась за дверью, громко задвинув
внутри засов.
— Говорила я тебе, переодеться надо, — упрекнула тетя Зита маму. — Нас
люди боятся.
В маленькой комнате почты за барьером сидела девочка младше меня.
— Вы от строителей? — спросила она. — Как хорошо, а то ждать надоело.
— Нет, — сказала мама. — Мы приезжие...
— Переводы я не даю. Мама вечером придет. Она на стрижке, — испуганно
ответила девочка.
— Нам до востребования письма только. Если есть, конечно, — сказала
мама.
Девочка посмотрела на меня, и я тоже попросила:
— Пожалуйста!
— Тут лежат три письма, несколько дней уже. Мама хотела их назад
отправить. Ваши?
Девочка отдала нам письма.
Два из них были от бабушки: мне и маме. Третье письмо было мне от папы.
Я так удивилась, что папа адресовал мне. Обычно он передавал мне привет. Но
сначала я все же прочитала бабушкино письмо:
«Милая Кирочка, детка! Очень не хватает тебя. Читаю про Алтай, надеюсь
приехать к вам осенью. Как вы устроились?»
Дальше бабушка писала, что собирает «вкусную посылку». Спрашивала, что
прислать из книг. В конце писала: «Сережа уехал отдыхать с родителями на юг,
перед отъездом зашел и попросил твой адрес... Если тебе будет там плохо, ты
напиши мне и я за тобой приеду. Если, конечно, мама сочтет это правильным...»
Письмо от папы оказалось просто страшным:
«Привет, дитя. Ты чуть было не стала сиротой. Твой почтенный папаша две
недели отлежал в реанимации. Но чтобы ты не волновалась, уже близится выписка,
то есть к этому времени я буду уже достаточно здоров, чтобы приехать к вам. С
работой змеелова, видимо, придется прекратить, если не совсем, то на длительное
время.
А дело было следующим образом. Прогуливаясь вечером в окрестностях в
поисках ящериц, пауков и змей и будучи обут в сандалии, я имел неосторожность
поставить правую ногу в нескольких сантиметрах от кустика полыни...»
Дальше папа описывал, как его укусила эфа. У него выработан иммунитет на
укусы кобры и гюрзы, а эфа оказалась новым и вредным для папы ядом, так я
поняла и передала письмо маме.
Мама, прочитав письмо, вернулась на почту. Я пошла за ней.
— Я телеграмму составлю, — сказала мама девочке. — Ты отдай своей маме,
чтобы она передала.
— Я сама передам по телефону в Усть-Коксу, — ответила девочка.
«Вылетай на Горно-Алтайск через Барнаул, там на Усть-Коксу.
Телеграфируй. Встречу. Целую Кира, Тамара».
— Что ты пишешь? — спросила я у мамы. — Мы четыре дня не могли машину
достать. На чем мы встретим?
— Одна, без вещей я свободно доеду на попутках, — сказала мама так
уверенно, что я поверила: она встретит.
Дверь в дом, где нам предстояло временно жить, была открыта, но вещи так
и лежали у калитки. Тетя Зита заглянула под навес и сказала оттуда:
— Все цело, но я отсюда не уйду, Тамара, сама там договорись, а то, что
я ни сделаю, ты недовольна всем.
Мы с мамой подошли к крыльцу, но подниматься не стали. Из дверей будто
стреляли клубами пыли. Мы отступили назад, и скоро из проема двери, согнувшись
над веником, появился мальчик. Он быстро-быстро обмел площадку крыльца, посылая
пыль в воздух, и только тогда выпрямился.
Это был Толя. Тот самый, что сделал машину.
«А вдруг к нему Александр Васильевич приедет, а мы лошадей выпустили?» —
испугалась я.
— Мамки нет, — сказал Толя.
— Нас к вам из райисполкома направили, пока пожить, — как взрослому,
объяснила ему мама.
Толя, не отвечая, поискал за дверью рукой и вытащил ружье. Мы с мамой стали
медленно отступать. Но Толя смотрел на верхушку столба у дороги. На нем сидела
большая хищная птица — вроде ястреба, только больше размером — и протяжно
кричала: «аню, аню!»
Толя прицелился, а мама как закричит:
— Не смей!
Но Толя уже выстрелил.
Птица шарахнулась с верхушки столба, но не упала, а полетела. Наверное,
от маминого крика у Толи дрогнула рука и он промахнулся.
— Зачем же ты стреляешь? — напала на него мама, даже забыв, что Толя
здесь хозяин.
Толя ответил недовольно:
— Они цыплят таскают.
Согнул ружье и выкинул из него гильзу в огород.
— И много он у тебя цыплят потаскал?
— У нас пока нет, а тамока утенка сцапал.
— Хочешь, научу, чтобы в поселок ни одна из этих птиц не залетала? —
спросила мама.
— Но!
— Мы их к делу приспособим. Не помню, как эти птицы называются.
По-моему, судя по крику, канюк. Только не ястреб, я знаю. Поля сусликами здесь
кишат. Вдоль дорог как столбики они наставлены. Вот мы канюков и заставим
истреблять сусликов...
— Вы живы? — спросила, подходя, тетя Зита. — Слышу, Тамара говорит
бодро, а то не знала, куда бежать за помощью.
Толя спрятал ружье на старое место, хотел сесть на ступеньку, чтобы
слушать дальше, но мама сказала:
— Можно хоть в дом войти, Толя? Мы очень устали.
— Но! Идите, — не очень радушно, но без открытого недовольства, сказал
Толя. — А вон и мамка идет! — закричал вдруг он и так хорошо и никого не
стесняясь улыбнулся.
Потом он, оттолкнувшись, далеко, почти до калитки, отпрыгнул с крыльца.
Оказалось, что мы приехали некстати, в день рождения хозяйки. Нам троим
хотелось одного — попить чаю и лечь, но в доме была только одна комната, до
половины разгороженная печью.
— Может, мы в сарае постелим сенца и ляжем? — спросила мама Татьяну
Фадеевну.
— Сарая нет, а баньку мы вчера топили, в ней сыро еще. Да ничего. Ненадолго
бабушки придут, посидят, чайку выпьем и разойдемся к приходу коров. Всем доить
надо и вставать рано. В восемь коров опять на пастбище погонят, чтоб не в
темноте.
— Разве на ночь у вас не в хлеву корову держат? — спросила тетя Зита.
— Зачем? Травы полно. Ночи теплые.
У дома, газанув, остановилась машина.
— Может, папка? — крикнул Толя и, бросив лепить из теста фигурки,
выскочил из-за стола.
— Толька, руки об рубашку не вытирай! Все надеется, что отец приедет. Да
ему до октября не выбраться. Я уже привыкла. Осенью побудет месяц дома, а на
зиму опять к лошадям на тебеневку. Вы приезжие, я забыла. Зимой у нас лошади
сами пасутся. Ногами снег разрывают, оголяют старую траву. Вы учительницей к
нам? — спросила Татьяна Фадеевна тетю Зиту.
— Нет, я за травами приехала.
Татьяна Фадеевна спрашивала между делом, подкидывая в печь дрова,
раскладывая тесто на доске. Мама и тетя Зита тоже лепили крендельки. А я
боялась что-нибудь сделать не так и ничего не делала.
Толя крикнул в открытое окно:
— Мам, дрова привезли. Сбросили плохо, коровы не пройдут. Не успеть
одному, выдь-ка.
— Можно, я?
— Конечно, девочка. А... Кира, вот спасибо, а то не успеть мне до
бабушек.
Мы долго молча перекидывали розовые поленья с дороги к изгороди. Все
время скулила собака.
— Чего он худой у вас такой? — спросила я у Толи.
— Некогда им заниматься. Со скотиной не успеваем справляться. Кто-то
бросил его из туристов, а стрелять жалко. Я спускаю его на ночь. Он кормится
сусликами, если проворства хватает.
— Когда мы в своем доме жить будем, отдай его мне.
— Да бери хоть сейчас. Это твоя мама учительницей будет?
— Моя. А скоро папа приедет.
— А он кем будет?
— Не знаю. Он специалист по насекомым, змеям.
— А он паутов извести может?
— Пауков?
— Не-а. Так и называется: паут. Ну, по-вашему, оводы. Они лошадей так
изводят! Иногда лошадь даже в пропасть кидается от боли.
— Наверное, папа знает, как привлекать полезных насекомых и изводить
вредных.
Мы сидели за выдвинутым на середину столом. Татьяна Фадеевна и две
бабушки пили чай из блюдец, Толя макал булочки — каральки, как называла их
Татьяна Фадеевна, — в мед, громко облизывал пальцы, и никто не делал ему
замечания. Я понимала, что нехорошо облизывать пальцы, но без замечаний
чувствовала себя спокойней.
— Сынок! Завтра ты на пасеку поедешь. В двух ульях завелись
матки-трутовки.
— Угу!
— А мне можно? — спросила я.
— Угу, — ответил Толя.
— Ты потом, Толюшка, Кире родовой кедр покажи и про копытце расскажешь.
— А что за копытце? — спросила мама.
А я подумала: «Вот попить бы из какого-нибудь копытца, чтобы сразу стать
врачом».
— У нас примета: если в след от лошадиного копыта в горах посадить кедр,
то он обязательно приживется. А так трудное дерево для посадки. А родовой кедр
у нас в голодное время всю деревню спас. Орехи с него делили, прямо со скорлупой
толкли, ни у кого дети не умирали в голод. В соседних деревнях...
— Про голодное время я не говорю, а так раньше лучше жили. Сейчас одну,
две коровы держат, а раньше меньше пяти и не было коров у хозяина, — сказала
одна из бабушек.
В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел алтаец. Крепкий, с
открытым и добрым лицом.
— На минуту, к сожалению, Татьяна Фадеевна. Приехал лошадь сменить:
загнал почти. Ушли из поселка лошади, для конного завода отобранные.
Послезавтра машина за ними из Барнаула придет. Такого позора еще не было.
Может, догоним!
— В ночь, господи! — сказала одна из бабушек. Мы сидели, боясь поднять
глаза.
— Так я, Татьяна Фадеевна, с подарком к вам.
Он полез за пазуху и вытащил оттуда блеснувшую мехом шкурку.
— Что ты, Игнат! Соболя не возьму! Куда мне? Жене подари!
— Обидите, очень обидите, Татьяна Фадеевна!
Игнат поцеловал хозяйку, принявшую подарок, и пошел к двери.
— Постой, ты меня тоже обидишь. Знаю, что некогда, за стол не зову, а
вот с собой — погоди секунду — заверну баранины кусок и каральков.
— Можно вас на минуту? — позвала Игната тетя Зита голосом неестественным
и, как в разговоре с Борисом Сергеевичем, покрылась красными пятнами.
— Спешу я, — неохотно отозвался Игнат, но вышел за дверь с тетей Зитой.
Мама вытянулась в струнку и побледнела. Толя стал надевать ватник, а
Татьяна Фадеевна торопливо накладывала в мешочек еду и ответила бабушке:
— Говорите, теперь хуже живем!
Может, и не так зажиточно, а нищих-то нет. Как-то и дико было бы их теперь
увидеть, срамно.
— Мам, — не дал возразить бабушке Толя. — Коровы идут.
— Постоят, ничего, что-то рано их сегодня пригнали.
Тетя Зита вернулась с очень злым Игнатом.
— Чтобы эти банки с кислотой завтра же в правлении у меня стояли. Ясно?
— А вы кто? — спросила тетя Зита.
Толя облизал палец и сказал:
— Чудная, председателя не знаете?
Вдруг во дворе очень закричала корова — прямо заревела, раздался топот,
блеяние и крики гусей. Мы все выскочили во двор. Татьяна Фадеевна с
председателем, а за ними Толя побежали к навесу.
Я увидела, что из-под навеса выскочила рыжая с белыми пятнами корова, за
ней большой теленок и высыпали овцы. И все они побежали от дома. Корова бежала
тяжело из-за полного вымени, но теленок с овцами ее не перегоняли.
— Ничего страшного, — сказал председатель. — Корова наступила на
канистру со спиртом. Близко не подойти, так спиртом воняет. Я боялся, хуже чего
случилось.
— Как же не страшно, — сказала одна из бабушек. — Теперь, пока запах не
уйдет, они близко к дому не подойдут, а Татьяне доить аж в Забоку ходить придется
— километра два, не меньше...
— Мам, так я поехал? — сказал Толя.
— Куда еще на ночь? Пойдем корову искать. Доить надо, — ответила Татьяна
Фадеевна.
Бабушки церемонно поклонились хозяйке и, ничего не сказав, ушли
быстренько, мелкими шажками, почти бегом.
Быстро темнело. Тетя Зита и мама стояли рядом, опустив головы. Толя
срывал пучками траву и вытирал ею бок привязанного к забору светлого коня.
— Толюшка, — просила Татьяна Фадеевна, — меня не слушаешь, так хоть
Серко пожалей. Целый день он сено возил, на пасеку на нем же ездила, и не
перековали его сегодня.
— Толя, я не возьму тебя с собой, — сказал председатель. — Можешь не
собираться.
Нам никто ничего не говорил, не упрекал, и я поняла: не знают, что
лошадей выпустили мы. Но это не радовало, было очень стыдно, что из-за нас в
первый же день столько неприятностей.
— Толя, ты слышишь? — опять сказал председатель. — Отпусти жеребца
пастись.
— Но! Я сказал, все равно поеду, не возьмете — один поеду, — уперся
Толя.
Татьяна Фадеевна махнула рукой, пошла к дому и скоро вернулась с пустым
ведром.
— Вы, — сказала она маме и тете Зите, — идите в дом, располагайтесь, что
уж теперь делать.
— Я с вами пойду корову искать, — сказала мама.
— Не надо. Она чужих боится.
— Татьяна Фадеевна, вы Алексея поторопите, если встретится: повел
лошадей менять и застрял, — попросил председатель. — А, вон скачет.
Прошло, наверное, с минуту, когда я тоже расслышала топот копыт.
Толя отвязал коня, подвел его к телеге, взобрался на телегу и оттуда
перелез на спину лошади.
— С каких это пор ты, как бабка, на лошадь влезаешь? — насмешливо
спросил председатель.
— Устал просто, — по-взрослому ответил Толя.
— Ты дурака не валяй, еще тебя не хватало искать потом. Мы даже не
знаем, в какую сторону ушли лошади. Если бы знать, так проще бы...
На лошади подскакал Алексей, вторая лошадь, привязанная к длинной
веревке, бежала сзади.
— Ох, — сказал Алексей, — еле отловил их из табуна в темноте, прямо
дикие...
— Ну что, разойдемся, — сказал председатель. — Ты в той стороне будешь
искать, а я туда поскачу.
Обе стороны председатель указал совершенно противоположные той, куда
ушли лошади.
— Они туда ускакали, — вдруг сказала мама. — Это мы их выпустили.
Нечаянно.
— Спасибо хоть за правду, — сдерживая в голосе злость, ответил
председатель, и они поскакали в нужном направлении.
— Это я выпустила, и канистра моя тоже! — громко закричала им вслед тетя
Зита и, всхлипнув, пошла в дом.
Толя ничего нам не сказал и, чуть помедлив, — наверное, чтобы его сразу
не прогнали, — тоже поскакал искать лошадей.
— Ты иди в дом, — сказала мама. — Ты маленькая, Зита больна, вам поспать
надо. А мне трудно туда идти, пойми меня...
— Я с тобой, мама, не прогоняй, мне тоже трудно.
— Хоть бы сена охапку найти. До утра прилечь неплохо, — сказала мама.
— А что утром? — спросила я, понимая, что хорошего утра у нас не будет.
— Стожок на берегу стоит. Когда воду собаке брала, я видела. Толя мне собаку
отдал...
Я взяла маму за руку, и мы пошли искать стожок. Мы надергали из стожка
сена, привалились в образовавшуюся выемку спинами, а ноги прикрыли вытащенным
сеном.
— Так я говорю, мама, Толя мне собаку отдал. Возьмем? Жалко, он худой
такой. Его туристы бросили.
— Глупая ты! Я думаю, как теперь в Усть-Коксу доехать, отца дождаться и
— назад. Тут мы уже показали себя, лучше некуда. Спи! — И мама замолчала.
— Ты как хочешь, — сказала я шепотом, — а я обещала Ольге Дмитриевне
завтра прийти и приду.
Но подумала: «Если мама не пойдет со мной, я тоже не смогу пойти.
Получится, что я обману Ольгу Дмитриевну. И еще получится, что прав был Александр
Васильевич: «Захотят — привезут, захотят — увезут».
Было тихо-тихо, тихонько шипела речка. Звезды были крупные, ясные, и
казалось, здесь они намного ближе к земле, чем в Ленинграде.
Я проснулась от квохтанья кур. Толстая лягушка сидела мордой к воде. Курицы
ее не трогали, хотя подошли вплотную и замерли от любопытства.
Лицо и руки чесались от комариных укусов. Далекое блеяние овец
становилось все громче. Наверное, они шли в нашу сторону. Мама тоже проснулась.
Мы умылись ледяной водой, попили, зачерпывая воду ладонями. Как и вчера, утки,
испугавшись, поплыли, а одна бежала следом по берегу и тревожно крякала.
— Видишь, — сказала я маме, — а ты не верила.
Мама ответила равнодушно:
— Вижу. Сюда овец гонят, надо спросить: поймали лошадей? От этого наша
судьба зависит.
Овцы быстро бежали к нам, а за ними еле поспевал пожилой алтаец.
— Смотри, — сказала я маме, — овцы к нам здороваться бегут, что ли? За
своих признали.
— Я думаю, они к воде бегут. Там берег крутой, а у нас пологий.
По голосу мамы я поняла, что она просто очень, очень расстроена.
— Не пускайте, не пускайте, — кричал нам пастух, — вода холодная!
Мы стали отгонять овец, хлопать в ладоши и бегать вдоль берега. Овцы
испугались и стали. Только черный с белыми пятнами козел, совершенно не боясь
нас, вышел на середину речки и стал пить. Глаза у козла были разные: один
светло-коричневый, другой голубоватый.
— Соль привезли вчера, а убрать на склад некому было, так эти всю ночь
подсаливались, — сказал пастух. — Рано вы встали, шестой час только. — И грубо
крикнул козлу: — Борька, вылезай. Ну! Бока прутом обломаю.
Козел часто затряс головой, мекнул и опять стал пить.
— С ним-то ничего не будет, — объяснял пастух, размахивая прутом перед
овцами, — а эти нежные, сразу перхать начнут. За поселком в ручейке напою. А вы
у Татьяны...
Но мама прервала его:
— Скажите: лошадей нашли ночью?
— Нет. Председателю большие неприятности будут. Эти лошади очень
дорогие. Сегодня на стрижку из поселка не поедут. Всем искать надо. Я вот овец
до стрижного пункта доведу и пойду искать тоже.
Мама мрачнела все больше и больше.
Козел вышел из воды, потряс боками, как цыганка плечами в танце, и пошел
в поселок. Овцы побежали за ним.
— Борька, — крикнул пастух, — стой, окаянный! Помогите мне их из поселка
выгнать, — попросил он нас. — Опять его к соли потянуло. Там по дороге они
хорошо пойдут: с одной стороны обрыв, с другой гора вдоль дороги.
Мы с мамой бегом обогнали овец. Мама шлепнула козла по спине, он даже от
возмущения подпрыгнул, но тут же, развернувшись, нагнул голову и выставил
вперед рога.
Наверное, козел бы боднул маму, но подбежал пастух и хлестнул его
хворостиной.
— Дождался, окаянный. Обещал ведь тебе. Беги, беги вперед, нечего на
меня свои бельма пялить. Я счетоводом работаю, — охотно говорил с мамой пастух,
— летом у нас все скотоводы по совместительству. Меня Темекей зовут, по-русски
Тимофей, значит.
— А отчество? — спросила мама.
— Иванович. Отца Бануш зовут. Ванюша по-русски...
Мы познакомились и, разговаривая, шли за стадом. Козел важно шел впереди
с высоко поднятой головой, а овцы послушно бежали за ним. «Правильно бабка в
Усть-Коксе сказала: куда козел, туда за ним и овцы», — вспомнила я.
Тимофей Иванович забежал вперед, сдвинул в сторону жерди, те самые,
из-за которых у нас столько неприятностей, подождал, пока выйдут все овцы, и
сказал:
— Спасибо, приходите в гости, я живу в том конце поселка.
— Скажите, — спросила я, — что нам будет? Это мы лошадей выпустили.
Тимофей Иванович посмотрел на нас так сочувственно, с таким участием,
что мама взялась за рукав его пиджака и попросила:
— Научите нас: где их искать? Ну где они могут быть?
Овцы уходили от дороги. Мы с мамой, не дожидаясь ответа, перелезли через
жерди и побежали выгонять овец из травы.
Мы шли за стадом по дороге. Тимофей Иванович ничего не говорил нам.
— Я так благодарна, что вы нас не прогоняете, — сказала мама.
— Вы же не нарочно, — удивился Тимофей Иванович, — мало ли в какую беду
люди могут попасть. Вот не ели вы только. Но тамока дальше поселок будет. В
столовую сходите. Я подожду вас.
Вдоль дороги со стороны обрыва — заросли черной смородины. Еще зеленые
ягоды были крупными, и я украдкой от мамы ела их, но она смотрела только себе
под ноги и ничего не замечала.
— Ты лучше землянику ешь, — посоветовал мне Тимофей Иванович.
Действительно, под смородиной в траве попадалось много созревших ягод. Я
набрала в горсть и предложила маме.
— Это клубника. Дикая клубника. Не хочу, ешь сама, — сказала мама. — Мы
назад пойдем, Тимофей Иванович. У нас там приятельница в поселке осталась.
— Еще хоть немножко пройдем, — попросила я маму. — Так хорошо идти.
Дорога стала широкой, превратилась как бы в площадку. От горы выступала
песчаная ступенька, на ней рос кедр. Его ветви далеко раскинулись над дорогой.
— Это, наверное, тот кедр, про который Татьяна Фадеевна говорила, что
деревню от голода спас, — вспомнила я.
Тимофей Иванович засмеялся:
— Ну, этот просто детка, по сравнению с тем кедром.
Недалеко от кедра росла оранжевая купава. Я уже знала, что здесь купаву
называют «жарки» или «огоньки». Эта купава росла здесь одна. Стебелек
длинный-длинный, а цветок раскрылся на ней пока один. Ярко-оранжевый с
нежно-зеленым оттенком по краям лепестков. Сорвать такой цветок мне было жалко,
почти так же жалко, как того коричневого жука, пойманного папой. Овцы пили из
ручейка, отталкивали друг друга от воды. Мама и Тимофей Иванович стояли возле
обрыва. Я подошла к ним. Далеко-далеко внизу шумела Катунь. Я отступила назад,
и шум затих. Так я отступала и подходила несколько раз, но все равно не поняла
секрет, почему так резко затихает звук.
— Мам, а этот обрыв выше двадцатиэтажного дома?
Мама промолчала, и я сама себе ответила: «Выше».
— А тридцатиэтажного?
— Помолчи, пожалуйста, — попросила мама.
Посреди Катуни выступали две заросшие лесом горы. Они делили реку на три
части. Чуть дальше она опять соединялась, и даже сверху было видно, какое там
быстрое течение. Ближе к берегу из воды торчали большие валуны. «С одноэтажный
дом», — опять подумала я, не зная, с чем еще сравнить. А на берегу из зеленой
травы виднелись очень красивые золотисто-рыжие валуны. Я стала их считать.
— Это они! Это они!
Я схватила маму за руку, вцепилась в пиджак Тимофея Ивановича, трясла их
и только говорила:
— Это они!
Мама вытерла мне лицо платком и уговаривала:
— Не плачь. Ты ошиблась, лошадей нет. Тебе показалось, к сожалению,
показалось.
Тимофей Иванович тоже сказал:
— Показалось, девочка. Ты хочешь их найти, и тебе показалось.
— Я не плачу, я от радости. Рыжий валун шевельнулся. Это их, их спины
торчат.
— Ведь точно, — приглядевшись, согласился Тимофей Иванович. — Сами в
кустах спрятались, только крупы торчат. От паутов спрятались. Тамока прохладно,
ветерок, паутов меньше.
Мы с мамой гоним овец дальше. Тимофей Иванович решил, что ему проще
найти в поселке необходимых для отлова людей, чем нам. Он успокоил нас, что лошади
не покинут своего убежища до вечера и их успеют поймать. Нам Тимофей Иванович
велел: «Когда кончится гора, появится небольшая долинка. Пусть овцы тамока
пасутся. Я постараюсь скоро прийти. Приеду на телеге, а вы на ней вернетесь в
поселок».
Долина оказалась с низкой, но очень густой ярко-зеленой травой. По ней
ходили с рейками люди. А один человек смотрел в аппарат на треноге и кричал:
«Левее, теперь правее!» Увидев нас с овцами, он просто заорал:
— Вы что, не видите, что здесь ведутся работы?!
— Куда же мы уйдем, — растерялась мама. — Нам сказали здесь ждать.
— Идите дальше, здесь нельзя! — опять закричал дядька у аппарата.
Мы долго шли по дороге. Впереди, довольно далеко от нас, показался
поселок, а перед ним была хорошая долина с высокой травой и цветами. Мама
побежала вперед, чтобы повернуть козла в траву, но он противно замекал и
поскакал от мамы к поселку. Усталые овцы свесили языки набок, а мы с мамой
задыхались от бега.
— Не могу больше, — сказала мама. — Не могу, в боку колет. Ты беги, Кирочка.
Только не потеряй их.
Мама села в траву, а я побежала за стадом. Проклятый козел был уже
далеко. Если бы у меня были силы обогнать овец, наверное, они бы с радостью
остановились. Я вошла в поселок, не зная, где искать козла.
— Ты не видела?.. — спросила я у девочки, которая так быстро лупила
тяпкой вдоль кустиков картошки, что было просто удивительно, как кустики
оставались целыми. — Козла не видела? Такой черный с белым.
— А, Борька? Тамока, у общежития. Вон длинное здание, — ответила
девочка, не прекращая окучивать картошку.
Овцы, увидев Борьку, опять побежали. Только что еле шли, а тут откуда
силы взялись! — просто пустились вскачь. Но мне Борька сил не прибавил, я еле
доплелась до крыльца. Козел что-то с жадностью подбирал с земли у крыльца и ел.
Я пригляделась. Он поедал окурки.
— Брось! — крикнула я ему. — Ты отравишься. Брось, нас выгонят из-за
тебя.
Я подскочила к нему, стала колотить по его спине кулаками, оттягивала
его от окурков за рога, и мне было все равно, забодает он меня или нет.
Возле нас остановилась машина с высокими бортами. Из кабины вышли двое
мужчин. Один сказал:
— Наконец-то, а мы вас ищем.
— Помогите, — попросила я, — он окурки ест. Отравится.
— Ничего с ним не будет, — сказал шофер. — Сейчас мы его...
Они откинули задний борт, спустили из кузова трап, сошли с него и, схватив
Борьку с двух сторон за рога, потащили по трапу в кузов. Овцы послушно пошли в
кузов сами.
Я заревела:
— Не дам. Там мама сзади...
Я пыталась остановить овец, но они упорно шли и шли по трапу в кузов.
— Девочка, девочка! Какая мама? Мы на стрижку их везем. Некогда. Еще нам
много рейсов сделать надо. Жди свою маму.
— Я с вами поеду, не пущу овец одних.
Я сидела в кабине и, когда машина сворачивала от основной дороги в
сторону, спрашивала: «А теперь вы куда едете?»
Сначала они отвечали мне, посмеиваясь: «Ну, видишь, направо, потом
налево свернем».
Но скоро перестали совсем мне отвечать.
Когда мы подъехали к знакомому мне амбару, где стригут овец, и загонам,
я опять чуть не заплакала от радости.
На телеге возле амбара сидела тетя Зита и обмахивала спину Серко длинной
веткой.
Возле телеги стояла женщина с маленьким мальчиком.
Мальчик смотрел на довольно крупную рыжую дворнягу, а женщина напоминала
ему: «Костенька, не подходи к собаке. Костенька, отойди от лошади».
— Кира, — сказала тетя Зита. — Где мама?
Я рассказала, что не смогла дождаться маму и она, наверное, вернется к
Татьяне Фадеевне.
— А кто вас на Серко привез? — спросила я.
— Толя, — ответила тетя Зита.
Женщина, мама мальчика, сказала:
— А, ну, значит, это вам, — и дала мне ключ. — Это ключ...
— Тетя Зита, лошади нашлись!
— Я знаю, — ответила тетя Зита. — Кира, я уезжаю. Вниз по Катуни есть
турбаза «Катунь», я отдохну там.
— А вещи где? — спросила я.
— Эти вещи я везла для вас. Там одежда, посуда, вешалки — хоть и
старенькое, но все хорошее. А мне много не надо. Ну если травок для лекарств
или шкурок лишних вышлете... Я вчера об этом сказала Тамаре. Я не знала, что
бабушка все вам перешлет контейнером. Вы простите меня, если сможете... Я
хотела как лучше.
Тетя Зита отвернулась. А ко мне подошел мальчик.
— Смотри, какая большая собака, — сказал он.
— У этой тети собака еще больше, — показала я на тетю Зиту.
— Тоже сердитая ростом? — спросил Костя.
— Она не сердитая, — не сразу поняла я.
— И тоже ласковая хвостом? — опять спросил Костя.
— Она очень ласковая и тоже, как эта собачка, виляет хвостом.
— Ты будешь у нас жить. Я знаю, — сказал мальчик. — А мы к бабушке едем
в Усть-Коксу, на лошади поедем с этой тетей и с мамой.
— Это ключ от вашего дома, девочка. Я учительница. Мы уезжаем...
Из амбара вышла Ольга Дмитриевна и строго сказала:
— Кира, что же ты? Мы тебя ждем!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
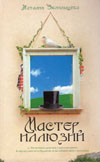
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





