ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
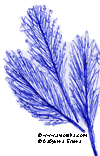
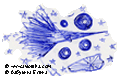

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Василевская Ванда 1963
Серебряный узкий серп луны похож на букву С. Значит, луна на ущербе,
убавляется, уходит. Она умрет и через неделю снова появится узеньким
серебристым серпом, повернутым рогами в другую сторону.
Это молодой месяц! Он только что родился.
И сразу все как-то странно меняется, и родной дом, совсем не казавшийся
далеким, в один миг, словно подхваченный вихрем, улетает куда-то в
пространство, расстояние вдруг становится реальным, ощутимым до боли. Да, ведь
это другое полушарие и это луна другого полушария. Воздух наполнен пряным
ароматом, громадные бархатистые персики не помещаются в сложенных вместе
больших мужских ладонях; и говор улицы здесь другой — быстрый, громкий;
взмывают пронзительные зазывные крики уличных продавцов; звучит незнакомая
страстная мелодия неизвестного инструмента.
Небольшой зал переполнен. Из-под темных платков смотрят темные глаза
чилийских женщин. Но эта женщина не чилийка.
— В тридцать пятом мы уехали из Новогрудека. Вы знаете, какое то было
время? Нужда и голод. Вот и уговорил меня муж уехать... Искать счастья в другом
месте. Ох, не в добрый час послушалась я, согласилась ехать за тридевять
земель!
Голова ее дрожит, на темные глаза навертываются слезы. Платок сползает с
темных волос.
— Двадцать шесть лет... Двадцать шесть лет... Подумать только... И что
мы нашли на чужбине, за морем? Глупая была я тогда, послушалась мужа... Эх,
Белорусь моя, Белорусь!.. А как там сейчас? Мы деньги откладываем, только разве
это деньги? Не скоро на билет соберем: билеты дорогие; еще бы, даль такая... А
я?.. Летом цикады поют, а мне сверчок вспоминается, там, дома... Пристроился за
печкой, трещит, свиристит, точно птичка. Печку-то, правда, редко топили, но ему
что — знай себе свиристит...
Руки сложены на коленях. Дрожит темная голова. Пряди волос, пронизанные
серыми нитками седины, спустились на лоб.
— ...Я всегда сюда прихожу, если лекция какая или собрание. Про свою
землю послушать, как там у нас сейчас. И ничего мне не надо, только бы перед
смертью вернуться, в своей земле после смерти лежать. Сант-Яго-де-Чили —
большой город, наш Новогрудек маленький был, вы, небось, знаете. А теперь,
наверно, и Новогрудек большой стал. Дети? Что ж дети, что они знают, тогда
совсем маленькие были, уже здесь выросли, у них своя жизнь, не помнят они
Белоруссию. А я, чем больше лет проходит, тем лучше помню; точно живая стоит
она у меня перед глазами... Нет, у нас там никого родных не осталось, все
погибли, сами знаете, как там было в войну. Но ведь земля осталась, своя, родная
и солнце свое над землей. Люди здесь хорошие, жаловаться не приходится, им тоже
тяжело, бедному повсюду тяжело, сами видите, сколько здесь бедноты. Только
земля не та и солнце не то, и — если бы мне раньше сказали, никогда бы не
поверила, — звезды здесь другие, и луна, луна по-другому всходит и заходит, другим
боком повернутая. Когда выйдете на улицу, поглядите. Разве могла я когда-нибудь
раньше думать, что буду так жить — на другой земле, под другими звездами, под
другой луной... Ох, Белорусь моя, Белорусь... Видите цветы в вазе? По-ихнему —
асусена. По-нашему— лилии. Таких лилий, крупных, розовых, наверняка больше
нигде не найти. Когда я их впервые увидела, даже поверить не могла, что такие
цветы есть на свете. Но вот во сне никогда их не вижу, лилий этих, только
крохотные голубые цветочки, как же они называются? Лен, конечно, лен! Когда
зацвело поле, то будто кто кусок неба на землю сбросил. Вы были когда-нибудь в
Новогрудеке? Городок так себе, очень был бедный в те времена. Домишки неважные,
и грязь весной и осенью, и в кастрюлю нечего было положить. Сейчас, я знаю, там
все иначе стало, советский город, я б его, может быть, и не узнала, и той
хибары, где мы жили, наверно, давно уж нет, и сверчка нет, печка-то и тогда еще
еле стояла. Но мне даже та грязь снится, хотя и здесь ее хватает. Вы по нашим
поселкам ходили, где мы, значит, бедняки, живем? Ну, тогда сами видели: пройдет
дождь — и грязи по колено. А вот мне кажется, что даже эта грязь другая, чем
та, и сказать смешно — своя грязь. Хотя что там было моего, что могло быть мое?
Но я уже не могу думать иначе, только так: моя Белорусь. Мы исходили полмира,
уже и по эту сторону океана, пока добрались до Чили. Нагляделись и на леса, их
здесь джунглями называют, и на города разные. Вы персики здесь видели? И
виноград? А вот там у нас, у соседей, яблоня возле дома росла, старая, кора на
ней шелушилась, яблоки маленькие, кислые. Съесть бы мне теперь это яблочко,
запах его почувствовать — и больше мне ничего в мире не надо... Эх, Белорусь
моя, Белорусь!..
Дрожит темная с проседью голова. Медленно катятся слезы по темному,
загорелому лицу. Женщина говорит тихо, но голос ее срывается на причитания,
напоминающие то ли плач плакальщиц на деревенских похоронах, то ли рыдания над
могилой близких, то ли неутешную жалобу белорусской жалейки.
— Белорусь моя, Белорусь...
Мексиканский городок. Рядом со зданием ресторана, в бассейнах,
выложенных кафелем, колышется теплая зеленовато-голубоватая вода — в городе
бьют горячие целебные источники. Из зала ресторана виден внутренний дворик —
патио: в клетках, подвешенных на покрытых цветами кустах, распевают яркие
птицы. На столе — рюмки с желтоватой текиле, кактусовой водкой, рядом маленькие
стаканчики с томатным соком, которым запивают водку.
Высокий, худощавый мужчина присаживается за наш столик. Он
безукоризненно одет, тонким чертам его лица старость придала сходство с камеей.
— Очень богат. Промышленник и торговец, — шепотом объясняет мне соседка.
— Из Киева? Я тоже из Киева.
Пожилой господин говорит медленно, без всякого акцента. Узкие, длинные
пальцы машинально поворачивают рюмку.
— А как теперь Киев? Я знаю, что во время войны был сильно разрушен.
Он внимательно слушает.
— Я жил на Пушкинской. Есть еще Пушкинская улица? Теперь, наверно, называется
иначе.
Нет, она называется так же. И дом существует, уцелел. Именно этот дом.
Только номер изменился. Пальцы, держащие рюмку, слегка дрожат.
— Не может быть! Сколько лет — и дом остался, стоит на месте. Это
наверняка этот дом? Вы помните, сколько этажей?
Помню. Это именно тот самый дом.
— Я жил в этом доме, на третьем этаже. А Крещатик? Крещатик обязательно
переименовали. Нет? Подумать только. Крещатик! А Владимирская горка осталась? И
Владимир с крестом? Подумать только...
Названия улиц, названия площадей. Старый человек путешествует по Киеву.
Путешествует по зеленым паркам своего детства, по далеким улицам своей юности,
среди аромата цветущих каштанов, акаций, лип, аромата первых свиданий, первой
любви.
— В ту пору, давно, в Киеве был профессор, очень известный...
— Он умер.
— Да... И еще был доктор... вы не слышали о нем?
— Умер. Сразу после войны.
— Умер. А...
Он называет фамилии. Фамилии людей, умерших так давно, что я не могу
ничего о них сказать; людей, которые умерли до войны и после войны, знакомых
мне лично или понаслышке. Старый человек, не объясняя, почему это так,
спрашивает только про ученых и врачей.
Он кивает головой.
— Да, конечно, ведь столько лет прошло, столько лет... И они тогда уж
были немолодые, намного старше меня...
Старый человек путешествует по кладбищу имен, по кладбищу своей далекой
жизни, которая прошла, миновала, поросла могильной травой. Слегка дрожит рука,
и в такт ей колышется в рюмке веселым золотистым кружком текиле.
На столе — коробка папирос.
— Разрешите?
Разумеется, пожалуйста. Он осторожно берет. Рассматривает. Медленно
читает вслух:
— Киев.
А потом шепотом:
— Киевские папиросы...
Приходит время прощаться.
— У меня к вам просьба. Могли бы вы подарить мне эту коробку? Без
папирос. Папиросы возьмите, пригодятся, а я не курю. Я возьму только коробку.
Он уходит, высокий, худощавый, неся перед собой в ладонях пустую коробку
из-под папирос. Несет бережно, словно редкий цветок, радужную бабочку, горсть
родной земли.
...Внизу под самолетом проплывает земля. Сквозь прозрачную дымку дали,
сквозь белые облака, плывущие, словно несомый ветром пух тополей, видны леса,
озера, речные поймы — синие, зеленые, кофейные цвета, чуть приглушенные дымкой,
— пастельная материя неопределенного рисунка, расходящиеся плавные линии,
сложные переплетения лент, раскрывшиеся круги, изогнутые эллипсы. Тени облаков
проносятся мягкими темными пятнами над лесами и равнинами.
Самолет снизился, и пейзаж внизу оживает, обретает яркие краски. Больше
нет лент, полос, полукругов, фантастического рисунка. Неподалеку Асунсьон,
столица Парагвая. Земля ядовито-зеленого цвета — в путанице тропической
растительности можно уже отличить фонтаны пальм, плюмажи банановых деревьев.
Повсюду сверкает вода, как будто сквозь толстую пелену ряски на пруду. На
аэродроме пахнуло в лицо жарким влажным ветром с пряным, дурманящим запахом.
Кругом зелень джунглей. Стоянка один час.
В громадном зале аэровокзала — киоски, столики, прилавки, где разложены
всевозможные чудеса. Чучела ящериц, ужей, лягушек. Бабочки, большие, как птицы,
яркие, как цветы. Коричневые и красные деревянные фигурки — пастухи-пеоны,
индейцы с луками.
На широком прилавке разместился целый зверинец. Беру в руки чучело
черной ящерицы-дракона.
— Сколько стоит?
Смуглый, коренастый человек, стоящий возле своих сокровищ, глядит на нас
исподлобья. Недобрые, угрюмые глаза под тяжелыми черными бровями.
Долго ждем ответа. И наконец слышим — по-русски.
— Русский? — удивляемся.
— Русский, — нехотя отвечает он, не спуская с нас взгляда.
— Давно здесь?
Снова молчание.
— Давно. А вы... оттуда?
— Да. Из Советского Союза.
Злая гримаса кривит рот. Человек смотрит на нас не отрываясь,
механически дает сдачу.
— Да... — произносит он, как будто отвечая своим мыслям. И смотрит. С
ненавистью. Именно с ненавистью. И в то же время он своим взглядом словно
пригвоздил нас к месту — он не хочет, чтобы мы ушли. Сам молчит, но напряженно
прислушивается к каждому слову, сказанному нами, когда мы разглядываем
металлически сверкающих бабочек, чучела зверушек, рогатых причудливых ящериц,
ужей с раскрытыми пастями — всю экзотику джунглей, представленную здесь, на
широком прилавке. Эти злые, враждебные глаза словно приказывают: говори! Хочу
услышать слова, которых так давно не слышал. Говори! Это мой язык, на этом
языке я разговаривал с матерью, и с девушкой, которую я любил, и с моими
детьми.
Он немолод, даже если сделать скидку на дубленную тропическим солнцем
кожу и жесткие, глубокие линии, перерезающие лицо не как преждевременные морщины,
а как шрамы от ударов, нанесенных жизнью. И тем не менее неправда, что он здесь
«давно».
Нет, в те далекие, минувшие времена его родители не уехали на другое
полушарие в поисках куска хлеба за океан. Нет, его родители не садились
второпях на пароход в Одессе, убегая от революции. Он не второе и не третье
поколение. Он первое поколение на чужой земле, в зеленых джунглях Парагвая, и
прибыл сюда сам, по своей воле. И он ненавидит. Ненавидит то, чему изменил, от
чего отказался в час испытаний. Ненавидит, пожалуй, и себя. Ненавидит нас,
потому что мы «оттуда» и туда ведет наш путь. И в то же время он хочет, чтобы
мы стояли возле него как можно дольше.
Забираем черную ящерицу. Идем дальше, рассматриваем топорщащиеся
кружева, которые перебирает в темных ладонях парагвайская женщина. Непрестанно
ощущаю на себе тяжелый взгляд того человека. Он следует за нами от киоска к
киоску, через весь громадный зал ожиданий. Не оставляет нас, когда открывается
стеклянная дверь и всех зовут к самолету. Угрюмый, враждебный взгляд,
неотступный и назойливый.
И снова жаркий, влажный ветер бьет в лицо дурманящим запахом. Когда
самолет поднимается в воздух, под нами расстилаются джунгли, безбрежные
джунгли, без конца и края, как море. Все еще виден аэродром. Наверное, оттуда,
от прилавка с бабочками и зверушками Парагвая, смотрят нам вслед, пока самолет
не растворится в пространстве, недобрые темные глаза на коричневом, дубленном
ветром и зноем лице. О чем думает этот угрюмый человек? О белых березах в
нежной весенней зелени? О сосновом лесе, пахнущем смолой? О пушистом снеге и
реке, скованной льдом? Об утренней росе на мягкой траве лугов?
И мне кажется, будто слышу стон, заглушаемый огромным усилием воли,
рыдание, сдерживаемое горьким и презрительным искривлением рта, вижу тяжелые,
большие руки, вцепившиеся со всей силы в доски прилавка, чтобы не заломиться
жестом отчаяния...
Что приснится ему этой ночью? Голубой ли лен, зацветающий в поле куском
неба? Улицы родного города, благоухающие акацией? Нет, скорее всего это будет
тяжелый сон, от которого человек просыпается с криком. Но будет в его снах
нечто общее со снами женщины из Сант-Яго-де-Чили и седого господина в
мексиканском городке. Они навеяны одним и тем же: тоской по родной земле.
Сквозь прозрачную дымку внизу виднеются зеленые джунгли. И даже здесь, в
самолете, все еще слышится их знойный и пряный запах, пока его не поглощает нагнетаемый
машинами воздух.
Перевела с польского Э. Василевская.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
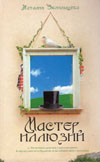
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





