ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


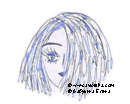
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Демыкина Галина 1968
У Анисьи Тимофеевны язык толстый, во рту не помещается.
— Сец поку́сай, — говорит она жильцу Сане Вехову.
И он ест эти щи в семь утра и очень доволен.
Она его, Саню, так пустила, без денег: живи, что ты, я одна в доме, иль
места мало?
Сане нравится дом — стоит в пригороде, недалеко от леса. В сенях
берестяной дух — от кадок ли, от рогож. В комнате стены бревенчатые, численник
висит и схема строения атома: сын Анисьи Тимофеевны физик, книжку бросил, а она
страничку вырвала, повесила. Красиво. На голубом поле белые круги.
Утром сядет Анисья Тимофеевна за стол, напротив Сани, подопрет кулаком
мягкую щеку, вздохнет:
— Ты небось тихий рос-то?
— Да не буйный.
— Вот и мой. Ни в чем не помешал. Я за хворостом — и он ветки тянет. Я
корову доить — он с кружкой стоит: «Молочка улей!» Уж я ему: «Ко́люшка, тихий ты у меня, как дурачок!» Вот тебе и дурачок — как выучился.
Его начальники ценят, квартиру в Москве дали.
Увидела, что Саня пишет, настольную лампу достала — сын тоже до полуночи
сидел. Увидела, что в лес ходит, сапоги у кровати поставила:
— Надевай, чего фасонные-то трепать.
Саня Вехов ходил по осеннему лесу, по земле его, бурой от поганок и
опавшего листа.
Он приехал в этот город нарочно за несколько дней до начала работы —
знал: лес здесь хорош.
И попросился сюда, окончив журналистский заочно, тоже отчасти из-за
леса: очень лес был хорош. Начинался сразу за городом, мост перейдешь — и вот
он.
Саня ходил по лесу и думал о статье: он обещал одной московской
газетенке статью об этом городе — райцентре. И вот собрал уже — сколько школ,
больниц, фабрика тоже есть. И неспешная жизнь.
Но больше он хотел о хозяйке написать, об Анисье Тимофеевне. Только нужно
ли газете? Как-то так получалось, что газете всегда не было нужно то, что ему хотелось.
Он бы хорошо написал, про что хотелось. Он и про что заказывали писал. Но так
себе, средне. Однако печатали.
А лесные дорожки разбегались, и мысли разбегались — вбирали в себя землю
с прозеленью последней травы, чешуйки шишек, сброшенные белкой, заломленные к
серому небу ветки дуба. И складывались в строчки, совсем не похожие на то, о
чем думал.
Злоба требует почина.
Есть поля, и есть поляны,
Там, где солнышко — по лани
Через ветки, вперехлест:
Пятна,
Пятнышки,
Пятнашки,
Муравьиные дорожки,
Теплый шорох птичьих гнезд.
При чем здесь злоба, он не знал. И стихов не хотел, а они почему-то
были. И слово все время вертелось — лембо́й.
Хм, лембо́й! Сколько лет не поминал, а всплыло.
И лес, и слово это, и стихи, и выход из шумной городской игры — все
возвращало его к той давнишней истории, что произошла здесь, в этих лесах. И
оборвалась выстрелом. Стала она уже давно прошедшей и забылась в Москве, а
здесь вдруг обострилась. И побаливала. И он даже рад был, что скоро на работу.
В редакции Вехову сказали пройти к Сазонову. «Может, тот Сазонов? — подумал он. И
заволновался: — Да неужели тот? Как поверить — такое совпадение!» Но оборвал
себя: и фамилии совпадают часто. Эка редкость, подумаешь: «Сазонов...»
Перед дверью главного редактора — легонький, модерный секретарский стол
и рядом тоже новенькое кресло. И цветы на окнах в подвесных горшочках. Снизу, с
первого этажа, в отрицание этого щегольства, несет щами из столовой, а за
окном, по травянистому двору, ходят индюшки.
— Вы к товарищу Сазонову? — спросила через открытую дверь пожилая
красивая женщина. Она сидела в соседней комнате и недовольно наблюдала за ним. —
Так зайдите. Чего ждать? — И надменно отвернулась, будто добавила: «Учи вас!»
В большом пустом кабинете сидел человек маленький, сухой. Он не сделал
вида, будто занят: сразу поднял от бумаг желтые усталые глаза, провел узкой
рукой по небритой щеке, косолапо пошел навстречу. Он! Сазонов!
Вехов хрипло кашлянул, сделал два поспешных шажка — обнять старого
друга. Но Сазонов протянул руку. Глаза радушные — и только. Вехов еще ждал —
может, хлопнет с размаху по плечу, крикнет: «Санька!» Нет, нет. Ничего такого.
Долгое начальственное рукотрясение: милости просим, будем знакомы, весьма рад.
Как же так? Не узнал? Забыл? Да, может, Сазонов не тот? Просто похожи?
— Я вас зачислил в отдел писем. Лучшего места пока нет.
Другой это, другой Сазонов.
— Я знаю. Мне лучшего и не надо.
Другой.
Вехов сразу успокоился. Оглядел кабинет: казенные коричневые обои,
похожие на клеенку, по стенам — одинаковые раскладные стулья, как в кино;
мраморная подставка без чернильницы и узенькая красная авторучка. Красивая.
Вроде бы у того Сазонова тоже была слабость к авторучкам.
— ...Писем много, — продолжал Сазонов. Он сам не сел и Вехову не предложил.
— Придется выезжать на места. У вас нет семьи?
— Нет. Могу приступать?
— Конечно.
И снова радушное рукотрясение. Ничего оно, по сути, не означает, потому
что толковать его как хочешь можно: дружеское расположение, демократизм, а то и
просто привычка — начальственное это рукотрясение. Потом было неловкое
вышагивание к двери — излишне четкое, как на параде. Это потому, что смотрят
вслед. И снова солнечная секретарская комната с ее цветочками и горшочками. Где
здесь отдел писем? Приехал работать — и работай. К черту сантименты. А, да вот
он, напротив кабинета, даже в коридор выходить не надо. Рядом с начальством. Ну
и что ж!
Затхлая комната, заваленная письмами. Будто письма тут дышат: надышали.
Та самая седая достойная женщина, всем видом показывающая, что непричастна к
этому.
— Здравствуйте. Я, оказывается, к вам. Вы ведь заведуете отделом писем?
— Пока я. (Интонация такая: «Пока вы не подсидели».)
— Моя фамилия Вехов. Саша.
— Светова, Кира Петровна. (С ударением на отчество. В смысле, что
панибратство не пройдет.)
— Очень приятно.
И вдруг — Нина. В дверях, в просвете. Это уж точно она. И узнала. Руки
врозь, ноги врозь, как пугало. И мордочка обезьянья: толстые губы, лихорадочные
глаза...
— Санька!
И кинулась, и прижалась прямо тут, как в лесу, и губами к щеке, у самых
губ. И стерла сразу пять лет, что не виделись. Не было их.
Только зеленая тень на стене.
Нина.
Сазонов вел летучку. Он стоял, напирая на стол выгнутыми руками, будто
хотел прыгнуть. И глядел в бумаги.
А все сидели, вытянув шеи и задерживая дыхание. Сидели на киношных
стульях и не скрипели.
Сперва Вехов подумал — прикидываются. Делают вид. Но пауза длилась, и
притяжение усиливалось. Еще чуть — и головы столкнутся у стола. И вдруг —
желтые сазоновские глаза прошли по лицам. По кабинету — легкое движение, будто
поежились.
— Начнем с редакции сельской жизни...
Вехов знал эти глаза. Еще в первый день, пять лет назад, Сазонов, садясь
за руль, глянул, будто оценивая спутников — его, Вехова, и второго, тогда еще
незнакомого. И Саня Вехов так же вот поежился:
— Ну и шофер нам достался.
— Перец, а не шофер, — кивнул сосед.
Они ехали в командировку от радио на тонвагене — автомобиле с
записывающей аппаратурой. Сазонов был шофером и оператором одновременно.
Там уже, на записи, он иногда говорил:
— Мика! Этого я писать не буду.
Вехов не сердился. Его это почти не касалось: он был практикантом. Мика
же Попов (то есть какой Мика — под шестьдесят уже было!), тот прямо взвивался,
руки начинали дрожать и голос тоже. Но он не шел на грубость. Просто не мог.
— Вы, как бы сказать, Степан Егорыч, отвечаете за техническую часть записи.
А это уж мое ведомство. Разрешите мне.
— Пустяк, — смеясь наглыми желтыми глазами, говорил Сазонов. — Вот
досдам экзамены — редактором буду. И, может, вашим начальником, Мика.
— Не приведи бог, — шептал Попов. И вслух добавлял: — Ну, тогда вы и
укажете, а пока...
— В общем, сматываю провода, — и Сазонов выключал микрофон.
У Мики морщился голубой после бритья подбородок, темные глаза под
большими бровями наливались детской обидой.
Вехов молчал. Он сочувствовал Мике, понимал его. Но интересен ему был
Сазонов. И он боялся, что Сазонов нагрубит и ему, и тогда уж конец.
Но после работы Сазонов, намывшись у колодца (ему поливала из кружки
мрачная молодая хозяйка — одному ему), стучал в окно:
— Пошли, Саня, пройдемся.
Хромой дед, муж молодайки, гремел деревянной ногой по сеням, нес на
тарелке соты:
— Чайку с медом покушайте. Хозяйка самовар поставит.
— Попоздней велено, — мрачно отзывалась хозяйка. Она всегда была где-то
в тени, в углу.
Сазонов, значит, велел попоздней.
Мика молча вылезал из-за стола, шел к чемодану с припасами: ужинать без
чая.
— Ты, Саня, небось тоже голодный? — спрашивал на улице Сазонов. — Ну да
пустяк. Человек выше сытости, — и он подмигивал. — Тут кино привезли в клуб.
Отличное. Один только сеанс. Надо, думаю, чтоб и ты поглядел.
У Вехова не то что обиды — слов уже не было. Только радость, что к нему
так.
Они шли через вечернее село, прямо по садам. Сады были всюду: за домами,
перед домами, вместо полей и вместо огородов. А в селе — большая консервная
фабрика. Вот о ней и должен был рассказать Мика в своей передаче.
— Ты уж прости, — говорил Сазонов. — Надоел небось наш перебрех. Обрыдло
мне: пишут, пишут трескотню — «Следуя решениям нашего райкома...». А баба эта,
между прочим, — вот что решениям-то следует, — дочку из дому гонит. Дочка от
первого мужа, а ее теперешний на девчонку глаз положил.
Так Вехов впервые услышал про Нину. Только не знал еще, что это она, а
представил себе красавицу с белой пушистой косой.
— Красивая? — спросил он.
— Да я не видел. Это мне соседская бабка рассказала, дедова первая жена.
За медком пришла — дед ей так дает, — села на лавочку и ну стрекотать. Старика
своего жалеет: «Исделает с ним что-нибудь молодайка. Темная, говорит, лошадка».
— И правда темная.
— Со стариком-то жить, — рассудил Сазонов, — потемнеешь.
— Гнали ее, что ли, замуж?
— Ее дед от болезни спас. Медком.
И оба почему-то засмеялись. Может, потому, что им этот мед был еще ни к
чему.
На обратном пути Сазонов разоткровенничался. Рассказал, как в юности
«испортил биографию» — связался со шпаной. Как потом, отбыв срок, стал работать
шофером. А теперь надоело баранку крутить.
— Во мне сила есть, понимаешь?
Вехов понимал.
— А во мне, видно, нету.
— В тебе другое, — отвечал Сазонов.
— Что?
— Дай разберусь. Я тебе точно все расскажу про тебя. А то, что есть, — я
так полагаю, — надо применить. Суметь.
Он и тогда применял. И теперь, на летучке, — тоже.
— Я, — улыбался из-за своего стола Сазонов, — сказать вам по секрету,
думаю, что Курепов и не Курепов совсем. Не какой-то там редактор сельской жизни
в заштатной газетенке. Он — детективщик с фамилией Прошпионов!
В кабинете засмеялись. Огромный детина в сапогах и нескладном
просаленном пиджаке пошел пятнами.
— Нет, в самом деле, как он нас заинтриговал! — Сазонов опустил сияющие
глаза в газету. — Вот послушайте: — «Маша бежала из последних сил (из
последних!). У Ночки телок. Какой он? В кого мастью?» Как тонко поставлен
волнующий вопрос животноводства: «В кого мастью?» А?
Рыжие глаза Сазонова излучали тепло. Белые вставленные зубы светились.
Все вставленные. Только один желтый клык свой. Но он не был виден.
Не был виден, а зацепил, терзал уже теплое мясо. Никто не видел. Но тот,
с круглыми, телячьими глазами, здоровенный и неповоротливый, — домашнее
травоядное, — он понял все.
«Му! — кричал он. — Мама!» — а ее, мамы, пахнущей сеном и парным
молоком, не было, а клык держал.
«Люди!» — и людей уже не было. Перевелись.
Но его не уволокли в лес. Бросили. Почему-то бросили.
— Я отдаю должное трудолюбию Николая Палыча Курепова, он единственный из
всей редакции ходит по селам, по колхозам. Его сапоги всегда в глине; в его
блокноте множество точнейших сведений...
Круглые, телячьи глаза сделались влажными и преданно опустились.
Никто не защитит. Только он, отец родной. Только сам товарищ волк!
Снова повисла пауза. Снова началось притяжение голов к столу: кто теперь?
Как обернет дело Сазонов? Боялись.
Они не знали, не знали, не знали, как он умел дурачиться, желать, быть
на равных. Они не ездили с ним в тонвагене, не жили в одной избе!
Возле избы там стояла скамеечка, — вся трава вокруг утоптана: ходили к
деду за медом — он один держал ульи. А не застанут старика или ждут, пока
отвесит, — наговорятся.
А в те дни и подавно: запись шла для радио, — очень интересно, кто и как
в микрофон скажет. Даже дед выходил посидеть.
В последний день записывали ту бабенку, которая дочку гонит. Настоял на
своем Мика: надо интеллигенцию села показать, а она — бухгалтер и говорит
грамотно.
— Ну, валяй, — разрешил Сазонов. — Всё равно выкинут.
— ...После решения обкома превратить село в цветущий сад... — бойко лепила
женщина.
— Решение-то год назад было, — прокряхтел хромой дед, — а яблоки уж
полвека, не меньше, сбираем.
Местные засмеялись.
— Вы мешаете, — вежливо заметил Мика. И крикнул Сазонову, который
орудовал там, в машине: — Степан Егорыч, слышен мужской голос?
— Дед хорошо записался, — с невинной наглостью ответил Сазонов.
— Ну вот и Егорыч одобрил, — обрадовался дед. — Я врать не буду, только
правду.
— Еще раз, пожалуйста, — попросил Мика бухгалтершу.
— ...в цветущий сад...
— За один год не зацветет, — сообщил дед.
Мика отвел женщину подальше от публики, подтянул к ней микрофон, и она
выложила весь текст без помех.
— Чистая работа! — Сазонов спрыгнул со ступеньки тонвагена. — Слушать не
будем? Нормально записалось.
— Тогда не надо, — Мика не хотел новых комментариев. — Кончаем запись.
Стали расходиться.
Бухгалтерша не ушла. Она ковыряла землю бежевой туфелькой, смотрела на
эту туфлю, говорила уверенно:
— А что писатели? Я разве жизнь меньше ихнего повидала? И на фабрике
работала, и в поле, и теперь весь народ ко мне идет.
— За зарплатой? — усмехнулся Сазонов.
— Ну, хоть и за ней. А идет ведь. Да уж я бы не хуже вашего Аксенова
написала или кого там.
— Хватит болтать, — дивясь своей резкости, сказал Вехов.
Сазонов мягко улыбнулся:
— Конечно, напишете. — И — Вехову: — Самодеятельность масс. Поддерживать
надо.
— Вот ты и поддерживай невежество, — буркнул Саня.
— А что тут невежливого? — наглея от поддержки, огрызнулась женщина. —
Пишут, а жизни не знают. И нечего вам заступаться. Только что вот в столице
живут.
Сазонов пожал ей руку:
— Желаю, от души желаю успеха. — И — Вехову: — Иначе не отобьешься.
Уселись на лавочку, поглазели на отцветшие яблони.
Мика пошел бриться (два раза на день брился человек!), а Сазонов говорил
— пироги доедать. Мике из дому большой чемодан с провизией дали («Старшая дочка
специально приезжала с другого конца Москвы — их так покойная жена приучила. Я
раньше далеко ездил», — объяснил Мика. Он гордился дочкой и покойной женой и
прежними дальними командировками. И всем этим дорожил). Сперва он делился сгущенкой
и пирогами, а потом обиделся, не стал.
Подошла старуха соседка, первая дедова жена:
— Ну что, ребятки, отбубе́нькались?
— Все, Петровна, — сказал Сазонов. — Тебя теперь запишем на память — и
домой, ко щам.
— А что ж, я первый тут голосок была, — улыбка сама вышла к губам. — Мы
с подружкой, бабкой вот той девчонки-то, про какую говорила, — ух, бедовые
были!
— А подружка померла?
— Нет, зачем. В райцентре живет. За лесом. Вы проезжали.
Сазонов помолчал.
— Ну так что, бабк, насчет ружья сладим?
— Ох, Степан Егорыч, разбередил ты мое сердце с ружьем этим!
Сазонов с первого дня подбивался к бабке, чтоб продала дедово ружье.
— Цену хорошую дам: кто еще купит?
— Дать знаю, знаю. А жаль. Вдруг как задумает старый поохотиться...
— Куда уж ему.
— И память все же. Тридцать пять годов вместе прожили.
— Хорошо жили? — спросил Саня.
— Всяко жили. Сколько песен перепели, ульев этих перенянчили. Детей в
люди вывели. — И усмехнулась: — Он лихой был, старый уж, а бегучий. Раз встала
корову доить —нет деда. Вышла на крыльцо, а он, леший-то мой хромолыгенький, от
суседки через плетень лезет! И ножку не зашиб!
— Ты, бабка, — сказал Сазонов, — как яблочный пирог. Хорошая бабка. Меня
бы жена живьем съела.
— Да это уж я старая была. Смолоду к реке топиться бегала. А это уж
старая,
— Ну вот, а ружье бережешь, — сказал Сазонов. — Не нужно оно... От
молодайки если только отстреливаться! — и засмеялся. — Береги, шут с тобой.
Больно пострелять захотелось.
Как бежит за окном земля! На такой скорости она вся твоя — не очень
большой шар, — вон, на горизонте, уже скругляется. Оттуда, из-за кривизны,
торчат близкие ветки берез, как морковная ботва. Их можно выдернуть и собрать в
корзину — стоит только шагнуть к той неосвещенной части планеты.
— Товарищ Сазонов, — сказал Мика. Он последнее время был официален. —
Прекратите гонку.
— Не бойтесь, Мика.
— Я требую...
— Ну, ну, — с угрожающей интонацией.
Сазонов рисковал. Встречные машины шарахались, делая в последнюю секунду
зигзаг. Но ругань из кабин уже не долетала.
В углу тонвагена сжалась подросточья фигурка — длинноногая, длиннорукая,
толстогубая девчонка, смуглая до лиловости. Рядом с ней лежало ружье. Не выдержала
бабка сазоновского напора. Тайком от деда дала ружье и деньги в туфлю спрятала:
— Отстреляешь и отдашь Нинке.
— Какой Нинке?
— А девчонку возьмешь с собой. Возьми, Степан Егорыч, изведет ее мать. И
слава уж пошла. Хорошо ли? В райцентре у Маруси, подружки моей, оставишь. Она
ей бабушка, примет. А ружье с оказией потом пришлют.
— Ох и бабка! Полководец, а не бабка.
После этого разговора Вехов все ждал белокосую красавицу. А пришла
девчонка, вот эта, вся из острых углов. Пришла под самый отъезд. По-кошачьи
оглянулась, согнулась тоже по-кошачьи и забилась в угол. И стало видно —
кошка-то дикая.
— Тайком, что ли? — спросил Вехов. Ему хотелось ободрить ее. Не
ответила. И глазищи не отвела.
— Что же так? — допытывал он.
— Чтоб не прощаться.
— А искать не будут?
— Золото ищут.
— А ты не золото?
И вдруг выпростались в уверенной женской улыбке яркие зубы:
— Золото. Да ведь они ж не знают.
Вехов не нашелся с ответом.
Сазонов оглянулся (он уже сидел за рулем), оценил глазами, хмыкнул
чему-то своему. И помчал тонваген по шоссе, пугая встречные машины.
Вехов знал, чего спешит Сазонов. Он хотел выкроить время для охоты.
Командировки последний день был завтра, и, если успеть к лесу до вечера, еще
можно пострелять. Вехов был не прочь переночевать в лесу. Мика был не в курсе.
Он и на Нину глядел сердито: без его разрешения взяли. А главный-то все-таки
он. И отвечать, значит, ему.
Девчоночку тяготила неприязнь, и на первом же привале, когда Сазонов
ушел к роднику за водой, она подсела к Мике со своими узелками.
— Мне бабушка Петровна пирожков напекла. Покушайте.
— Спасибо, у меня есть.
— Вкусные, — сказала она, робея.
Мике стало, верно, неловко и польстило: боится. Но он промолчал.
— Ну может, творожку козьего? — попросила она безнадежно.
И Мика рухнул: сморщился добродушно и галантно:
— Вот козьего я никогда в жизни не пробовал. Поверите: никогда.
Нина обрадовалась, развязала стеклянную банку, нашла в узелке жестяную
ложечку, расстелила на кожаном сиденье реденький платок:
— Кушайте.
Мике понравился козий творог и Петровнины пирожки. А Нина восхитилась
фляжкой, в которой вода не стынет.
— Это термос, — наставительно сообщил Мика.
— Термос, — повторила Нина.
— Это мне в Болгарии подарили. Я там был как журналист.
Нина слушала, забыв жевать.
— Вас как зовут?
— Нина.
— А меня Михаил Алексеевич Попов. — И он поклонился. — А его — Саня,
Александр.
Вехов был рад, что при этом чинном знакомстве не присутствовал Сазонов.
— Я, честно говоря, — сказал Попов, — был слегка недоволен, что вы
поехали без моего ведома.
— Я не знала, — проговорила Нина. — Я думала — он главный...
— А, в конце концов, к чему вся это субординация, — перебил Попов. — Был
бы человек хорош. Я так думаю. А вы хороший человек. Очень милый.
Пришел Сазонов, поставил посреди тонвагена ведерко с водой.
— Э, да здесь пир. Саня, дай-ка мой чемодан!
Мика тоже положил на общий стол пироги, раскрыл банку шпрот.
— Водрузим знамя мира, — произнес он.
Вехова начинала раздражать эта болтовня. А Сазонов — ничего. Молчал. Так
все же было лучше. Пусть порезвится старик.
— Вас ведь Нина зовут? — почтительно нагнулся Сазонов, продолжая,
однако, жевать.
— Да.
— И вы, наверное, любите всякие интересные истории?
Он был почти серьезен, только глаза чуть теплели. Это — Вехов уже знал —
всегда не к добру.
— Давайте тогда попросим Мику, то есть, простите, Михаила Алексеевича,
рассказать о Болгарии. — И совсем таинственно: — Знаете, он был в Болгарии.
— Я знаю, — ответила Нина.
— Уже говорил? Ай-яй-яй! И все без меня! Какая жалость!
Сазонов веселился вполне невинно, но Попов насторожился.
— Ну что ж, поехали, — недовольно сказал он.
— Есть, товарищ начальство, — отчеканил Сазонов. — Саня, хочешь, порули.
Вехов забрался в кабину.
Нина, чутьем женщины угадав слабого, подсела к Михаилу Алексеевичу и уже
не отходила от него.
Потом, когда Сазонов отобрал руль, Вехов сквозь стекло видел, как Попов
показывал ей какие-то записи, что-то рассказывал, смущаясь Вехова. Но тот не
слышал. И думал: как беспомощен человек в своем желании быть выслушанным,
согретым.
Машина мягко пошла по лесной дороге.
— Куда? Куда? — встрепенулся было Попов.
— А мне редакция новостей велела соловьев записать, — не повернув головы,
ответил Сазонов. А потом весело и нагло оглядел Попова и Нину.
Мика промолчал.
И вот лесные ветки обняли машину. Островок техники и людей, овладевших
ею, закачался в зеленых волнах.
Помнится, тогда всю ночь лил дождь.
Сазонов пришел с охоты мокрый и сердитый, молча забрался в кабину,
привалился к стенке, заснул. Вехов лег на пол, подстелив коврик, который еще с
вечера снял для него с сиденья Сазонов. Уснуть не удалось. Эти двое говорили.
Особенно Мика. Будто до того жил с зашитым ртом, и вот, наконец, швы сняли, и
все, что накопилось, надо, надо, надо сказать!
— Я всегда был один, — захлебывался Мика. В его прокуренный шепот
вплетались седые волоски. — Я был забалован в детстве, но баловала меня тетка —
родители умерли, — баловала из чувства долга. Она не говорила со мной ни о чем,
кроме еды и учебы. И самое яркое воспоминание детства — это как я прищемил
дверью ухо.
— Подслушивали, что ли? — засмеялась Нина.
— Нет, что вы! В погреб полез и дверцу головой придерживал. Вот и
прищемил. Вам сколько лет?
— Шестнадцать.
— Моему старшему двадцать восемь... У нас с женой рано появились дети.
Жена посвятила себя им. Я был глава семьи, должен был всегда быть в форме, а
что у меня там, на душе, кому до этого дело... А теперь, когда ее нет...
Вехов не любил и боялся неудачников, как иные здоровые люди не любят и
боятся больных: вдруг перейдет?
Он постарался не слушать. И снова думал о Сазонове. Сазонов не любил
Мику. Но, верно, не за слабость. К слабости он снисходил. Сам говорил: «Жалею
старух. Не стариков даже, а старух. У старика душевные заботы есть: порыбачит,
войны вспомнит. А старуха сквозь мелочи всю свою жизнь просеяла, пусто ей».
Вехов вспомнил, как они выезжали из Москвы. На асфальте стояла старая
женщина с поджатыми, впалыми губами. В коричневых руках держала ровный-ровный
голубой букетик.
— Незабудочки пожалуйте, — по-городскому поклонилась она. Будто не рвала
она эти незабудочки в поле, а собрала со старого своего сервиза, — эдакие
выцветшие бледно-голубые с желтой точечкой посередке.
— Почем, мамаша? — высунулся из кабины Сазонов.
— Двадцать копеек... Ну, тридцать пять пара. — Пальцы двигались, как
черепашьи лапы, охорашивали букетик.
— Сколько там их у тебя?
— Да вот... — И вздрогнула радостью: — Сосчитать?
В машине запахло травой. Старуха черепашьими пальцами перебирала над
корзиной деньги.
— Шикарный жест, — сказал тот, третий. Он тогда еще был для Вехова
никто, только потом стал Микой, Михаилом Алексеевичем Поповым.
Сазонов оглянулся недобро:
— А вы, Мика, шустрый паренек. Мальчик-аналитик.
И стал тихонько насвистывать.
Из-за этой истории Сазонов и говорил потом о старухах. Неловко ему было.
Утром сквозь сон Вехов слышал, как стучал о стекла дождь и как ходил
там, по дождю, Сазонов: шуршал ветками, разбрызгивал ногами воду, ругался. А
когда совсем рассвело, Сазонов распахнул дверь тонвагена и очень радостно,
будто только того и ждали, сообщил:
— Ну, теперь, если и дождя не будет, дня три простоим. Развезло. Глина.
Солнышко расталкивало ветки деревьев, было шумно от птиц.
И Мика, и Вехов промолчали. Было понятно: влетит. Но оба не выспались, и
теперь лень было сердиться.
Мика клевал носом на краешке кожаного сиденья, на котором свернулась Нина.
Он оберегал. Он был защитником. Нина спала. И было в ее сне детское — оттопыренные
губы, закинутая назад голова. Но было и изящное, змеиное, женское. И Вехов
отвернулся. Вехов отвернулся, а Сазонов нет. Он подошел, криво ступая короткими
ногами, провел рукой по ее прямым жестким волосам.
— Вставай, девочка. Счастье проспишь.
Она диковато оглянулась, потом, видно, вспомнила и улыбнулась Сазонову,
потом Попову. Вехова она обошла глазами.
— Я мигом. — И глянула в окно: — Ой, и благодать!
Мокрая дымчатая ветка сосны, тяжелая, как виноградная гроздь, свисала за
окном. И Саня вдруг обрадовался чему-то в своей жизни. Чему-то, связанному с
этой сосной и солнцем сквозь мокрый туман и с этим Нининым сном и пробуждением.
Он выпрыгнул из машины в мокрую траву и вдруг прошелся на руках, как в детстве,
слыша кожей ладоней и разверстыми ноздрями запах земли и травы, их нетронутый
холодок!
— Ну, вот что, — сказал Сазонов, когда все собрались к завтраку. —
Припасы сложим и экономить будем, — я ведь не смеюсь, отсюда не выехать. А ты,
девчоночка, будешь хозяйкой. И все мы тебя будем слушать. — Он погасил наглый
огонек в глазах и с широкой душой дарил ей власть, и лес, и уверенность в
силах. — Ты места здешние знаешь?
— Как их знать — лес на сто верст кругом.
— А река есть?
— Должна быть. От нас, из села, идет в него река.
— Ну вот, поищем.
После завтрака взял ведро:
— Пошли-ка.
— Минуточку, Степан Егорыч, — отозвал Попов. — Мы с вами мало знакомы,
конечно. Но девочку эту не обижайте.
— Вы что? — зло прищурился Сазонов.
— Нет, вы не сердитесь, пожалуйста. Я не в смысле там... подозрений. Но
она мне, как дочь. Понимаете? Я, если хотите знать, жизнь за нее положу. Жизнь.
Поняли? — Глаза его были мокры, руки сжаты у груди.
Сазонов пожал плечами:
— На вас часто находит?
Попов опустил руки, обмяк:
— Я так только, предупредить.
Вехов всего раз слышал, как Нина пела.
Она возвращалась с полным ведерком и пела. Может, это был ее самый
счастливый день — раз ей так много подарили. А песня была чудная, старая:
Ой ли́, ой
люли́,
Полюбила писаря.
Писаришка молодой
Не велит худо ходить.
Ой ли, ой люли,
Велит платьице носить...
Голос у нее был резкий и ровный, как из деревянного гудка. Странный
очень голос: звериный, птичий, не человечий какой-то, не девичий. Будто только
для этого леса. И она, может, знала это. Теперь вот, в редакции, не поет. Не
напевает даже.
В редакции она отрешенно сидит за своим секретарским столом перед
кабинетом Сазонова и все забывает. Забывает наточить карандаши, забывает
передать, что звонил секретарь обкома, забывает разобрать почту. Вехов из своей
комнаты постоянно видит ее нахохленную фигурку.
— Вы бы полили цветы, Нина, — говорит ей Кира Петровна. И в интонации
ее: «все равно ничего не делаете».
— Сейчас. — Нина точно просыпается и выходит из комнаты.
— Кто это здесь столько цветов развел? — спросил однажды Вехов.
— Мне они нравятся, — ответила
Кира Петровна, и слова ее как-то исподволь бросили тень на того, кому они не нравятся.
Вехов начинал привыкать к ее словам с тенями. А сперва смущался.
Иногда Кира Петровна покровительственно обнимала Нину:
— Ну, как вам наша девочка?
— Очень, — искренне отвечал Вехов.
А потом, задерживаясь на работе, Кира Петровна разбирала на Нинином
столе почту:
— Поработаем за главредовскую жену. — И удивлялась: — Она вам правда
нравится?
— Конечно.
— Секретарская красота.
Кира Петровна любила наставлять: усядется вальяжно на неудобный
посетительский стул напротив Нины и начнет:
— Ты поищи, девушка, «Мильву».
— Мильва? — Нине, верно, нравится, как звучит: «Мильва...»
— Тебе будут предлагать другое — не соглашайся.
— Не буду. Ни за что!
Это как игра или песня «Уж я золото хороню-хороню...».
Идет девушка из города в город:
— Мильва...
— Нет, нету.
Идет через села и деревни:
— Мильву мне...
— Нету.
Ей предлагают золотые кольца и красивые платья.
— Нет, мне Мильву...
— Есть еще «Мильвок», — продолжает Кира Петровна. — Но это не то. В
«Мильве» замочишь, прокипятишь, оставишь на ночь. Утром откроешь — оттуда пар
валит!
— Почему? — подается вперед Нина.
— Да белье остыть не успеет. — И тень от слов: «вот бестолковая!» —
Вынимаешь белье белоснежное, — продолжает Кира Петровна. Но Нина уже не
слушает, будто ждала и не дождалась чего-то другого.
— Я поищу, — говорит она и, нетвердо ступая тонкими ногами, идет к двери.
Кира Петровна обиженно оглядывается на Вехова.
— Передаете опыт? — только чтобы помочь ей, спрашивает он.
— Приходится. Неудобно все же: главный редактор, а воротнички застираны.
И воодушевляется:
— Вы у них дома не бывали? Страшно вспомнить! Посуда немытая, пылищи на
полметра. Сама вот такая же сонная ходит. И где он ее выкопал. Двух детей
бросил...
— Значит, нравится, — чтобы кончить с этим, говорит Саня.
— Знаете ли вы, мужчины, что вам нравится?! Кто вами помыкает, тот и
хорош. И не смейтесь, пожалуйста. Такой человек... а она его с костями съела!
Он ее и секретарем-то посадил, чтоб на глазах была. Ведь к любому перекинется!
Тут случай был...
Сане не хочется знать про это.
— Какое нам дело? — говорит он. — Какое нам до это-то дело, Кира
Петровна?
«Жена и секретарь, — думает он. — Кому бы другому — не позволили».
А вот теперь, на летучке, Саня вытягивает голову — поглядеть на сазоновский
воротничок.
Сазонов мирно восседает за столом, не сильно возвышаясь над ним. Обзор
номера кончился, чуть разрядилось магнитное поле. Но у главного есть еще
замечания.
— Как вы думаете, — устало потирая глаза, спрашивает он. — Как вы
полагаете, почему на нашу газету в селах подписываются больше, чем на
центральные?
Все молчат. Они не думали над этим. Работали, и все. И теперь им
неловко.
— Ну, вы, Смагин?
Молодой человек рассекает воздух узким телом, по школьной привычке
встает.
— Я полагаю, просто дешевле. Вот и весь секрет.
Сазонова что-то покоробило. Может, эта уверенная ухмылка. Или что свели
его глубокую мысль к не стоящему внимания пустяку.
— Спасибо, Смагин. Утешил старика. То есть совсем бы утешил, если бы
разница не составляла рубль в год. Полтинник в полугодие. Это не расчет.
Садитесь.
Юный Смагин пылает лицом.
На него глядят безо всякого сочувствия.
А воротничок из-под добротного сазоновского пиджака обыкновенный.
Воротник как воротник. Нашла ли она эту «Мильву»? Да для Сазонова и не важно —
что на нем. В лесу он ходил в майке и подвернутых штанах. Он был коротконог, не
в меру широкоплеч, с толстой короткой шеей. Но не смущался. Был значительней
своей внешности, не думал о ней. И когда остановил на Нине нахальные и жадные
глаза, тоже рассчитывал не на внешность. Он поглядел на Нину так в первый же
день. А когда она потянулась к Вехову (было и такое в их лесной жизни), не
обиделся. Это вроде бы даже подхлестнуло его. А веховское отречение от Нины (и
это было!) — размагнитило. Это уж точно. Тогда для него Нина будто потеряла в
цене. А она уж привыкла нравиться, не понимала, в чем дело.
— Что такое абориген? — спросила она однажды у Михаила Алексеевича.
— Дикарь, — ответил Попов и насторожился: — Это Сазонов сказал?
— Почему же дикарь? — Нина насупилась, точно вобрала в себя глаза.
— Смотря, о чем разговор был, — попытался дознаться Попов. — Абориген...
Местный житель еще, вот кто, — желая ободрить ее, добавил он.
Нина покачала головой:
— Значит, и так и так понимай, — она огорчилась. Но потом, видно,
переломила себя и, когда из лесу послышалось насвистывание, вскочила — бежать.
— Куда ты? — заворчал Попов.
— Это Степан Егорыч хворост несет. Помогу.
— Подружились?
Она кивнула:
— Он веселый.
Этому Попов ничего не мог противопоставить.
— Вы скажите ему, Саня... — начал было Михаил Алексеевич и махнул рукой.
Дни стояли парные, солнечные, а ночами лил дождь. Тонваген врос колесами
в глину, стал частью леса. Уже прекратились разговоры о тракторе, о тягаче — в
это болото едва ли что могло притащиться.
— Век теперь здесь будем? — сердился Попов.
— Я отвечаю, Мика, не волнуйтесь, — говорил Сазонов.
Он, видно, и правда собирался сдавать экзамены: целыми днями учил
английский. Нина садилась поодаль и слушала.
— Ты просверлишь меня глазами, — говорил Сазонов, отрываясь от учебника.
— Иди помоги Мике, он совсем скис.
Она, высекая злую искру из глаз, шла. Мика раскладывал на поляне мокрый
хворост: педантично, ветка к ветке.
— А, Нинок! — Он всегда был рад ей. — Давай, дочка, помогай. Пускай они
подсохнут на солнышке.
Однажды Нина вдруг заплакала. Свернулась в комочек под деревом и ну
слезы лить. Может, вспомнила свое, домашнее, может, так, израсходовался запас
тепла. Сазонов в два прыжка оказался возле. Он гладил ее волосы.
— Не плачь, девочка. Солнышко. Голубушка.
Она подняла вдруг зареванную мордочку, улыбнулась:
— Ты хорошо говорил как!
Вехова раздражала эта игра, — связался черт с младенцем. Сазонов
заговаривал с ним, а он уходил от разговоров.
— Настройся на мой приемник, — сказал тогда Сазонов.
Вехов удивился:
— А тебе разве не все равно?
— Что ты!
Тон был искренний. Сазонов владел своим обаянием, как хороший певец
голосом.
— Ты за Мику, что ли, болеешь? Не бойсь, не пропадет.
— Что мне Мика? — Вехов сам слышал холодок своего голоса.
— Ну так чего ж тогда?
— Больно хамишь... И кому оно здесь нужно, твое хамство?
— Могу позволить себе, вот что, — с готовностью ответил Сазонов. — Могу
себе позволить. — И сразу отмахнулся: — К черту Мику. Знаешь, Саня, я часто о
тебе думаю. И мне кажется: не будешь ты журналистом. Нет, не будешь.
— Это почему?
— Для журналиста ты мало любопытен. То есть, к факту не любопытен. И
активности у тебя нет. Жизненной. Ты рассказы не пробовал писать? — И без
жалости бросал под ноги дружбе свое: — Я тебе завидую. Ты по лесу ходишь, тебе
интересно. А мне скучно. Не хватает радио, людей, суеты.
Вехов и правда в те последние дни жил взахлеб. Лес точно принял его. Не
пусто, не все равно глядели они в глаза друг другу. Там была перегнутая через
тропинку береза. Она окликнула его, позвала. Иначе бы он прошел мимо. А тут
остановился и узнал. Узнал кору берестяную, черно-белую, под которой тайные
соки почвы и облаков, — вечное общение земли и неба.
И она, береза, это знает: так надо. На ней еще жизнь — мох. Пьет ее
понемногу. Она и это знает. Что ж? Пусть. На мшистой подстилке — семена такой
же березы. Перезимовали? Или ждут, когда она рухнет наземь, чтобы пойти
ветвисто вглубь и вверх? А окликнула она просто так, не из любопытства (как
ты?) и не для похвальбы (вот, мол, служу), а без корысти, по дружбе. И потом уж
все заговорили — старые, молодые, корявые и гладенькие. Встретились! И Вехову
тогда все хотелось сказать об этом и он для себя вложил это в одну строку:
«Расцвел и отцвел мухомор». Хотя мухоморы еще были под землей. Все ходил и
повторял. Это был серый мухомор на длинном стебле с дымчатыми накрапами и
пыльцой на широкой шляпе — знакомый с детства. И сейчас, на летучке, Вехов
вспомнил его осанку и запах — так пахла бы наперченная трава...
— Нет, уважаемая Кира Петровна, нет! — вдруг повысил голос Сазонов.
— Я ничего не говори... — вздрогнула от сазоновского окрика достойная
женщина.
— Вы не говорили, — перебил Сазонов, — и напрасно. Потому что именно вас это касается. А для вас это — полная
тайна. И уж раз вы молчите, я скажу. Читатели потому покупают нашу газету, что хотят узнать о себе.
Понимаете? О своем колхозе, о соседней фабрике, о заведующем фермой Петре
Петровиче, которого знают в лицо. Понятно? И отдел писем... И вы, товарищ
Смагин, и вы... Курепов...
Вехову казалось, что каждый из них вскакивает, отдает честь.
— Я!
— Здесь!
— Рад служить!
И чтобы не настроиться на эту волну, он опять ушел в ту пятилетней
давности историю, и теперь она поворачивалась другим боком, и это чуть меняло
освещение. Вехов вспомнил, как в конце лесной жизни их малое общество начало
вдруг лихорадить. Мика с недовольной физиономией ходил за Ниной по пятам и, как
говорил Сазонов, «учил жить». Помрачнела и как-то одичала Нина. Даже Сазонов
развивал бурную энергию, ни на кого не глядя. У него было все для воздействия
на природу: ружье, топор, спички. И они уже несколько дней жарили в углях
подбитых Сазоновым дроздов. Но каждое его нарочно резкое движение было в укор
им, растяпам. Да что «даже Сазонов!» — все шло от него. Он будто тренировал на
них свою недобрую волю, — только Вехов тогда не понимал этого.
— Хватит болтать, — говорил он за обедом, когда Мика открывал рот, чтобы
рассказать «об одной потрясающе интересной командировке!».
— Скорее бы сохло! — провозглашал он, поглядывая на небо. — Надоело тут,
сил нет.
И Вехову становилось неловко: неинтересные они люди, скучно с ними
Сазонову.
— Дождя не будет, завтра тронем. Ох, не дождусь.
После этих слов и Нина съежилась. Сазонов смягчил взгляд:
— Ты гулять не собираешься?
— Я... Я пойду.
Сазонов полюбовался радостью и надеждой, и какой это дало симпатичный
сплав.
— Тогда набери щавелю, пожалуйста. Щи сваришь.
Нина не заплакала (а с секунду казалось, что заплачет). Она встала,
выпрямилась и вдруг улыбнулась через побелевшее лицо неожиданной своей уверенной
улыбкой:
— Была бы честь предложена.
И пошла через поляну.
— Фью! — свистнул Сазонов удивленно. — А вы, Мика, делали волну!
— Что? — не понял тот.
— Волну делали. Волновались.
— Вы мне отвратительны! — срываясь на писк, крикнул Попов. — И я... я...
Сазонов не дослушал.
Когда уже позже Нина сидела и перебирала над ведерком щавель, Сазонов,
раскачиваясь, подошел к ней, галантно поднес гриб. Это был отличный живой
сморчок — коричневые складки, струящаяся шляпка.
— Спасибо, — серьезно и смело сказала Нина.
— Ты, кажется, неравнодушна к сморчкам?
Она воровато оглянулась и засмеялась. Так был предан Мика, вообразивший
себя защитником. Мика с его покойной детолюбивой женой и прищемленным в детстве
ухом.
Но он еще был на страже. Он не знал, что снят с поста.
А сквозь черные ветки остро прорезались последние оранжевые лучи. Над
лучами тяжело возились большие черные птицы. Резкие краски, резкий запах земли
и смол, резкое, до хрипоты, ощущение молодости, и силы, и ожидания.
— Там, на поляне, — сказал Сазонов за ужином — его наглые глаза были
обращены к огню костра, — там, на поляне, Нина, отличный стог сена.
— Ну и что? — поперхнувшись, прошипел Попов.
— Ничего, Мика. Это я не вам.
И Вехову тоже захотелось крикнуть, разбросать головешки костра или,
может, кинуться на Сазонова — сделать что-нибудь несуразное, нелепое!..
Разбить, только бы разбить это поле недоброго притяжения!
А вместо этого он размалывал зубами дроздиные косточки — может, правда
мало жизненной активности? — и слышал, слышал боком, плечом, рукой, как
напряжена Нина.
— Нина! — позвал Сазонов. И она вздрогнула. — Нина, ты когда-нибудь
видела, как переливают из кринки молоко?
Нина промолчала — не поняла, к чему это он.
— Ведь жила в деревне, видела?
— Ну, видела.
— Как?
— Хоп — и все! — Она засмеялась, по-детски взмахнула руками.
— Вот именно. Я про то и говорю. Хоп — и все. Смело. Понятно?
Нина опустила глаза и не кивнула. Ей было понятно.
Она сжалась, будто озябла. Встала. И покорно пошла в лес, к тому стогу,
к той поляне, откуда вышел Сазонов с прекрасным грибом сморчком — коричневые
складки, струящаяся шляпка.
Вехов тоже встал. И пошел в другую сторону. («Их дело, их личное дело».)
Уже издалека, из-за черных дерев, видел он, как не спеша поднялся Сазонов и
шагнул в темноту за Ниной. И слышал старческий бессмысленный крик Попова:
— Это вам не будет! Это вам не будет!
И Мика тоже затрусил от костра, но не в лес, а к тонвагену.
Вехов шел и шел, уходил подальше от их случайного лагеря, от себя, от
этой истории, которой участником не хотел быть.
И все не мог отойти мыслью и кружил, кружил, и все ему казалось, что он
должен был вмешаться, хотя это и выглядело бы смешно. И Нина была отвратительна
в своей покорности, и снова думал: надо, надо было вмешаться — это злая сила,
ее нельзя оставлять развязанной...
Потом постепенно стали путаться ветки, звезды и мысли, и опять пришло: «Их
дело, их личное дело». И когда Вехов услыхал очень далекий выстрел, он понял,
как долго шел, и уже с тенью благодарности подумал о Сазонове: «Вспомнил! Дал
сигнал, чтоб не заблудился...» И еще: «Вспомнил — все, значит, обошлось». И зашагал
назад, успокоенный тишиной ночного леса, сам сродни этим веткам, птицам,
проснувшимся зверькам.
Человек и травинка и та вон звезда. Они в тебе, и ты в них. И каждый
зачем-то нужен и не нужен в конечном счете. И все движется. И ты движешься,
кроха, крупица сознания. И движутся сосны, но иначе, — крупицы сознания,
пущенного в другую сторону и потому с твоим не сталкиваемого. Это мудро, что
травы, и звери, и деревья, и люди не пересекаются в сознании своем. Они бы не
могли жить. Они бы истоньшились. Столько нервов нельзя переплести над миром.
Он шел и пел об этом, как поют те, у кого есть горло: а-а-а. А деревья
пели куда-то в ином направлении. Но то же. И травы, и валуны.
Так он включился тогда в движение вселенной. В сознание ее. В лесу.
Ночью. По дороге к временному их пристанищу.
Нина сидела у костра — черный пенек с глазами — и кипятила чай.
Или не кипятила. Может, просто думала. Потому что в лагере никого не
было.
— Где они? — спросил Вехов.
— Сазонова убили. Он убил Сазонова!
И заплакала.
Утром Вехов кое-как вывел тонваген из леса, сдал в ближайшую больницу
Сазонова (он потерял много крови и был без сознания) и дрожащего, мертво-белого
Попова. И поездом уехал в Москву.
— Я надеюсь, вы не устали? — сказал Сазонов и обласкал подчиненных
потеплевшим взглядом. — Я должен задержать вас еще несколько минут. Во время
моего отпуска...
Он снял трубку местного телефона:
— Нина, подшивку за прошлый месяц, — и устало опустил голову, ожидая
этой подшивки. И все опустили головы, ожидая. Что там было? В чем виноваты?
Может, они надеялись, что он не будет читать, если отпуск...
Вошла Нина. Отрешенная тишина, которая была в ней, не столкнулась с
кабинетной тишиной. Они были отдельно.
Сегодня перед летучкой Нина окликнула Вехова:
— Ты что ко мне никогда не подойдешь, Саня?
— Работы много, Нина. Стало много работы.
— Ты заходи. — И вдруг подалась вперед: — Вот ты что говоришь, я все понимаю.
А что другие — Кира Петровна, он, — кивнула на дверь кабинета, — нет, не понимаю.
Только шум слышу. Устаю от этого шума ужасно. А с тобой просторно.
Вехов глядел теперь, как она вошла, чутко, как по болотному мху, ступая
по ковру кабинета. И на стену легла зеленая тень. Потом Нина вышла. А тень
осталась.
Оленье, ланье перестукивание копытцами — ток-трук. Огромные, открытые
навстречу человеку глаза: может, сквозь них можно вырваться из звериной немоты.
Нина. И каждое зверушечье движение похоже на уход, убег от серых крашеных стен,
от стола, заваленного письмами и газетными листами, от этих нелепых цветов.
Оттолкнется разъезжающимися копытцами и перепрыгнет туда в свой лес, затеряется
среди знакомых стволов и веток!
— Побегим!
Она тогда сказала так: «побегим».
Она коряво говорила в те дни: за пять лет от того угловатого говора мало
что осталось.
...Они шли в тот день по лесу, искали сухую дорогу — надеялись привести
тягач. В самом начале еще надеялись на тягач. Но от дождей весь лес
заболотился, поляна с тонвагеном была вроде островка. Из-под ног выбивало
чистую травяную воду, между зелеными стволами осин, рядом — только руку
протяни, висел плотный туман, кое-где его пробивало, подцвечивало солнце. Нина
развесила на суках мокрые стоптанные туфли:
— Моя захоронка здесь будет.
Подняла голову к высоким, едва раскрывшим листья веткам и захлопала в
ладоши:
— Лес, лес, отдашь аль нет? — Потом приложила руки ко рту, прогудела
низко: — Не отдам!
И засмеялась:
— Я всегда найду. Летошний год оставила в лесу корзинку с грибами. Одни
белые. Корзина большая — не донести. Я и оставила. Потом пришла с подружкой.
Ну, точно привел кто: аккурат к той елочке вышла, где корзинку захоронила.
Саня глядел на ее растрепанные прямые волосы, на диковатые глаза: какая зверушка!
И презрительно ухмыльнулся той белокосой толстухе, которую ждал вместо нее.
Вот тогда Нина и крикнула вдруг:
— Побегим! — и запетляла среди елок и осин.
Саня побежал, провалился в ледяной омуток, и они вернулись на свою
поляну. И все время чего-то смеялись. И за обедом смеялись, когда Сазонов
наливал им из кружки воды прямо в ладони (это был суп), и потом, когда Мика
попросил Саню:
— Передайте, пожалуйста, нож.
Д Саня его:
— А вы мне, пожалуйста, хлеб.
— Спасибо.
— Спасибо.
И оба остановились: Мике нужен был нож, чтобы отрезать хлеба, а Сане —
хлеб, чтоб ножом от него отрезать.
— Теперь валяйте обратно, — сказал Сазонов. — Так и назовем сцену:
«Вежливость вместо пищи». В конце спектакля оба погибают от голода.
Они и потом — Вехов и Нина — много смеялись. Им было легко. «Зеленое
братство», — думал Вехов. Но не произносил. Это Мика пусть произносит!
И так было до той гадкой ночи, когда Саня не мог заснуть, а Попов и Нина
разговорились некстати.
Еще вечером они с Ниной бродили по лесу. А лес был сумеречный, неверно
угадывались стволы, и торчали черные наросты на них — то ли горбы, то ли
головы. В сером просвете среди черных веток бесшумно планировала летучая мышь.
Нина схватила Саню за руку, уткнула нос в его плечо:
— В тутошних местах лембо́й живет.
— Это кто?
— Не знаешь?
Нинины глаза расширились, меняя лицо.
— Бабушка Петровна его сама видела. Девчонкой еще. Пошла по ягоду и
зашла на болота. И попался ей хорошо убранный человек.
«Дай, говорит, ягоды».
«Бери».
Взял горсть, съел.
«Ну, иди, красавица».
Глянула, а он-то синеобразен!
— Как это? — не понял Саня.
— Ну, говорится так. Кровь у него темная. Как бабушка Петровна увидела
это — скорей бежать! Прямо, говорит, по грязи, по болотам лёпсяла!
Нина засмеялась. Потом тише добавила:
— Оглянулась, а человека этого нет. Нигде, ни везде. Он это был. Лембо́й.
— Кто же он? — опять спросил Саня. — Черт, что ли?
— Нет, лембо́й. Он заклятых
уносит.
— Каких?
— Заклятых. Это кого ближние заклянут, ну — отринут: «возьми тебя»
скажут, или «пропади ты», или еще как... Он того и возьмет.
Саня слышал в ее голосе эдакую удаль, — ведь о ней-то небось не раз было
говорено дома: «пропади ты». И спрятанный смех слышал: не верила в сказку, и
верила, и храбрилась.
— Куда же возьмет?
Его чем-то затронула эта игра. Может, тем, что вела ее Нина, а может,
языческой своей стародавностью.
— А в услужение возьмет, вот куда. Или еще в жены.
Саня остановился, поглядел на ее темное в темноте лицо, огромные
лихорадочные глаза и засмеялся.
— Ты чего? — спросила Нина и снова прижалась к его плечу: — Саня, ты
меня лембо́ю не отдавай.
— Ни за что на свете, — опять засмеялся Саня.
Она запрокинула голову и своим лесным, звериным, птичьим голосом запела
в небо, в звезды:
Заговор, заговор,
Понавечный уговор! —
и вдруг
закинула руки ему за шею, и он, уже не противясь себе, стал целовать ее жесткие
волосы и потом щеки, ощущая губами смуглоту холодной кожи и скрытый под нею
жар.
И тут совсем рядом вспыхнуло, плеснуло желтым светом на ближние шершавые
стволы.
Это Сазонов развел костер.
— Эгей! Загулялись! — крикнул он.
И видно было, как он косолапо идет им навстречу по поляне, и красно-черные
тени пляшут за его спиной.
А потом была эта гадкая ночь. Саня, как назло, не спал, а только делал
вид, а Попов и Нина разговорились некстати. И все этому Мике надо было знать, и
он спрашивал, спрашивал. А ей, видно, надо было рассказать, не отжило еще. И
вот рассказывала.
Так он и записался в веховской памяти весь этот дурацкий разговор.
— Почему из дома-то едешь? — допытывал Нину Попов. Он, святой человек,
ничего не знал.
— Мамка гонит, — ответила Нина.
— Как же это гонит?
Вехов чуть приподнял голову, больно тихо она говорила.
— А вот так. Как мой папка помер, мне годов пять было, она за этого, за
учителя, вышла, а меня в детский дом отдала. А потом приезжает: «Поедем, дочка,
домой». А я уж там семь лет прожила, привыкла. Петь меня учили. У меня голос
был хороший. Ну, к мамке-то всем хочется. А потом соседка сказала: не порожняя
она. Ребеночка ждет, вот нянька и потребовалась. А уж дочушка у ней родилась.
Беленькая, чистенькая, как кочерыжечка! Очень благоприятная девочка.
— Ну, ну, дальше-то что?
— А ничего. Теперь в детский садик ходит. Переболела, правда, зимой.
— А с тобой-то как?
— Да никак. Вот поехала я на зимние каникулы к бабушке Марии, в райцентр.
Ну, никто, никто там девчонки с косами не ходят. И я отрезала. Приезжаю, а Филипп-то
Петрович, мамкин муж, говорит:
«Ты что как срамно причесалась. И без спросу все?! И не стыдно?»
Ну, я молчу. А вечером пошла к подружке и припозднилась. Мальчик меня,
правда, проводил. Возвращаюсь, а Филипп Петрович в окно, что ли, увидел. Отпер
мне дверь, да как заругается.
«Это что, — говорит, — за потаскушка стала! Чтоб я тебя больше с парнями
не видал! Школьница называется!»
И так мне обидно. Я раньше-то все молчала, а тут и говорю, — сама даже
не знаю, как посмела.
«Не вам, — говорю, — Филипп Петрович, меня поведением утыкать».
А он:
«Почему такое?»
«Потому, — говорю, — что если я школьница, то чего же вы ко мне на
постелю приходите, когда мамки нет!» Сказала и обмерла прямо: что наделала!
И Нина вдруг тихонько засмеялась:
— Ох, тут и было!
— Это правда? — ахнул Мика. — Ведь он же учитель, ты говоришь?
— Что ж учитель. Я зря наговаривать не стану. Второй уж год.
— Бедная девочка. Бедная, бедная девочка...
А Вехову вдруг стало душно от злости на нее и отвращения: как говорила
легко! И как засмеялась!..
Злоба требует почина.
Есть поля, и есть поляны,
Там, где солнышко — по лани
Через ветки, вперехлест:
Пятна,
Пятнышки,
Пятнашки...
Саня прямо здесь, на летучке, стал вспоминать строки, потому что ему
показалось, что он сможет дальше. И правда.
Злоба требует почина.
Есть лицо,
И есть личина,
Где не цвет уже, а масть...
...Саня встретил острый взгляд Сазонова. Отложил блокнот.
— Это письмо, товарищ Вехов, нельзя было сдавать в набор.
Вехов не сдавал еще ни одного письма. И сказал об этом.
Сазонов миролюбиво качнул головой: знаю, мол, знаю.
— Это крик души, а не письмо. А его набрали петитом. Крик души —
петитом.
В углу окаменела, гордо вскинув побелевшее лицо, Кира Петровна. Это она
велела набрать крик души. На достойную женщину глядели без всякого сочувствия.
Сазонов был прав, он всегда был прав.
И Саня ощутил в груди облегченный вздох, нет — радость, праздник,
оттого, что не он — вот удача! — не он навлек сазоновское недовольство! И,
осаживая себя, встал, чтоб уйти, четко понимая, что — останься он здесь, в этом
поле притяжения, — не в другой, так в третий раз проиграет сражение с самим
собой.
И, думая так, неожиданно для себя вдруг сказал ту нелепую Микину фразу:
— Это вам не будет... Это вам не будет...
На него оглянулись. Смотрели, разумеется, без всякого сочувствия. Все
без сочувствия. И только один — с пониманием.
Саня Вехов шел по осеннему лесу, по земле его, бурой от поганок и
опавшего листа. Шел быстро, будто ждало его дело. И опять, как обычно бывало с
ним в лесу, все перепутывалось, мешалось:
прозелень голых осин, черные дубровые сучки;
и мысли об этом лесе, что, в общем-то, это был поступок — бросить
устоявшуюся московскую жизнь, приехать сюда. А теперь вот, может, придется все
переиграть;
и рядом с этими мыслями синели туманом заболоченные поляны с пожухлой
осокой;
и наглые рыжие глаза глядели из-за всех стволов, и обнажался желтый клык
— «могу позволить себе, понимаешь, Саня? Могу себе позволить!» И не узнать мог
себе позволить, и прикрикнуть — что хочешь мог;
и тепло, неуходящее тепло к Анисье Тимофеевне, доброй хозяйке... «Се́ц поку́сай...» О ней, о ней он все же будет писать, — о сыне ее, о доброте, о
достоинстве, с каким принимает людей в свою жизнь и отпускает.
Нина тоже вспомнилась, — диковатые глаза на темном лице — «в тутошних
местах лембо́й живет... Он заклятых уносит.
— Как это?
— Кого ближние заклянут, ну отринут...»
Что-то метнулось в кустах. Саня разом остановился. Нет, тихо. Тот,
лесной, может, тоже застыл, испугался. И видел, как испугался Саня.
«Это вам не будет!» — глупо, глупо как получилось на летучке. Ну и пусть
глупо. Пусть! Лишь бы не заклясть, не отринуть в себе то, чем дорожишь...
И опять замелькали пестро-бурые листья на земле, побелевшие в сумерках
березы.
Там, за мостом, в бревенчатом доме, уже зажгла, наверно, настольную
лампу старая женщина. И краешком глаза глянула на странную картинку на стене:
по синему полю — белые круги. «Вот тебе и дурачок — выучился как!»
А над лесом кричала вечерняя птица, и в просветах между голыми ветками, натыкаясь друг на друга и меняясь в облике, бежали облака.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





