ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


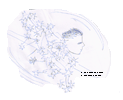
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Гурченко Людмила 1987
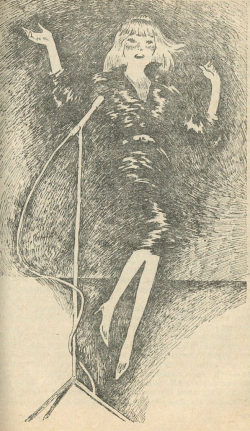
ОПЯТЬ ПРЕМЬЕРА
Завтра
вечером, 26 декабря 1982 года, состоится премьера, которая в моей жизни явится
не просто премьерой очередного художественного фильма, а событием совершенно
особым, как бы повторяющим через двадцать шесть лет, именно в конце такого же декабря,
то, о котором я рассказывала выше. А ведь ни на одной из последних картин мне и
в голову не забредала подобная мысль — оглянуться в прошлое...
Начиная
с февраля этого года, каждый день на съемке я встречалась с человеком, с
которым все эти долгие годы нас незаметно связывала тонкая ниточка. Тогда, в
молодом возрасте, нас обоих настигла шумная слава. И этот шлейф сенсационного
прошлого связывал с нашими именами и восторги, ну и улыбочки, и, конечно,
насмешечки. Ну-ка, а теперь как? Через четверть-то века?
Эльдар
Рязанов. Постарел? Нет. Погрузнел? Ого! Что, стал крупным мастером, метром?
Стал. Можно почивать на лаврах и срывать цветы славы? Такую мучительную неудовлетворенность
собой встречала редко.
По-прежнему
жизнерадостен. Доброжелателен. Предан друзьям. Жизнелюбив. Ироничен к своей
персоне. Депрессию переносит тяжело, но быстро ее побеждает. Счастлив, если
вокруг атмосфера острого юмора. Таким я открыла его через двадцать шесть лет.
На съемках картины «Вокзал для двоих».
Было
ли у нас «на заре туманной юности» взаимопонимание? Нет. Не было. Наоборот.
Было неприятие. Ему категорически не нравились мои штучки-дрючки. А мне
категорически — его упрощенное, «несинкопированное» видение вещей. Я млела от
чувственных джазовых гармоний. Ему нравились песенки под гитару: «Вагончик
тронется, перрон останется». Антиподы? Хотя работали нормально, если не считать
нескольких вспышек раздражения, которое я вызвала у режиссера своей
манерностью. Работали без пылкой любви, что вполне нормально в отношениях
режиссера и актера. Может, потому я никогда и не страдала, что не снималась у
него. И думаю, это взаимно. Поработали и разошлись. А потом сами были удивлены,
что «Карнавальная ночь» имела такой ошеломительный успех. В 1959 году в
небольшой роли приняла участие в его фильме «По ту сторону радуги». В 1962 году
вместе с Вячеславом Тихоновым «пробовалась» в фильм «Гусарская баллада».
Тихонов тогда только начинал свое прекрасное восхождение, а у меня было
время... Но о нем впереди. Думаю, та проба была далеко не лучшая в моей жизни.
В 1974 году вместе с Андреем Мироновым еще раз «пробовалась» в фильм «Ирония
судьбы». Но я как-то не почувствовала, что режиссер ищет новую лирическую
интонацию. И на пробе «давила бодряка». Тоже обидно, что не снималась. Но...
Но
все же проба в «Гусарской балладе» мне запомнилась крепко. В те дни произошла
одна маленькая кинематографическая историйка. Маленькая нелепая историйка,
которая развела нас с режиссером аж до 1980 года.
В
кино, когда фильм задействован, все профессии от помрежа до режиссера-постановщика
— главные винты и винтики. Есть такие винтики, которые входят в доверие к
рулевому и, пользуясь тем, что рулевой занят более важными проблемами, чем сплетни,
интриги, испорченный телефон — в удачный момент тихонько нашептывают и подливают
яду. Когда в пене, в мыле, в азарте режиссер тащит картину, любой дурацкой
реплике можно придать гиперболизированное значение. Остановиться, разобраться
нет сил, времени — план, люди, здоровье, актеры, студия, бессонница... Видно,
чем-то я то ли не угодила, то ли просто была неприятна тому винтику. Но яд был
пролит. И, как это ни обидно признать, очень талантливо. И в обе стороны. Я
насупилась. А режиссер как бы вычеркнул меня из своей творческой жизни. Так и
жили мы каждый в своем мире, пока лет десять назад виновник этой полузабытой
истории не напомнил о себе. Видно, совесть все-таки мучила, или что другое
заставило, бог его знает. Признался, вроде бы и шутя... Эх, люди, люди... Ну
узнала я. А ведь десять лет-то прошло! Что ж, звонить режиссеру? Мол, привет!
Все теперь прояснилось. А вдруг для него вообще все было не так? Подожду.
Жизнь, она сама расставит свои акценты. «Терпение, терпение, мой друг...»
Весна
1980 года, ВТО. Вечер в кругу артистов. Артисты в зале, артисты на сцене.
Замечательное веселое настроение. Маленький зал битком. Сижу, тесно прижатая к
чьей-то жаркой спине. Рядом очаровательная черноглазая женщина с короткой
стрижкой. Мне понравилось, как добро смотрит она на все вокруг. Кажется, я ее
где-то видела. Может, в кино? Да вроде нет... А, я ее видела на студии. Ну да,
на студии «Мосфильм». Чья-то жаркая спина потеснила меня, человек развернулся
ко мне лицом, и я сказала: «Ой, Эльдар Александрович, здравствуйте!» —
«Здравствуй, Люся... Познакомься, это моя жена Нина». Мы все трое улыбнулись
друг другу, словно не было обидных лет глупой размолвки. Она осталась в горьком
и несправедливом прошлом. Личное счастье кинематографиста — редкое счастье.
Такая встреча — кардинальный вопрос не только его судьбы, но и главного в его
жизни — творчества. Как иногда с восторгом обнаруживаешь в командировке,
экспедиции или в зарубежной поездке, что человек, которого ты считал
неприступным, угрюмым, заносчивым, вдруг оказывается таким милым, добрым,
компанейским и открытым. Ну просто диву даешься. Почему он дома не такой? Начинаешь
оправдывать — работа, усталость, заботы, неприятности. Возвращаешься домой.
Приходишь в какое-то общественное место. Увидишь этого новооткрытого человека,
захочешь броситься к нему и уже издали чувствуешь в нем неприступного, заносчивого,
угрюмого — того самого, каким он казался попервоначалу. Что такое? Почему так?
А, понятно... рядом близкие люди, члены семьи... Со временем смотришь его
работы на экране... Куда девалась былая открытость человека, любовь к людям,
широта?..
А
бывают встречи — прекрасные! «Ирония судьбы» — это совершенно новая, нежная
нота в творчестве Эльдара Рязанова. Я была еще вдалеке от режиссера, но шестым
чувством постигла, что в его жизни что-то произошло. Что-то сильно всколыхнуло
изнутри этого художника ранее дремавшее, но очень важное.
И
вот встреча. Как только я заговорила с той очаровательной женщиной на вечере в
ВТО, я все поняла. Я почувствовала в ней покой и надежность. За этой величавой
хрупкой женственностью, за нежным голосом скрывается стальная выдержка и воля.
Какое у нее сильное мужское рукопожатие. Она талантливый редактор, хотя никогда
не работает в картинах своего мужа-режиссера. А в «Вокзале» она была для нас
троих: Рязанова, Басилашвили и меня, всем — и первым зрителем только что
отснятого материала на мониторе. И покоем. И выдержкой. И стойкостью. И
терпением. И нашей любовью. На съемках я все смотрела на часы — когда же
кончится у нее рабочий день? Почему она задерживается?
Жаль,
на бумаге трудно передать атмосферу конца марафона, ведь каждый фильм — это
марафон. С первого дня в него впрягаются люди всех профессий. Каждый со своим
делом тянется вперед, не имея права замешкаться. И тут уж видно все: кто сошел
с дистанции, кто не справляется и кто отстал. Видно, как другие, подхватив
дополнительную нагрузку, тянутся из последних сил к финишу. К концу марафона
это уже не те прыткие кинематографисты, которым все ясно, сил полно, фантазия
бурлит, азарт перед новой картиной захлестывает. Через несколько месяцев съемок
это обессиленные, изменившиеся люди, потому что все силы отданы тому, что на
пленке. И больше топить нечем. Нечем топить! А еще нет финала, важнейшей сцены
в фильме.
В
«Вокзале» два финала: летний финал и зимний финал-эпилог. Первые съемки фильма
начались с зимнего эпилога. А самый последний съемочный день — летний финал.
Летний финал снимался в августе, на улице было +8°.
Через
всю картину в кадре два актера. Два актера? Обман зрения. За этими двумя
огромная махина — Вокзал. Он главный персонаж фильма о любви. Этот
«неодушевленный предмет» дышит, кипит, капризничает почище, чем самая несносная
кинозвезда. У него свои планы, расписания, опоздания, свидания и расставания. И
вот сейчас на этом вокзале произойдет двойное расставание — и
кинематографическое в сцене, и человеческое за кадром. Все готово, и только нет
поезда. Вполноги проходим мизансцену — для оператора, для техники. Большая
сцена одним куском с многочисленными переходами. Люди несут в руках осветительные
приборы, провода, кабели. А поезда нет и нет. Исчезло тусклое солнце. Пошел холодный
мелкий дождь. Узнаем, что по каким-то причинам поезд сможет быть в кадре вместо
получаса только двадцать минут. Успеем? Бьет колотун. Мы с Олегом Басилашвили,
как две собаки на зимовке, которым не дают есть, чтобы не заснули перед важной
дорогой, ходим туда-сюда, дрожим от холода и нервной трясучки. Последняя, самая
важная сцена прощания — выдержать, сыграть! Она наинакаленнейшая. А я уже не
могу. Кончаются физические силы, а главное, вера в себя. Она иссякает на
глазах. Еще несколько минут, и внутренний поезд моего финала промчится мимо. У
меня лицо голубеет от холода и от этой нервной трясучки. Ах, как мне нужно
немножко, ну совсем немножко тепла и веры. Нина, ну скажи, что веришь, что мы
проскочим. Неужели мне только кажется, что я не выдержу? Почему ты так
спокойна? Я смотрю на Эльдара. И вижу только абрис крупного торса, стянутое
серое лицо, а в воспаленных от бессонницы глазах боль и сопереживание. Как
важна сцена, как важна. Сколько же может держать на плечах эту железную
шарманку наш оператор Вадим Алисов? Хоть и молодой, сейчас он совсем не тот,
что был поначалу. Его прекрасные бархатные глаза, доставшиеся от красавицы
мамы, знаменитой «Бесприданницы», сузились и обесцветились. Ну что там с
поездом? Еще не показался? Черт, черт, черт! Вот уже и самый терпеливый в мире
партнер проявляет беспокойство. Какой интересный человек. Я бы на его месте
возненавидела меня на всю жизнь за проклятое дерганье, раздражительность,
придирчивость. Я бы на вашем месте, Олег Валерианович, послала бы меня далеко-далеко.
А вы терпите. Интересно, работали с актером, работали, общались-общались,
давились и лобызались в тесных купе в любовных сценах, но так и остались на
«вы». Но уже конец. Вот только покажется поезд, и понеслась наша последняя
встреча. И вы, Олег Валерианович, не будете больше мучиться в «Стреле» между
нашими съемками и спектаклями БДТ. И от меня отдохнете. А может, как-нибудь
ненароком вспомните... И даже взгрустнете, что все кончилось. Да, вы знаете, я
поняла одну вещь: какие бы качества и черты ни входили в понятие
«интеллигентный человек» — выдержанность, как у вас, — на первом месте. Ну что
же с поездом? Наша администрация с рупорами, переговорниками — все, как
чапаевцы, смотрят только в одном направлении — туда, откуда должен появиться
поезд. Олегу хорошо, он в пиджаке. А я в нейлоновой кофточке. От ветра в ней
как в холодильнике. А вот расслабься, убери на секунду боевую готовность — и
тут уж точно «схватишь туберкулез, дочурка, — ето як закон». Что? Уже
показался? А! А-а-а-а!!! Ну, как ты говорил, единственный на свете? «Вжарь, як
следуить быть, дочурчинка, в кровину, тысячи вовков твою матку зъешь!» Вот и
полегчало. Уже совсем легко, тепло, совсем тепло. «Внимание! Двинулись
паровозы... первые... так... вторые... пошли люди под мостом... так... пошла
массовка по мосту... так... Олег приготовился. Люся пошла — мото-о-о-ор!!!»
Как
избитые, спускаемся мы с того незабываемого моста «расставания». Во всем теле
такая пустота, такой тупик, что скажи повторить все сначала — нет, нет, ни за
какие блага на свете! Это же самый последний день, последний. Нина, что с
тобой? Бледная, слезы... Ты была так спокойна, так уверенна... Прости,
прости... Ох, как часто моя героиня цеплялась за твое хрупкое плечо.
Ну
вот и премьера. Вместо положенного одного вечернего сеанса в Большом и Белом
залах московского Дома кино назначили по три сеанса в обоих. Так бывает лишь во
время международных фестивалей. Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Олег
Басилашвили, Вадим Алисов, Александр Ширвиндт, художник Александр Борисов, композитор
Андрей Петров, Эльдар Рязанов — хочешь не хочешь, фыркай или принимай, но
каждый в какой-то мере «пророк» отечественного искусства. Пальто лежат вповалку
на перилах, на поручнях — не хватает номерков. Нет мест для группы, нет мест
для уважаемых людей. Неудобства, суета, нервы, неловкость. На сцену вышел
взволнованный Эльдар и, как всегда, откровенно сказал про то, что чувствует:
«Вы знаете, сегодня до трех ночи не спал, нервничал. Но вы пришли, и я так рад.
Приятно, когда хотят посмотреть твою картину. Спасибо».
Премьера
— это праздник. А у меня никак не получалось праздничного состояния. На радость
тоже нужны силы. На экране мелькают кадры, кадры... А за каждым из них...
За
эти годы мы с режиссером стали зрелыми людьми. У нас обоих выработались новые
мерки в оценке людей и друг друга. Теперь я знаю дорогую цену тем простым
гитарным трезвучиям, в которых таятся корни понимания миллионной аудитории. Это
особый дар — найти именно такое наисложнейшее, простое звучание. Как же нам,
двум новым людям, нужно было обоюдно тонко испытать силы друг друга, слить их
воедино и работать обязательно в дружбе и любви. В любви! Ведь фильм о любви.
Любовь в кадре. Она должна быть в атмосфере и за кадром. Надо было быть
предельно бдительным и тактичным. Нельзя было допустить намека на обидную
интонацию. Бережность, бережность, уважение и терпение. И забегу вперед:
взаимопонимание состоялось. С самого начала. Только поначалу робко, с
заминками. А потом все крепче. Все терпимее — к просчетам и ошибкам друг друга.
Потому что обоюдное уважение росло и крепло с каждым съемочным днем. И что
самое показательное — не прекратилось после конца этой работы. Когда каждый
занялся уже новым делом...
И
все же история работы над ролью Веры не совсем обычная. У меня еще не
выветрилось какое-то глупое, детское отношение при первом прочтении роли к
материалу. Оно состоит из сплошных эмоций, а реальность еще где-то
далеко-далеко. Это ворох восхищенных интонаций, неосознанных обрывков чего-то
услышанного. Короче, сразу одеваешься в роль, приходишь в такое возбуждение,
испытываешь такой замечательный эмоциональный подъем! Ну что за профессия такая
распрекрасная! А потом вдруг трезвеешь. Наступает прозрение. Это жестокая
метаморфоза. И начинаешь разрываться между прежним радужным многообещающим
замыслом и тем, что обнаружила, когда окунулась в роль.
В
этом фильме отрезвляющим обстоятельством явился типичный кинематографический
казус. Уходила зима, а последние кадры фильма — снег. «Снежный эпилог». Так
вот, если бы не «уходящая натура», фильм снимался бы с начала, с первого кадра,
а не с конца. И думаю, что это был бы уже совершенно другой фильм.
Первый,
самый первый съемочный день. А снимаем последние кадры картины. Настроение —
бодрячок. Шуточки, юмор, остроты, притирочки друг к другу. Веселый автобус мчит
съемочную группу по снежной дороге к Люберецким карьерам. От Москвы расстояние
— тьфу, а бескрайний снежный покров как в Ледовитом океане. Повторяюсь, но для
меня любая красота, где холод — это ужас, это война. Что ж, «зажав свое сердце
в руке», я делаю свое дело. Стремительно-любовным бегом покрываем расстояние
метров в пятьдесят с репликами типа: «Что ты собираешься делать, когда выйдешь
отсюда?» — «Жить с тобой, моя дорогая!» Сняли дубль. Но решили снять еще один.
А потом уже разбить тарелку на счастье. Есть такой ритуал — бить тарелку после
первого отснятого кадра. Осколки берут на память. У меня много таких памятных
сувениров. Снимаем второй дубль. Потом и третий... Несколько дней тому назад я
еще находилась в тропической стране на всемирном кинофестивале — в Маниле, на
Филиппинах. Там жара. Вода в океане горячая — моя. Организм за двенадцать дней
только-только попривык к тропическому жаркому климату, а мы — вот уже и в
Москве. А тут родные русские морозцы в полном разгаре — двадцать два градуса
ниже нуля. После третьего дубля чувствую — дыхание ни туда, ни сюда. Голова
закружилась, покрываюсь испариной, подкатывает тошнота. И я начинаю тихо и
безропотно умирать. Прошептала гримеру, что мне плохо. Вползаю в обледенелый
автобус. Но мне уже не холодно. Или холодно, не знаю. Мне уже все равно. Сухими
губами ловлю валидол. И запаха нашатыря не чувствую. Но вслушиваюсь и соображаю
изо всех сил! Тянутся все жилки к жизни, преодолевают. Но так слабо, как в том
надвигающемся мрачном наркозе, с которым справиться уже не в твоих силах.
Значит, вот как это происходит... Внутри все притихло. Ну хоть бы что-нибудь
булькнуло. Гример по моему взгляду понимает, что пока не надо никому говорить.
Там, за окном автобуса, кипит жизнь! Перекур. Сейчас разобьют тарелку. А во
втором кадре «ребятки» (это мы с Олегом Басилашвили) побегут сначала на камеру,
а потом камера будет снимать их в спину. А они будут бежать долго-долго, пока
не превратятся в две черные точки на белом снегу. Не хочу, не хочу превращаться
в черную точку. Неужели же я вот так, без сопротивления, вот так вяло, нелепо
сдамся, уйду еще дальше, перестану слышать и соображать? Неужели папе тоже
приходилось вот так же исчезать? Он был на краю несколько раз, но поднимался.
Папа, папочка... Захотелось плакать, участилось дыхание. Хорошо же я начинаю
новую роль. Эльдар говорил, что моя Вера любит героя по-настоящему. Как это
«по-настоящему»? Как в первый и последний раз? Сама умрет, но его спасет? Как
декабристки? Понятно, это не Офелия и не Джульетта. «Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдет». Так, что ли?.. Мамочка, как ты. Да, как ты! Выдержала
войну, выучила меня, вырастила Машу, прожила рядом с нашим папой. Ну неужели же
я с собой не справлюсь? Силы небесные, ведь это так несправедливо. Неужели эти
первые кадры могут быть моими последними? Это невозможно. Ой-ой-ой, сейчас, вот
сию минуту я точно ощутила это состояние, только сейчас... Я уловила единственную
верную интонацию финала роли. Ах, черт, только первый день, а уже финал. Без
разгона бросайся сломя голову в первый финальный кадр. Ну что ж, умру вместе с
Верой. Но дотяну героя, спасу его! Он не опоздает к утренней поверке. Ноги
ватные, губы вякают. Глупо подморгнула гримерше. «Люся готова? Олег готов?
Давайте дальше, ребятки мои милые». Ну, Эльдар, иду умирать. И пусть это будет
на экране. Стыдно тебе за меня не будет. Господи, как там у Пастернака? Ну,
память, память... Сейчас мне это очень нужно... «Не читки требует с актера, а
полной гибели всерьез». Гибель всерьез — вот, вот, вот оно.
Теперь
я буду всю роль профильтровывать через состояние правды в финальной сцене.
Теперь я не буду хвататься за возможные комедийные краски, чтобы вызвать
желанную реакцию смеха. Пусть улыбка, ее предостаточно. Перестройка шла на
ходу. Правда жизненных ситуаций диктовала другой стиль картины. Совсем иной,
чем тот, который виделся авторам за рабочим столом вдали от вокзала с его
трагикомическими буднями и настоящими человеческими перевоплощениями. Картина
Эльдара Рязанова вырвалась в реальную жизнь. И, как гибкий художник, он услышал
эту интонацию. И на ходу перестраивал картину по новому камертону. В фильме не
появилось ни одной новой сцены. Но каждая сцена сценария перестраивалась
изнутри. Один из авторов сценария сам режиссер — ему и карты в руки. И фильм
вбирал новые и новые — самые узнаваемые краски, реплики, которые только надо
было уметь отобрать из реальной жизни, что бурлила вокруг нас. При этом
режиссер везде находил «плюс», приподнятость над обыденным, остроту, что так
характерно для его таланта.
Премьера.
Публика реагирует так, как, наверное, мечталось режиссеру. А вот и первые
аплодисменты. И реплик не слышно. Ну, тут и я аплодирую. Здесь про себя
забываю. Здесь сцена с Михалковым. Грандиозная идея пригласить на роль
проводника Никиту Михалкова. Ну ничего общего у этого интеллигентного человека
с тем быдловатым гражданином, который сейчас на экране. Но никогда не знаешь
наперед, что будет делать этот неожиданный художник. Такой сиюминутный
актерский дивертисмент, что только держись. Это силища редкая.
Остановки
поездов дальнего следования на двадцать минут — это и есть те счастливые
короткие встречи героини фильма с красавцем проводником Андреем. Так и жила бы
наша Вера, если бы однажды от поезда не отстал герой фильма Платон. Встреча с
проводником происходит на его глазах. И герой видит, как они, обнявшись,
скрываются в купе вагона. Можно только представить, что бы я наиграла в этой
встрече, а потом в купе с проводником «Андрюшечкой». Как бы вошла в дуэт, и уж
точно бы «луснула пополам», но все равно каким-нибудь боком, а «выделилась» бы.
Но был сыгран «снежный финал». И, как ни обидно, в этой сцене сознательно веду
свою партию на тормозах. Полностью отдаю любимые моменты эксцентрики
талантливому партнеру. И на ходу ищу мягкую щемящую интонацию приближающегося
конца этих коротких постыдных встреч. Как и тогда, в «Сибириаде», мы с
партнером интуитивно находим музыкальный контрапункт.
—
Все так не по челове-е-ечески, не могу-у больше... Так хо-о-очется, чтобы ты
прие-е-ехал надо-о-олго...
—
Приеду, приеду, приеду.
—
Чтобы мы сходи-и-или с тобой в кино-о, в па-а-арк... Как лю-ю-юди.
—
Сходим, сходим, сходим.
—
Погуля-а-али бы вме-е-есте ря-а-адом...
—
Погуляем, погуляем, погуляем.
На
экране тронулся поезд, оставив героиню на перроне, а зрительный зал Дома кино
проводил аплодисментами Андрея — Михалкова. Впереди меня на приставных стульях
сидят Эльдар и Нина. Глядя на удаляющегося Андрея, Эльдар так искренне смеется
и аплодирует, радуясь за артиста, будто бы это не он сам провожал его в кадре с
командой «Мотор!». Поезд удалился, оставив героев фильма один на один. Вот
зрители вроде как притерпелись к этому дуэту, к этим двум, казалось бы,
абсолютно несовместимым людям. В самом деле, почему интеллигентный человек
должен полюбить вокзальную официантку? Что в ней такого? Да ничего.
Обыкновенная провинциальная женщина. А что такое вообще обыкновенная женщина?
Может быть, та, мимо которой прошел и не заметил ее? С чего начинать работу над
ролью этой обыкновенной, провинциальной, вокзальной официантки? Как она
выглядит? Во что одета? Какая прическа? Если бы фильм снимался лет десять
назад, я бы одела ее в кримплен, на голове бы возвышалась величавая «хала». И,
может, где-то еще и есть такие официантки, но меня интересовала такая женщина,
которая живет сегодняшним днем, чувствует пульс времени, моды, знает, что ей к
лицу, именно ей, Вере. Вера. Имя-то какое! У этой обыкновенной женщины
необыкновенная душа, чем так славится русская женщина. Ты прошел мимо, не
заметил ее и проиграл. А вот наш герой остановился. И всю роль Веры мы с режиссером
вели к диалогу-открытию, к которому пришел герой картины. Этот диалог режиссер
слушал во время съемки за кадром со слезами — первый зритель — жизнерадостный
талантливый человек. А теперь этот диалог звучит для всех в зале Дома кино:
—
Будете потом вспоминать, как застряли на промежуточной станции. И подвернулась
вам одна официанточка... Что вы молчите, смешно, да? Была она не так чтобы
очень, но ведь дело было проездом...
—
Вера, вы себе цены не знаете! В вас нет того, что я ненавижу. Ненавижу! Вы естественная,
вы добрая, вы красивая, вы очаровательная... Вера, вы... прекрасны!
Долгая
пауза.
—
Вы знаете, мне таких слов никто никогда не говорил.
По
спине, по затылку Эльдара я вижу, как он неспокоен, как напряженно вслушивается
в это особенное дыхание зала. Ведь это непростой, требовательный,
кинематографический зритель. За один такой просмотр можно потерять столько сил.
Можно измотать все нервы. В такие минуты я почему-то представляю нервы в виде
жалкого пучка желтоватых ниток, которые хозяйка мотает туда-сюда на волнистой
стиральной доске.
Все
происходящее вокруг доносится как бы издалека. Я сижу, погруженная в свои
мысли, мне только бы продержаться. И все равно тяжелее всех ему, режиссеру. Он
главный, и он обязан выжить, ведь он основной виновник. Да нет, Эльдар, смотри,
у людей, хоть и кинематографистов, взгляды благодарные. Недаром ты отдал своему
фильму год жизни и невосполнимую часть здоровья. А картина с сегодняшнего дня
пойдет бродить по свету, по городам, по экранам мира. Пойдет к людям! Дорогой
наш «Вокзал»! Пожалуйста, стань радостью не только для двоих. Прощай, прощай,
прощай, дорогой «Вокзал»! Пусть от встречи с тобой у людей будет «хорошее
настроение». Прощай.
Мелькали
кадры из фильма... Мелькали кадры из жизни. Жизни, в которой долгие годы не
было работы. Жизни, о которой никто ничего не знал...
АХ, КАК ХОТЕЛОСЬ
ЛЮБИТЬ!
Кто,
из решивших стать актером, не мечтает, что своим появлением в искусстве он
перевернет мир? Кто из молодых не думает: вам не удалось, так этим первым буду
я. Проходит время, фантазии разбиваются о реальность, и ты понимаешь, что мир
не перевернулся. И по-прежнему прекрасен. Со временем приходится нащупывать
свое настоящее место. Более скромное, но свое. Так начинается нормальная
рабочая жизнь, естественная жизнь в искусстве, со всеми приметами, которыми так
замечательна, но и трагична профессия актера. Как бы гладко и благополучно ни
сложилась биография артиста, его жизнь — это всегда трагедия. Можно помягче —
оптимистическая трагедия. Цветы, письма, поклонения и аплодисменты кружат
голову и сшибают с ног только вначале. Со временем эти дорогие вещи становятся
только милыми и желанными, но не самыми главными в профессии.
Сложность
моего положения была в том, что я достигла огромной популярности, так и не
познав своих актерских возможностей. Не успев понять, что же сидит там, внутри,
что мешает мне жить и просится в мир. И если поначалу всех очаровывали
молодость, жизнерадостность, подвижность, голос, то потом популярность
перехлестнула эти качества, и не стало знака равенства. Ну и что — поет, это же
не какое-то феерическое бельканто. Музыкальна — а сколько музыкальных на свете.
Ну, милая, способная девочка в удачной картине. Но не больше. Не больше. Надо
же быть реальной. А неприятности разом оборвали мой стремительный рывок по
главной дороге. И уже ни на одной самой узкой тропинке я не видела укромного
уголка. Я должна была уйти от людских глаз. Надо было время, чтобы одуматься. А
главное — суметь смириться. Смириться, для того чтобы выжить.
Когда
я была в девятом классе, я в первый раз побывала на море. И там, на пляже, я
каждый день наблюдала за одной красивой парой. Тогда я еще не могла определять
возраст, но они были еще не старые. Эта пара была как одно целое, что ли... Они
и в море вместе. И смеялись одному и тому же, и тоже вместе. И книгу читали
одну. И если кто раньше прочитывал страницу, не вскрикивал: «А я уже!» Вечером
я видела их в парке Ривьера. Они гуляли, тесно прижавшись. Их пронизывало
что-то такое, чего я тогда еще не понимала. Но аж мурашки пробегали по коже.
Это
я к тому, что речь пойдет о любви. А то все говорю о невзгодах, делах, будто
героиня пятидесятых годов, когда титр «Конец фильма» шел сразу после свадьбы.
Ну, а дальше? А как же насчет любви? И что это такое? «Ишь, хитренькие какие» —
так сказала однажды моя дочка Маша дедушке. Ой, и об этом надо рассказать. Нет,
если о любви, то с этого и надо начинать.
Была
у Маши бабушка — мама Машиного отца. Женщина необыкновенная. Красоты, ума,
таланта и женственности непревзойденной. Актриса и режиссер. Была она из аристократического
грузинского рода. В 1959 году, когда я приехала в Тбилиси, уже заметно
округлившаяся, пошли мы с ней в грузинские серные бани. По незнанию того, что
серная вода такая мягкая и мылкая, я сильно шлепнулась на спину. Ах, как она
испугалась! Собрала всех терщиц (есть такая в тбилисских банях профессия —
терщицы — прямо шкуру сдирают) и все по-грузински с ними, по-грузински, ох да
ах, и все «генацвали, генацвалики»... Я улыбалась — все обошлось.
А
потом ходили мы на балет «Отелло» с неповторимым Вахтангом Чабукиани. И в
антракте ей все кланялись в почтительном поклоне.
Она,
казалось, не замечала моей провинциальности, невыдержанности и относилась ко
мне с нежностью за открытость и доверчивость. Ах, как они со своей
приятельницей тактично промолчали, когда я подряд два раза сварила им один и
тот же кофе. А что, думаю, один черный, другой будет как чай. Как в Харькове. А
«чай и кофий — ето ж настыящий яд! Нада пить только молоко», — учил меня папа в
пятидесятых годах. А в Москве, в семидесятых, нещадно натирал себя змеиным
ядом: «Ты смотри, такое смертельное животное и якое благо организьму даёть».
Была грузинская бабушка и у нас в Харькове — приезжала посмотреть внучку. Стол
ломился от еды. Мама готовила с тетей Соней два дня. Была даже рыба фиш — а
вдруг она «рыбу больший ценить». Своим ФЭДом папа нащелкал ворох снимков:
грузинская бабушка за столом с внучкой, около моего портрета, около портретов
папы с мамой в день их свадьбы и еще много разных поз.
—
Лёль, якая же высококультурная, приятная женщина! Только высоковата, а?
—
Ну, Марк, это же аристократы все же.
—
Ну понятно, не моего поля ягода — а што ж вы, симановщина, што ж вы усе
разъелися, где ж ваша культура? Смотри, як человек есть — прямо загляденье —
аккуратнинечко, помаленичку. Лёль, а ты знаешь, она совсем не костистая. Я так
за плечо её пощупав — уполне упитанная.
—
Марк, котик, ну сдержись ты — веди себя прилично, а?
—
Лёль, а што я такога зделав? Ты ж видишь, она довольная, уся зарозовелася,
влыбается. Што ж она, не живой человек?
Больше
грузинскую бабушку мы никогда не видели. Она умерла, когда Машеньке еще и года
не было. Только-только получила новую квартиру, а жить в ней так и не пришлось.
Ее хоронил весь Тбилиси. «Якая чистая ангельская душа — унученьку перед смертю
приехала повидать. А ты, Лёля, говоришь, что бога нет! Царство ей небесное! Хай
земля ей будить пухум». С тех пор дедушка, если на экранах шел грузинский
фильм, обязательно водил на него Машу. А если по телевизору танцевали
грузинские ансамбли, он обязательно ей объяснял: «Смотри, Машуня, ето твои
родичи танцують — грузинцы. Ты же в нас мешанец, наполовину грузинка».
—
Дедушка, а ты кто?
—
Я? Я православной веры, чистокровный русский.
—
А Лёля кто?
—
Лёля? Лёля русская. Редкой породы вредный человек. Они из столбовых дворян, а
мы из батраков, но никакой разницы з собою не вижу.
—
А мама кто?
—
Твоя мама? Ну як же, если мы з Лёлюю русские, то и твоя мама русская.
Машенька
молчала, задумавшись, а потом сказала дедушке: «Ишь, хитренькие какие», мол,
русскими устроились, а она, получается, мешанец какой-то. Так вот, у Машеньки
была необыкновенная грузинская бабушка. А у бабушки был прекрасный единственный
сын. А теперь... нет, лучше: итак, о любви.
С
детства я влюблялась на всех перекрестках и во всех книгогероев, если «в него
были зубы як мел, вусы як у Будёнага». Короче, во всех «чернявых орлов». В
институте влюблялась на каждом этаже. Прошел красавец — сердце ёк! Но быстро
разочаровывалась. И вдруг влюбилась. Влюбилась по уши, по-настоящему. Но я
помню, что временами вдруг я ясно видела ту пару на пляже, которая шла по
парку, тесно прижавшись. У меня еще мелькала мысль, неужели и меня будет
кто-нибудь так любить? Почему же я мечтала о большем? Опять же через время все
становится понятным. Расстояние позволяет многое увидеть на своих местах. Порой
в невыгодной для себя мизансцене.
Конечно,
с этим молодым человеком мы подходили друг другу, как поется в песне: «мы с
тобой два берега у одной реки». Это с теперешней колокольни. А тогда...
Несмотря на свою изысканную внешность, от которой не ждешь ничего глубокого,
это был сложный человек с набором неординарных качеств — больших и малых. Все
карманы его были забиты редкими книжками вперемежку с газетами и журналами.
Читал все на свете. Обладал особым чувством юмора. Считал, что его личная
самокритика самая точная и оригинальная. Отличался музыкальностью, мужским
обаянием. В нем для меня было недосягаемо все. И наоборот. К моей профессии он
относился с иронией. Музыкальную картину-комедию считал зрелищем, далеким от
искусства. Ну, а успех у публики... Когда я залезала не в свою сферу,
интересовалась его сложной сценарной профессией, меня поражало, сколько иронии
вызывал в нем мой прыжок из легкомысленной примитивной актерской жизни в его
таинственный мир. Я еще не знала, еще не встречала таких людей. Да и где их
было встречать? Да и как поймешь, изучишь, что с людьми такого склада ой как
непросто рассчитать первый ход. А уступишь инициативу, сразу очутишься в
зависимом положении... Теперь никогда не вступаю в игру, потому что знаю — это
не мое. Тогда же глупо и рьяно сопротивлялась. Потому проигрывала. В моих
аргументах моментально отыскивалась трещина. И, главное, пропадала вера в
собственную позицию. Я выходила из поединка раздавленная, разбитая. И в конце
концов сдавалась. Ну и ладно. Ведь подчинилась силе. Вот и будет у меня защита.
И казалось — вот это надежное и вечное найдено. Только-только расслабишься и
захочешь опереться на плечо, наклоняешься — ан плечика-то и нет. Он как-то
талантливо умел жить рядом, будучи на своем берегу. С невероятной силой воли
нужно было учиться жить в одиночестве вдвоем. А параллельно происходила моя
катастрофа в работе. Я помню бесконечные походы по всем инстанциям, чтобы
выхлопотать мне московскую прописку, тогда в Москве она была резко ограничена. После
окончания института меня распределили на «Мосфильм». Но без прописки на работу
не брали. Более полугода прошло, пока не упросили прописать меня на три месяца
домработницей. И тогда взяли на «Мосфильм». В то время он проявил столько
заботы и доброты. И опять я чувствовала необыкновенную благодарность. И еще
сильнее захотелось расслабиться. Неужели же появилось то, что так запечатлелось
в паре, которая шла молча, тесно прижавшись друг к другу? Но теперь я уже
осторожно оглянулась, чувствовала, что плеча может и не быть. И не ошиблась.
Как же мне хотелось кричать на весь мир: «Люди, родные, милые! Я так хочу
любить, я так хочу быть преданной и расслабиться. Любить на высшей волне, быть
способной на то, что в себе и не подозреваешь». Ну что же это? А то. Объект
любви не мой. Поразительно, как долго я не могла постигнуть, что начиная с
головы и кончая кончиками пальцев — отсюда и досюда — человек не мой.
Прекрасен, но чужой. Очень, очень трудно понять самой, а еще труднее объяснить
другому, как кончаются долгие отношения. Страстно хотелось счастья, и это было
мое несчастье. Папа нашел свое счастье в маме. Она приняла и разделила его
эмоциональную бурю. Мне вдруг порой ясно виделось, что быть счастливой крайне
опасно. Счастье кончается, как только ты решил, что оно будет длиться вечно. К
нему привыкать нельзя. Надо искать и найти применение своим эмоциональным
силам. Надо найти эквивалент популярности и счастью. Я буду искать. Но избыток
чувств вреден, наверное, как и нехватка. Мне ближе избыток. Вот положение, а?
Взобраться к славе на такую головокружительную высоту, карабкаться к любви
небывалой — и вдруг понять, что эти высоты не главные. А главное — где-то там,
намного дальше, и достичь его невозможно, да и просто нет сил, ни физических,
ни душевных. С чего начинать?
Время
уносит, стирает и прощает многое. Многое навсегда ушло из памяти. Так было
нужно. И я забыла. Кроме одного дня, который не был похож ни на один из дней.
Моей дочке было полтора года. Она уже жила год у родителей, чтобы я могла
работать. Ее отец еще заканчивал институт. К тому времени мы уже имели
однокомнатную квартиру, казалось, все вело к счастью. Но река становилась
полноводнее. А берега все дальше и дальше отдалялись друг от друга. Он мне
казался очень сильным человеком, потому что про себя я была абсолютно уверена:
одна, без него, не проживу ни дня. С моим папой они были антиподами. Не
симпатизировали друг другу с первой минуты. Всю дипломатическую сторону
отношений на себя приняла мама. И провела честно свою нелегкую миссию до конца,
не отдавая предпочтения родной дочери. Но в один из дней ее дипломатия стала резко
односторонней: ведь мы с девочкой оставались вдвоем. До сих пор невозможно
понять и поверить, что такому умному, тонкому человеку, самому выросшему без
отца, легко далась фраза: «Ну что ж, она будет расти без меня... У нее ничего
от меня не будет... собственно, это уже будет не моя дочь». Испытание своей
силы? Игра в мужественного супермена в двадцать шесть лет. Бесследно
растворилось во времени все. Я не знаю, что такое жизнь без отца. Мой папа для
меня... Неужели мой единственный ребенок будет лишен такого огромного счастья?
Это
было уже в конце. В. самом конце. С Киевского вокзала мама проводила меня в
Киев на пробу в новую картину. А сама уехала с Курского «у Харькув до дедушки и
унученьки». Об этой картине и об этом периоде — еще впереди.
Но
те слова, мизансцена, запах снега, холодный вечерний закат за окном
однокомнатной квартиры на окраине Москвы... как будто это было вчера.
ЧТО ТАКОЕ ЖЕНЩИНА?
В
мае 1959-го я жила у родителей в Харькове и ждала мальчика, которого хотела назвать
Марком. Далеко запрятала альбомы с фотографиями из фильмов, приклеенными
столярным клеем так, что теперь их можно оторвать только вместе с картонными
листами. Сняла со стен весь «канастас» — папину гордость. И стала жить тихими
буднями, в которых не было ничего, кроме стремления к покою. Хотелось жить как
все. Не взбрыкивать. Не фантазировать. Жить тихо и ровно.
...Проходит
время. И никто точно не может сказать, что же было на самом деле. Помнят, что была
какая-то история. Но какая? И раз была, то это уже не история, а «история». То
же самое слово, только взятое в кавычки. Так просто...
Есть
сильные люди, которые вопреки всяким «историям» выходят на сцену и заставляют
поверить в свои силы, в свой талант. В этот вечер зал забывает обо всех
«историях» такого сильного человека. Мощной талантливой натуре — низкий поклон.
Такие люди появились сейчас. Но то время не позволяло быстро оправиться. Я
помню, что даже мудрые и солидные артисты далеко не сразу становились на ноги
после подобных «историй». Как же я была наивна, если думала, что смогу жить как
все. После того как человек побывал в космосе, он уже на всю жизнь космонавт.
Человек, который прошел войну — на всю жизнь герой-ветеран. Эти люди были на
таких высотах, что уже никогда не смогут быть как все. И для окружающих они
навсегда люди особенные. Жизнь артиста вся проходит на виду. А если есть еще в
запасе пара «историй», тем интереснее, тем любопытнее. Я хотела быть как все.
Но даже в палате, куда меня привезли как всех (и где я долго еще пребывала в
удивлении, что судьба послала девочку), меня вдруг обожгли знакомые интонации.
Роженицы разбились на два лагеря: за и против меня. Победили сильнейшие. Вместо
того чтобы радоваться появлению на свет девочки, я в отчаянии плакала и никуда
не могла скрыться от людских глаз. Ощущения были еще острее от того, что это
происходило в родном городе: «Допрыгалась? То-то». Я думала: вот же другие
рядом. И у каждой есть о чем рассказать, и радостного и горького. Ну поговорите
о себе, оставьте меня. Смотрите на меня, когда я на сцене. Обсуждайте меня,
когда я на съемочной площадке. Тогда я не сжимаюсь в комок, не стягиваю губы в
противный узкий треугольник. Там я улыбаюсь радостно и говорю своим голосом. И
говорю то, что надо. А в больнице — моя болезнь. В коридорах на приемах — мои
вынужденные прошения. В очереди у магазина — удовлетворение потребностей. Тех
же, что и у всех. Я живу только в работе! Остальное время гуляю, хихикаю,
притворяюсь и жду, жду, жду — когда же начну работать, когда же заживу!
В
то время я обещала стать образцовой матерью. Боже мой, прижмешь к себе ребенка
и чувствуешь внезапный прилив крови, головокружение. Собираешь силы на его
защиту, хотя его еще не от кого защищать. У меня был такой порядок с режимом, с
питанием, с пеленками, что я сама диву давалась — неужели это я? Откуда это?
Это была я, но в новом качестве.
...Однажды
на лекции по актерскому мастерству наш мастер задал нам такой вопрос: «Как
по-вашему, что такое женщина?» На всякий случай не забудем, что в то время чаще
произносили слово «девушка». Марк Бернес так и не спел: «Самая лучшая женщина —
где ты?» Само слово «женщина» вело, а надо, чтобы «вело, но не уводило», как
говорил в фильме «Карнавальная ночь» товарищ Огурцов. И Бернес спел: «Самая
лучшая девушка — где ты?» Да, так что же такое женщина? Если задуматься, у
каждого из нас было определение такому распространенному «явлению», идущему по
улице не в брюках, а в юбке. «Ну, попытайтесь сформулировать одним словом», —
подсказывал нам учитель. Господи, куда нас только не заносило.
А
мне тогда вспомнилось, как еще до войны мы любили сидеть втроем на нашей
кровати с железными шариками «у кучечки». Я только начала говорить. И папа меня
дрессировал: «Дочурочка, покажи на папусика и скажи: «Сила-а». На маму гавари
«Мола-адасть», а на себя з улыбочкую — «Красата-а». Так я и исполняла этот
номер: «Сила, Молодость, — и с особым удовольствием: — Класата!» Первые годы в
институте я была в «зажиме». Да я и потом бывала в «зажиме», когда разговаривала
со своим мастером. Сразу делалась ученицей. А тогда еще долго не могла мыслить
свободно и самостоятельно. Говорю все не по делу. И когда до меня дошла
очередь, я со знанием дела сказала: «Женщина — это молодость и красота». И тут
же поняла, что сморозила глупость. А если женщина немолодая, но красивая? Или
наоборот? Вот черт побери с этой женщиной. «Женщина — это ваза», «Женщина — это
сосуд», «Женщина — это секс» — ого, какое слово! Аж в краску бросило. «Женщина
— это не мужчина» — все засмеялись. А учитель стал жестким. По скулам забегали
тени. Мы притихли. «Женщина, дорогие мои, это МАТЬ».
Это
я поняла только тогда, когда стала матерью сама. А в институте меня это
открытие разочаровало. Я думала, услышу что-нибудь потрясающее, что-нибудь
эдакое... Подумаешь, мать, — ходить с большим животом, позор такой. Нет,
женщина — это шляпы, перья, бантики и поклонники в черных костюмах.
Материнство
залечивало первые раны молодости. Оно меня смягчило и внешне, и внутренне.
Того, желанного покоя все равно я не нашла. Когда в атмосфере появлялось хоть
что-то похожее на покой, первый момент был прекрасен. Но вдруг — откуда ни
возьмись — на меня тянуло легким кладбищенским ветерком. Успокоившийся человек,
ищущий покоя артист — это мертвый человек. Это мертвый артист. Долгое страдание
вызвало вдруг внутри протест к себе такой. Говорят, время залечивает все раны.
Нужно начинать жить. Передышка была. Передышка не простая. На свет появилась
девочка. Нет, Женщина! Мать! — так теперь я классифицировала то
распространенное «явление», которое ходит по улице не в брюках, а в юбке. Она
должна гордиться своей мамой, как я горжусь своими родителями. Решение принято
— надо работать. Под лежачий камень вода не течет. «Помирать, дочурка,
собирайсь, а поле сей...»
Конечно,
этому решению была причина, был стимул. В самый неожиданный момент — телеграмма
из Ленинграда. Ну кто же еще мог быть выше всех разговоров и всяких «историй»?
Кто первым понял, что мне нужно становиться в строй? «Ленфильм». Это было
предложение не просто сняться, а впервые попробовать свои силы после двух
музыкальных комедий в непростой драматической роли. Ну-ка, после всего
реабилитировать себя, да еще в новом жанре? Только сейчас я понимаю настоящее
значение этого предложения. В острых драматических ролях в кино меня никто не
видел, разве кто-то знал понаслышке о курсовых работах в институте.
В
Ленинград, на кинопробы, мы отправились втроем: моя Маша, мама и я. В группе не
знали, что я уже мама. В первой серии фильма «Балтийское небо» моей героине
Соне еще только 14—15 лет. Хорош подросточек с ребеночком. И я решила
промолчать, а если утвердят, то уж тогда признаться. Режиссер фильма Владимир
Яковлевич Венгеров на репетиции задал мне первый вопрос: «А как ваша Маша? —
ведь она еще маленькая, кто с ней?» Я так растерялась, наверное, оттого и сцену
провела более-менее естественно. После пробы я бежала со всех ног к знакомым,
где остановились мама с Машей. Машенька нервничала. Да и мне самой так хотелось
поскорее к ним. Я отвыкла от работы, целиком ушла в дом, в ребенка. Стою на
пробе, а в голове: «Сейчас она спит, только бы в Ленинграде не простудить
ребенка...» — «Мотор!» — «Ой, какой мотор? Ах, ну да, я же на съемке. Ну что ж,
если не утвердят, то и ладно: «что бог ни делаить, усё к лучиму!» А если
честно, очень, очень страшно было вступать в тот поток еще раз. Ведь он принес
столько огорчений.
А
меня утвердили. Что делать с ребенком? «Лёль, вже девычке пять месяцев. Бувало,
матка ще у поли, а малый брат кричить, месяц, як родився, кушить просить, я ему
у рядно...» — «Рядно?» — «Ну, ето як наша марля, хлеба з молоком надавлю, он и
чмокаить. А ну, давай, Лёль, налей кашу у бутылку и соску насунь. Ну? Ну што я
гаварив? Ах ты ж, моя унученька, ах ты ж, моя клюкувка, усю бутылку отметелила!
Давно бы так во! А то наша дочурочка ели ходить, одни кости светять. А етый
пяхтерь пухнить и у вус не дуить. Усё, моя птичка, моя дочурочка. Заберём мы з
Лёлюю ребёнка до себя у Харькув. Лёля, молчи, у етый семье зже толку не будить,
сердцем чую. Дочурке перво-наперво нада работыть. Ув обязательном порядки. Ето
щас для нас усех самое главное. Што було, то було. Назад, дочурка, не
оглядайсь. Допустила ляпсус — ты вже своё отболела, вже нема куда больший.
Давай дальший, моя птичка. Мы з Лёлюю у тибя верим и гордимся тобою. Усё пойдёть,
усё наладится, никуда не денисся. Жисть есь борьба — ето ще Маркс гаварив».
ДВА ГОДА ЖИЗНИ...
Осень
1959 года встретила меня в Ленинграде кипучей и разнообразнейшей жизнью. В
свободные дни я осуществляла такие грандиозные походы! Где только силы брались.
С утра — если нет съемки — обязательно Эрмитаж. Однажды экскурсовод заметила,
что Эрмитаж невозможно узнать ни за неделю, ни за месяц. Что для этого нужно
чуть ли не три года. И тогда, в 1959-м, я поклялась, что, как только выдастся в
Ленинграде свободный часок, во что бы то ни стало — в Эрмитаж. Может, за всю
жизнь эти три года да наберутся? И клятве до сих пор не изменяю.
Это
было время прекрасных спектаклей Большого драматического. Это было время начала
моей влюбленности в балет. Это было время расцвета незабываемых ленинградских
капустников. Острых и веселых, жизнерадостных и комичных. В капустниках актеры
раскрывались так неожиданно, как ни в одной из ролей на сцене театра. Ведь не
каждый актер может работать в капустнике. Выйдешь после веселого талантливого
вечера, и ничего нигде не болит. И жизнь прекрасна и удивительна. И как верно,
что смех и улыбка оздоравливают человека. Как же я могла допустить такую
кощунственную мысль: если не утвердят, то это и к лучшему? Ай-ай-ай.
Пройдешь
в гриме по коридору студии. «Это кто? Смотри, не узнал. Давай ее пригласим на
пробу?» — «Давай». Но пробы не было. Утвердили по фотографии. Тогда только
начинали снимать первые фильмы для телевидения. Это был костюмный исторический
фильм. Комедия «Пойманный монах» по Филдингу. В этой картине много музыки. Я
исполняла два музыкальных номера. А исторические костюмы были ну просто хоть в
музей. В каждой картине встречаешься обязательно с новой ситуацией. И из каждой
картины что-то берешь с собой в будущее. Но самое редкое и дорогое, если из фильма
выходишь не один, а с другом.
Как
только я села в гримировальное кресло Маргариты Матусовой, за ее аккуратный,
чистый рабочий стол, я моментально почувствовала самое неприязненное к себе отношение.
Я ей категорически не нравилась. Ничего — сказала я себе — не привыкать. Работа
есть работа. Мы возились часа два. И как медленно, не сразу, загорелись и
потемнели ее голубые глаза, зашевелились ее золотые руки. И красивая головка
пошла развивать фантазии. «Нельзя быть заранее настроенным против актера. Я так
не хотела тебя готовить к фотопробе. Почему-то ты мне казалась такой глупенькой
и недалекой...» Да не только тебе. «...Ах, што там гаварить...» Поговорили по
душам, посмеялись, попризнавались, а потом пошли в студийный буфет. Заели «это
дело» голубой сарделькой с прозрачным «черным» кофе. Теперь приезжаю на студию,
сразу узнаю, где сейчас Маргарита Матусова. В Ленинграде? Ага, это значит, что
можно прямо, без звонка, ехать к ней домой. Там мне все будут рады, «от чистага
сердца». Меняется вокруг все. Неизменной остается настоящая дружба, проверенная
работой, общими интересами.
Где
две картины, там и третья. Фотографии из телевизионного фильма увидели на
студии имени Довженко. И вскоре я получила новый сценарий «з ридной Украины». В
сценарии «Роман и Франческа» было все: любовь и слезы, песни и музыка, счастье
и горе. Когда впереди интересная работа, нет более счастливого времени. Летела
в Киев прямо из Ленинграда. И в гримерной, перед самым отъездом, повстречала
свою приятельницу, актрису Татьяну Бестаеву. В ленфильмовской картине у нее был
маленький эпизод, который она уже отыграла. И вот работы опять нет. «Тань,
давай полетим в Киев, будь что будет. Дорогу же оплатят. Тут в сценарии роль
есть интересная. Только немного отрицательная, а? Как ты на это смотришь?» —
«Какая разница, роль да и роль, подумаешь, счастье, положительная, тоже мне...»
В гримерной я в очередной раз восхитилась этой необычной актрисой. Красота ее
была совершенно особенная. Я бы сказала, биологическая. Как красота природы,
зелень травы, голубизна неба, что ли... В какую бы сторону ее ни заносило, что
бы она ни говорила, ее мысли и поступки не влияли на красоту. Ее красота жила
совершенно самостоятельно, обособленно. Невозможно было себе представить, что
эту красоту может что-нибудь разрушить. О возрасте мы тогда еще не
задумывались. Когда я ее видела, я почему-то немного съеживалась и легко
уступала дорогу ее красоте. Боже мой, что началось на киевской студии, как
только Таня Бестаева вышла, нет! — вынула свою красивую ножку из машины... Вот
это был фурор. По студии шла бело-розовая высокая блондинка в сопровождении
гувернантки-секретарши в сереньком платьице с беленьким воротничком. Дирекция
тут же оплатила ей билет. Художник по костюмам с гримерами потирали от
удовольствия руки, глядя на свой будущий объект. Женщины побежали к зеркалам
приводить себя в порядок. Мужчины стали прощупывать ее семейное положение. В
общем, все кончилось тем, что ее утвердили без проб. А мне назначили пробу. И
ничего не оставалось, как нахально и авторитетно «дуть» на итальянском: спасло
наличие слуха. Эго как-то удержало меня рядом с прекрасной моей приятельницей.
Она сыграла в фильме очень успешно. Ее необычная, яркая индивидуальность
требовала особого сценария, особой атмосферы. Даже своего времени. Во времена
нашей молодости она могла исполнять лишь роли экстравагантных иностранок или
женщин с негативными проявлениями. Потому что наши героини, все как одна, на
экране были кристально чисты и нравственны. Как будто их размножали
почкованием.
Ну
и получила же я в прессе за свою «северную итальянку»... Разделали меня под
орех. А я с таким упоением, с таким счастьем работала. Вечная загадка:
снимаешься с удовольствием — тебя ругают. Мучаешься, страдаешь, считаешь дни,
часы: скорее бы конец, а выходит картина на экран — пресса хвалит, все
довольны! Критика критикой, а не ценить редкой возможности появиться на экране
в музыкальной роли, было бы грешно. Все-таки музыкальных ролей в кино я сыграла
всего четыре. Это была третья после двух музыкальных комедий.
А
еще сильнее я запомнила этот фильм потому, что, мотаясь из города в город, живя
в гостиницах, самолетах и поездах, я все мечтала: вот вернусь в свой дом и
заживу счастливой семейной жизнью. Именно после съемок этого фильма я
наконец-то оказалась у себя дома, в квартирке на окраине Москвы. Но меня уже не
ждали. Все для меня было здесь чужим. Три фильма подряд. В Москве бывала редко.
Что ж, такая профессия. Ну и что? Девочка у родителей в Харькове. Муж,
свободный художник, в Москве. И вот после того незабываемого разговора мама и
проводила меня в Киев, на новую картину студии имени Довженко «Гулящая». Это
был конец 1960 года.
Первое
время в фильме я жила словно в летаргическом сне. «Мамочка, приезжай скорее,
побудь со мной, только не говори папе!» — кричала я беспомощно маме в трубку,
понимая, что папа один с ребенком не справится. Как жить? Я так боюсь одна. Он
казался мне таким сильным... Да я одна погибну, умру. Я изо всех сил сжимала
челюсти на съемке, потому что проклятые слезы душили беспрерывно. Я только
держалась и сдерживалась. Зато уж ночью плакала навзрыд, до изнеможения.
Ах,
Киев, Киев! Ходить по твоим прекрасным улицам и радоваться. А весной, весной —
ни один город на свете не может сравниться с тобой. Буйная, зеленая, ароматная
весна! Сколько раз туда-обратно я исходила любимый Шевченковский бульвар. Я
знаю каждый дом на улице Ленина, что поднимается параллельно тому бульвару. А
какие добрые друзья жили на Пушкинской! Из гостиницы «Украина» быстренько
пересечешь бульвар — и у них. А спуск от филармонии к Днепру, множество
тропинок. И каждый раз я находила все новую и новую. А «Вареничная» на Крещатике!
А вареники с картошкой! Было время, когда по три раза в день стояла в очереди с
подносом. Даже неудобно бывало смотреть в глаза кассирше: «Хороша артисточка,
по шесть порций в день уплетает. А мы думали, на диете сидит, талию сохраняет».
А мне эти вареники с картошкой так напоминали дом, родителей и наши домашние
праздники. А вкусный, пышный родной украинский хлеб! Я, русский человек,
выросла на Украине и впитала в себя все украинское... В Киеве, в этом
радостном, вечно весеннем городе, я существовала тогда безнадежно горько и
мучительно. Лучше бы шел дождь и было пасмурно. И хмурые люди бежали бы,
натягивая на нос шарфы и шляпы до бровей. И было бы им не до тебя. И тебе — не
до них. А как скрыть свою боль, куда спрятать лицо, если на улице тепло.
Дурманящий, опьяняющий озон прямо сшибает с ног. И влюбленные бредут, тесно
слившись в одно. А старики улыбаются навстречу всем-всем. И тебе. И тебе тоже.
Но ты, но я...
Я
вставала утром. Ехала на студию. Сидела на гриме. Что-то говорила. Что-то
играла. Как-то снималась. Слава богу, картина по роману известного украинского
писателя Панаса Мирного рассказывала о трагической судьбе украинской
крестьянки. На экране перед зрителем проходит вся жизнь героини от
восемнадцатилетней чистой девушки, соблазненной и покинутой «молодым богатым
паном» — до женщины, опустившейся, прожившей бурную и страшную жизнь. И вот, в
конце жизни, она приходит к своему родимому порогу, в свою деревенскую хатку.
Приходит, чтобы дожить свой век. Но в ее хатке живут чужие люди. И хоть на
дворе лютует зимняя вьюга, «добрые люди» не открыли ей дверь. Так и замерзает
она у родного порога. Страшная жизнь с таким трагическим финалом. Слабенько
сыграла я эту роль. Верными на экране мне показались только те кадры, где я —
то ли в силу внутреннего состояния, то ли чего-то извне — совершенно забывала,
что идет съемка, существовала в созвучных мне обстоятельствах роли. Но рядом не
было никого, кто бы, заметив это, напутствовал, заставил бы запомнить,
зафиксировать эти краткие моменты. Ставил картину режиссер Иван Кавалеридзе,
талантливый скульптор. Фильмы снимал очень редко. Тогда ему уже было за
семьдесят. За кадром он вспоминал и рассказывал нам о своих красивых романах.
Вспоминал свою молодую жизнь, необыкновенные истории. Он и в том возрасте был
красив — такой большой, седой, мудрый красавец. И мы себе представляли, каким
же он действительно был неотразимым в то время, когда происходили эти истории.
Но как только входили в кадр, все менялось. В кадре во время самых страшных
грехопадений героини от меня требовалась пуританская нравственность. Нужно
было, как говорится, зачать без зачатия. Вот задача! Слабо, противно сыграла
эту роль. В повторе никогда этот фильм не смотрю. Сейчас бы мне такую роль...
Но все придет позже.
...Через
много лет, в картине «Семейная мелодрама», я буду играть женщину, покинутую
мужем, так и не сумевшую смириться с такой долей. Я ясно увижу гостиницу
«Украина» в весеннем Киеве в пору своей молодости... И все будет очень
похожим... Ну не могла я тогда себе представить, что это конец. Ну зачем жить,
если нет правды, справедливости, преданности, с которой я пришла в любовь. Это
будут самые дорогие сцены в фильме. Не придуманные и не написанные, а личные,
интимные, которые случаются с каждым человеком, когда он наедине со своим
горем. Поразительно, но после «Семейной мелодрамы» именно из Киева пришло
письмо от врачей. И я им ответила. Они удивлялись тому, как точно был сыгран
процесс сердечного приступа. «Может, у вас сердце больное, откуда это вам так
точно известно?» Не знаю, просто пропустила все через себя, все иголочки, не
боясь уколов. Это «узнавание» через свою кровь. А на съемке осветители после
дубля тихо-тихо спрашивали: «Как вы себя чувствуете? Не хотите водички,
минеральной?..»
И
опять меня ругали в прессе за «Гулящую». А публика меня отождествляла с
героиней. Вот, мол, теперь ясно про артистку все. Я же измучилась своими
личными переживаниями вконец. Еще раз что-то сильно во мне надломилось. И вдруг
многое — и косые взгляды, и ругательные статьи — стала воспринимать не так
остро. А даже скорее как должное. Вроде что-то атрофировалось, и стало
казаться, что меня всегда должны ругать. Странные это были два года жизни. Не
знаешь, чего больше было в них — то ли счастья и радости от работы, то ли горя
от потери семьи. Все вместе перемешалось в один запутанный мучительный узел. И
вот так я вошла в новый период долгого отлива.
МОРЕ ЛЮБВИ
В
разгар триумфального шествия по стране веселой кинокомедии, летом 1957 года,
сидел мой папа на нашей кровати с шариками, сложив ноги по-турецки, или — как
теперь говорят любители йоги — в позе лотоса, и мучительно переваривал еще одно
новое сообщение обо мне. «Это» ему сказал его «кровенный» друг. Папа должен ему
верить. И не верит. Дочурка тоже его кровный ребенок. И он ее знает с рождения.
А «кровенный» видел «все» своими собственными глазами. А потом, это ведь
столица, брат, кого только там нет. Сколько людей разных могут сбить с толку
дочурку. «Нельзя ждать. Нада ребёнка ехать вызвалять. Корочий, быстро нада
действовать». Первое: немедленно разбудить маму, которая здесь вот рядом спит
богатырским сном. И этот сон его особенно раздражает. А что мама может с собой
поделать? Чем больше происходит неприятностей и тратится нервов, тем сильнее ей
хочется есть и спать. «Марк, котик, у каждого это выражается по-своему». Такое
никак, ну никак не укладывается у него в голове. В такие минуты маминых
«искренних признаний» он просто побаивается ее. Что делать, «жисть есть жисть,
назад нима куда деваться». И, заглушая в себе раздражение, папа идет «дальший».
Он расталкивает маму и, задыхаясь, говорит ей хриплым голосом: «Наша дочурочка
вже аккынчательно гибнить, она попала у нехорошую шайку, нада немедленно лететь
у Москву, вызвалять нашага единственнага, кровнага ребёнка. Немедленно. А-а!
Сон ваш разбив? Во симановщина! За сон усё на свети отдась! Мамыньки родныи, ну
ты скажи на милысть, расскажи ей — што да як — да без разговору. Приказую быть
готовую на усе сто процентув. Щитаю до трёх». И вот с первым же рейсом они уже
в Москве. Уже звонят в дверь. И я слышу, как моя хозяйка заспанным голосом с
кем-то приветливо здоровается. И чувствую, как что-то родное-родное входит и
разрушает мой московский, столичный микромир. И мне так прекрасно тепло. И так
счастливо. И именно такие минуты вспоминаешь, если вдруг задают вопрос: какие
моменты в жизни, вы считаете, были особенно счастливыми? Но этого же не
расскажешь зрителям.
Резко
открывается дверь, так, чтобы в комнате не успели сменить мизансцену и чтобы
«всех» застать врасплох и... на пороге стоят мои несчастные родители: притихшая
мама и моментально потерявший свою активность, осунувшийся и постаревший папа.
Ясно, что инициатором внезапного «нападения» был папа. Неспроста они приехали.
И не без причины. Но какое-то чутье подсказывает мне не делать акцента. Слишком
уж они изменились в лице. Папа все равно долго не выдержит. Подожду. Интересно,
даже работу бросили. Я же знаю, что для папы значит «работа». Попили чайку,
поговорили о том о сем. Мама уже выяснила вечерние рейсы на Харьков. Папа
чувствует себя не в своей тарелке. Хозяйка несет ему инструменты — и кран нужно
исправить, и кое-где проводку сменить... «Да, дом без хызяина — чистая сирота.
Моя жена етага не ценить. Другая такого б, як я, у кармани носила». Он хвалит
аккуратность моей хозяйки. Восхищается ее красивыми вещами. Рассказывает ей про
«баронський замок», где видел такие красивые вещи. А потом, конечно, не
выдерживает:
—
Ты скажи на милысть, дочурка, я ж его кровенным другом считав, а он мне
гаварить...
—
Кровенным, кровенным, Марк, котик, я тебе давно на него глаза раскрыла, но
ты...
—
Ну ты, ты, Лёличка, ты усё мне кругом пораскрывала. Я без тебя вже давно б
погиб да ув могили лежав, куда там... А то, што я тридцать семь лет на свети,
щитай, без неё прожив, ето она у ращёт не берёть, ето она не... Да ещё як
прожив! Ого! Да я...
—
Ты хочешь сказать, что я твою деревенскую жизнь разрушила, «з земелькую и з
садикум»?
Мама
знала, что «деревенскую тему» папа не будет развивать. А сразу уйдет в сторону.
Но в какую? Он всегда умудрялся найти какой-нибудь новый неожиданный «уход». А
мама каждый раз получала удовольствие от его эксцентрического «ухода», получала
удовольствие от его фантазии и независимости мышления. Но в то утро папе было
не до этого.
— Ну што за вредный человек, не даёть
сказать, усё влезаить и влезаить... так што я гаварив? Да, вот што: я, як
приеду у Харькув, ув обязательном порядку подстерегу етага друга... я з им
по-своему пагаварю...
—
Хи-хи-хи...
—
Ну, помолчи ж ты, бога ради, не встревай. Дочурка, он мне вчера вечером, на
массовки, прямо при всех людя́х и гаварить: «Был в Москве, видел вашу дочь в
таком окружении... и вообще в Москве про нее такое говорят... Вы бы, Марк
Гаврилович, прислушались, проследили, не все же вам на баянчике...» — и зразу
меня на «вы» — Марк Гаврилович... што за люди! Шпильку воткнув и довольный. Да
я з им одной етый водки «за честь, за дружбу» сколько па- пив, а он мне «вы» —
аккынчательно другой человек. Во што делаить з людьми зависть. У самого сын
полный атбайла. Да я завтра прямо з утра пойду у во Дворец, усех сотрудников
соберу и усё честь по чести расскажу, што и як було: «Товарищи дорогие, ще тока
солнце усходить, мы з Лёлюю вже у Москве. Ввалилися у хату, я увесь трясуся,
готовый, ну, думаю, — усё, чем такой позор терпеть, щас за один раз — на куски
порежу и дочурку, и Лёлю. И сам с чистым серцем добровольно пойду сяду у допр.
А моя дочурочка спить себе и у вус не дуить. Закрутилася ув одеяло з головою—
точно як я». Ах ты ж, моя птичка дорогенькая. Як же я за тебя душою болею. Я
такой радый за тебя, такой радый, аж душа уся у тисках...
Папа
плакал горько. Мама в сторонке пережидала этот момент. Хозяйка смотрела с
любопытством на нашу семью. А я прижалась к любимому, родному папочке, гладила
его и утешала. И вдруг высоким-высоким дискантом он вскричал:
—
Да я его, вот вам крест святой, в бога его душу, усё равно порежу на одни
куски...
—
Ой, Марк, котик, конечно, порежешь, обязательно порежешь... а как же... Ой,
боже мой, кого мы только уже не резали, Марк, котик...
Все,
что происходило со мной, рикошетом отзывалось на моих родителях, которые
превратились из простых смертных в «родителей кинозвезды». Но события
развивались с головокружительной быстротой. И, как в трагикомической пьесе,
они, не успев выучить текст своих ролей, обжиться в атмосфере веселой комедии,
попали без передышки в атмосферу развенчания и отчуждения. Папин «кровенный
друг» его все-таки добил. Он доказывал папе: того, что написано пером — не
вырубишь топором. «Знаешь, Марк, когда с неба сыплются звезды, хочется и землю
поскоблить». Мама ему объясняла значение этой злой фразы. А папа никак не мог
меня представить в роли богатой «пумещицы». «Пумещик» и «барон» — вот самые
богатые люди в его представлении.
Папа
сдал первым: «Не могу больший носить быян, ноги у гору не идуть, захлебаюсь
аккынчательно, не могу, Лёль, не могу, детка». И баян на работу стала носить
мама. Об этом она мне сообщила в письме: «...А недавно вытолкнул меня
спозаранку на базар — туда, где травы и всякие коренья продаются. Дал рецепт:
«Для поднятия органов всех членов организма и бодрости его принимать за 15
минут до еды «Корень заманихи». Хожу, спрашиваю эту «заманиху». А у нас в
Харькове, ты же сама знаешь, как на базаре: «Вы еще сама заманистая...» Ну
прямо смех и горе с нашим папой. Всю жизнь он перед ней был мужчина с
гигантской силой. И уж если он так откровенно признался в своей
беспомощности... Я этого долго не могла пережить, да даже представить. Стала
реже писать, чтобы поменьше врать. Меж бодрых строчек они легко читали мое
истинное состояние. А помочь ничем не могли. Нас терзало чувство обоюдной
беспомощности. И все же за все испытания и боль, которые я им причинила, они
получили высшую награду. Они забрали к себе мою дочь!
И
в квартирке на Клочковской они зажили втроем особенной, обновленной и радостной
жизнью. Мои родители и не понимали, что это их внучка. Они были уверены, что
вот на старости лет бог им послал счастье в виде маленькой хорошенькой девочки
— «дочурки, клюкувки, богиньки». Ведь я улетела навсегда. Со мной все так
непросто. А это существо маленькое, беззащитное. На него папиных физических и
душевных сил было предостаточно. А маме было всего сорок два года. И дом, и
работа, и маленький ребенок — все держалось теперь на ней. А папе важно было,
чтобы у «унученьки, як и у дочурки до войны, была нянька».
Как
же он гонял этих нянек! Он отпрашивался у мамы с работы пораньше, чтобы, застав
няньку врасплох, без мамы успеть с ней расправиться. И горе той няньке, у
которой девочка ступит босой на холодный пол в нашей сырой полуподвальной
квартире. Как только Машенька переехала в Харьков, папа произвел в квартире
тотальную пертурбацию. Все стены он обил толстым слоем войлока. Комнаты резко
уменьшились и стали похожи на забронированный блиндаж на передовой. А папа в
нем главнокомандующим. И уж как ему ни нравились молодые женщины, но няньку
предпочитал старую и некрасивую. Точно как умный и опытный бизнесмен, у
которого секретарша и деловая, и необольстительная. Зато не отвлекает от дела.
Была у них и одна молоденькая, при ней как раз Машенька и заболела сильнейшим
двусторонним воспалением легких. Казалось, папа был простодушным и искренним
человеком, «я увесь як на ладони», но до поры до времени. Пока дело не доходило
до его кровных интересов — до мамы, до меня, до «унученьки». Но так было
раньше. Постепенно диапазон его защитных владений сужался и замкнулся на
маленькой девочке. И тут он был способен на такие перевоплощения, которые
невозможно было предугадать. Он вдруг становился хитрым, тонким, мудрым,
выдержанным и терпеливым. И не мама, а именно он докапывался до сути.
—
Смотрю, ребёнык здорово кашля́ить. Ну, думаю, усё, дождалися — туберкулёз
обеспечен. Маленькая девычка, уся труситься, у пот бросаить, головка горить, як
у пекли, говорить мне: «Дуся, дай мне питиньки». Пить, значить, просить. И
такой на меня напал страх — гибнить на глазах ребёнык, а етый няньки — блысь,
нету, след простыл — у магазин пошла! Якей такей магазин, когда на дворе полная
ночь. Ребёнык лежить, терпить, глаза распрастёр и молчить... Я ей градусник. А,
мамыньки! Щитай, што чистых сорок градусов. Насилу Лёлю дождавсь: скорей,
скорей, тяни врача... И повезли мою клюкувку у больницу. Як же я страдав,
думав, аккынчательно погибну. Не сплю, не ем, як у во сне иду на работу, а голова
усё вырабатуить и вырабатуить... И тут у в один момент я и змикитив — неспроста
так здорово не заболеишь. Я до няньки и так и сяк — нет, не знаить. Сама,
говорить, не понимаить, як такое дело выйшло. А я сердцем чую, да просто вверен,
што дело нечистое. Тут вокурат якой-то праздник выпав, я ей пыдарык преподнёс.
Она, краля, довольная сидить, разомлявилася, пыдарык примеряить... Ну, я ей и
давай, мол, ты девка красивая. Шуляты в тибя як орех. Нада тибе за хорошага
парня замуж. А то так у девках и пересидишь. «Та есть, — гаварить, — у меня
один на примете, очень хороший парень, тут недалеко служит, военный он». Ага,
чую сердцем, попал я на нужную жилу, — да, так ты его у гости до нас зови, познакомимся,
выпьем з ним по чарчинке «за честь, за дружбу». «Да неудобно как-то, Марк
Гаврилович». А чево невдобно, куда ж тибе ще вести гостя, когда ты в нас
живёшь? «Да он сюда на горку, в сад Шевченко приходит». А иде ребёнык на етый
случай в тибя? «А она на травке сидит в это время, Марк Гаврилович, играется».
Ето у в апрели месяцы сидить «на травке»? Ну вот етага я и добивався, ну,
девка, держися!.. ІЦас ты взнаешь Марка Гавриловича!..
«Люся,
это меня просто бог послал в тот момент. Вот тут уж наш папа точно бы «с чистым
сердцем сел в допр». И это уже без шуток. Потом у него был приступ. Мне надо в
больницу к Маше, тут ему «скорую», а наша Аля в чем была убежала. Я потом ей
вещи потихоньку вынесла. Так что вот так мы и живем. Пиши чаще, а лучше бы ты
выбралась к нам хоть на пару дней. Папа был бы так счастлив. Все бы собрались
«у кучку», помнишь, как в детстве, когда ты была маленькая? Теперь папа тому же
учит и дрессирует Машу».
Это
было как раз в то лето 1960-го, когда я летела из сурового «Балтийского неба» в
сочинский климат, где снималась картина из итальянской жизни. Меня отпустили в
Харьков на один день проведать в больнице дочь. Съемки у меня были ежедневные.
Занятость в каждой сцене. А группа не должна быть в простое. Потому, на случай
если я вздумаю задержаться, со мной откомандировали ассистента режиссера,
который, как только наш самолет приземлился в Харькове, взял билеты на утро в
Сочи... Еще и потому эту «Франческу» не забудешь никогда.
Моя
мама просто жила в больнице. Ей посоветовали ребенка держать на руках, чтобы в
больном организме не образовалось застойных явлений. И она дни и ночи напролет
носила девочку на руках. Когда мы с папой появились на пороге, мама
обрадовалась и расцвела. Машенька хрипло и прерывисто дышала. «Лёль, хай
ребёнык побудить з родною мамую», — разрешил папа. И мама с неловким сожалением
оторвала от себя комок в тряпочках, пахнущих больницей и чем-то пряным. Ребенок
больной-больной, а тут вдруг сразу «почуковнел» и зорко стал следить за тем,
что будет «дальший». Глаза моей дочери стали как у умного, битого жизнью щенка,
которого продают на рынке новому хозяину. «Унученька ты моя дорогенькая, ето ж
твоя родная мама, я ж тибе за её гаварив». Девочка посмотрела не на меня, а
куда-то в моем направлении. Слабо провела по моей щеке влажной ладонью, мол,
это я знаю. А они-то, они-то куда уходят и дверь закрывают, ушли? А я? Оставили
меня с этой чужой тетей, мамой... Ее лицо начинало стягиваться к середине.
Глаза крепко закрылись. Подбородок подтянулся к носу. Нос провалился. И после
сильного шипа из широко открытого рта вырвался неожиданно мощный хриплый крик:
«Лёля, Лёличка, Лелюшенька, любимая, дорогая моя!!! А-а-а...» Тело ее судорожно
вздрагивало и сотрясалось. Она изо всех сил колотила меня мокрыми кулачками.
Двери в палату широко распахнулись. Родители вскочили. Мама выхватила у меня
ребенка. Машенька обвила ее шею своими худенькими ручонками и сразу затихла.
Все случилось молниеносно быстро, как будто заранее все знали, что произойдет.
А я прижалась к папе.
Мой
ребенок счастлив. Он купается в море любви. Так же в этом море купалась и я.
Море любви — из него я вынырнула и отправилась в одинокое неизвестное плавание.
Море любви — вот чего я искала. Вот чего я ждала от всех вокруг... Как часто я
ощущала мучительную пустоту в душе, тоску, сама не знаю о чем. Как часто я чувствовала,
что искала чего-то эфемерного, ускользающего, но необыкновенно прекрасного —
самого-самого: когда летишь и хочется крикнуть на весь мир: «Я нашла, слышите?
Я нашла! Я купаюсь в море любви!» Но нет, это оставалось недостижимым. В моей
семье умели любить. Уметь любить, как понимаешь со временем, это редкий талант.
Еще более редкий, чем талант в искусстве. Моей дочери будет так же тяжело, как
и мне. Мы с ней в детстве получили большую дозу этого «моря». Только она еще
больше, ведь моей маме было восемнадцать. А теперь ее бабушке — сорок два. В
сорок два года к маме пришло то, чего она не понимала в молодости. И все равно,
с папиным «океаном» не могло сравниться самое бескрайнее море. Ну какие же мы
разные с моей дочерью! Я всю жизнь призываю: «Папочка, папусик, любимый, любименький».
Мой ребенок призывал в трудные минуты Лёлю: «Лёля, Лёличка, любимая, дорогая
моя». Как будто не слышала от дедушки слов «любименькая, дорогенькая». Вот как
интересно. В полтора года ребенок инстинктом верно почувствовал, что все
жизненно важное идет от Лёли. Она в семье подпольный главнокомандующий. Они с
мамой одной группы крови. А мы, конечно, с моим папой.
После
развода нам с дочерью досталась тринадцатиметровая комната в общей квартире на
первом этаже высокого московского дома на большом проспекте. Был 1962 год. Ей
уже было три года. И настала пора забрать ее у родителей. Как им это ни было
тяжело, они понимали, что ребенок должен жить вместе с матерью. Этот
ответственный момент — «передача девычки з рук на руки» — был уже не
импровизацией, а продуманным, выверенным спектаклем. Моя мама привезла дочь,
якобы в гости к ее маме. Три дня мы ходили по зоопарку. Побывали в кукольном
театре. И любимое мороженое покупалось в неограниченном количестве. Все
исполнялось по папиной программе: «Лёля ей не даёть удоволь мороженага. А ты,
як истинная, родная мать, дай своему ребёнку столько, сколька он просить. И
тогда она зразу распознаить, аде на самом деле есть истинная мать. Ты ж сама,
дочурка, знаишь, что Лёля человек вредный. А ты, як мать, етый вред убери з
дороги. Ребёнык усё чисто понимать». В общем, приручение шло полным ходом. Но
как только мама отставала, девочка тут же замедляла шаг, оглядывалась, забывая
про мороженое и про меня. Ночью спала только с бабушкой — рука в руке. И вот
проснулась она утром и обнаружила, что бабушки нет. «А Лёля уехала в Харьков, к
дедушке. Мы теперь с тобой будем жить в Москве, — говорила я. И чувствовала
свою полную несостоятельность. — В Москве хорошо», — а в голове: ты еще скажи
трехлетнему ребенку, что Москва — столица. Скажи, что в Харькове таких мишек
нет, каких мы видели в зоопарке. Что делать, с чего начинать совместную жизнь?
Дочь смотрела на меня слепыми, ничего не видящими глазами. Не нужна была ей
столица с мишками и мороженым. Ее мозг лихорадочно работал и, видно, зашел в
тупик. А лицо, как тогда в больнице, пошло собираться к середине. Но крика не
было. Некого было звать на помощь. Начались всхлипывания, перемежающиеся с
горькими стонами, как бывает у взрослого человека, несправедливо обреченного на
муки. Потом она бросилась к двери. Но дверь была на замке. Тогда она стащила со
своей подушки наволочку и стала судорожно складывать в нее все свои вещи —
грязные и чистые, сухие и мокрые. Пряталось в наволочку все, что имело хоть
какое-то отношение к ней. Потом она надела байковую теплую пижаму, хотя на
дворе стояла жара. Но ведь дедушка учил, что пар костей не ломит. Сунула ноги в
сандалии — левый на правую ногу, правый на левую. При этом она что-то говорила
и говорила. Всхлипывания перемежались монологом, в котором ясно слышались
слова: Лёля, дуся Марк, парк Горького, кот Мурат, массовка, Дворец пионеров,
Клочковская. «Дай ключ», — потребовала она. Я протянула ключ. Но он ее испугал,
потому что ничем не напоминал дедушкину тяжелую связку ключей, похожих на
металлические детали разорвавшейся бомбы. «Открой дверь». Я открыла дверь. И
моя дочь, как птица, вылетела от меня на большой двор. Запомнив дорогу, не
петляя, она уверенно его пробежала. И понеслась по большому московскому
проспекту со своей наволочкой, из которой выглядывали бегемоты, слоны и ночные
рубашки с цветочками. «Чья это девочка, товарищи? Девочка, чья ты? Где ты
живешь? Кто твои папа и мама?» — «Я еду до Лёли и до дедушки Марка у Харькув!»
Да, самая пора забирать ребенка. Потом будет уже поздно. Вот уже и дедушкин
диалект налицо.
Боролись
мы долго — кто кого. До изнеможения. Несколько ночей мы почти не спали. Тупо
смотрели друг другу в глаза. И молчали. Потом враз обе, обессиленные, уснули. Я
в кровати. Она в кресле. Из протеста не ложилась в кровать. Ведь кровать — это
все-таки этап смирения. Кровать — это уже что-то окончательное. Ранним утром я
открыла глаза. На меня был устремлен чистый и ясный взор моей ох какой
загадочной дочери: «Мамочка, я хочу питиньки».
Слава
богу, думала, не выдержу. И я сразу же окунула ее в свою жизнь, свои гастроли,
концерты. Пусть познает жизнь своей мамы горячим, недетским способом. И пойдут
потом укрощения и притирки и ощущение страха уже не только за себя, но и за
родное существо рядом. И новое ощущение материнства. И выработка личных методов
воспитания, соединяющих и «море», и муштру. Это все потом.
«Ничто
на земле не проходит бесследно». Стрессы и неприятности закаляют душу, но
подтачивают организм. Все мои перипетии вылились в болезнь, которая полностью
выбила меня из жизни. Я почувствовала сильную боль в суставах ног и рук. Сердце
бешено застучало и давало сто тридцать ударов в минуту. И самое страшное — стал
пропадать голос. Сначала подсипывала слегка. Это стала замечать к концу картины
«Гулящая». Но в роли усталая сипотца была даже к месту. А потом голос стал
совсем не мой. И однажды он исчез совершенно. Актер без голоса — все равно что
машина без мотора. Как дерево без листьев. Как рояль без клавиш. Нет большей
драмы для артиста, чем потеря голоса. Пусть даже излечимая и самая
кратковременная. Потеря голоса — этим все сказано. Спроси об этом у артиста,
пережившего такое, и увидишь, как изменится его лицо, как моментально у него
пропадет юмор. И он начнет прочищать горло — гм-гм, гм-гм. И это чисто
инстинктивно, от панического страха повтора такого наваждения. Мне кажется, что
артисты, перенесшие длительную потерю голоса, уже пережили в жизни своеобразную
трагедию. У меня же голоса не было больше года. «У двадцать пять лет полная
калека». Что делать, куда деваться? К родителям в Харьков? Жестоко обрушивать
на них еще и это. Они счастливо живут себе и не ведают, что там со мной на самом
деле. Обмолвлюсь кое-каким словом маме по телефону, и она ходит мучается,
ничего не говорит папе.
—
Лёль, можа, з дочуркую что неладно, а, Лёль?
—
Да нет, Марк, у нее все в порядке, у меня свои дела, отстань.
—
Дочурка, — спрашивал он у меня, — а якеи у неё могуть быть свои дела, когда мы
з ею делаем усю жизнь одно общее дело на благо нашего народа. Мы делаем людя́м весёлую
жизнь, дочурка, ты ж сама знаишь. Значить, што выходить? Значить, она
улюбилася. А як же иначий?
И
он уже высчитывал в кого. И самое удивительное, что у него все сходилось. Все
совпадало и все подтверждалось: «Когда твоя мать ездила до тибя у Москву, и
етый парень з парка Горькага вокурат в етый самый мумент быв у сталице. И он
тут як тут. Ну што ты на ето скажешь, а, дочурка? Ей и нима чем крыть».
Я
его выслушивала, говорила, что мама была с Машенькой, не выходила из дома. Но
больше всего я боялась, вдруг он заметит, что я вот-вот рассмеюсь. Дорогая моя
мама! Сколько же она выдержала несправедливых обвинений из-за того, что умеет
похоронить в себе тайну. Из-за того, что умеет быть настоящим другом.
Это
было безжалостно, но я опять обрушилась на родителей. Папа встретил беду
мужественно. И сразу же приступил к действиям: «Отыскать у Харькуви врача, а лучий
— прохвесора». У меня обнаружили сильные эндокринные нарушения. Отсюда и частый
пульс. Если подлечить основную болезнь, будут уходить и боли в суставах. И
родители меня положили в больницу. Я была настолько сломлена всем комплексом
навалившегося на меня — одно на другое, без передышки, что могла понять сам
факт происшедшего — вот я и в больнице, но не его значение — что я сильно
больна. И тут, в больничной палате, у меня появилось много времени для того,
чтобы видеть себя со стороны. Думать и анализировать, делать выводы. Вставать,
ходить, приседать было мукой. Говорить нечем — один сип. Так что целыми днями я
лежала и молчала. Принимала лекарства и думала, думала. Вспоминала и
перемалывала. Ах эта больничная зима 1961-го...
Меня
постоянно преследовала мысль, что, куда я ни отправлюсь, хоть на край земли,
мне все время теперь чего-то будет не хватать. И мои поиски будут безнадежными.
Я часто видела ту квартирку на окраине Москвы, в которой наводила уют. В
которую отовсюду привозила разные штучки. Но они не прижились. А так и остались
штучками. Не прижилась и я. Стояли вещи, мои фотографии. А меня там не было.
Больше я не вешаю в доме своих фотографий.
Вдруг,
среди ночи, когда в палате было тихо-тихо, я просыпалась после короткого сна,
потому что во сне ясно видела себя уходящей из того дома с чемоданом и с дочкой
на руках. Как бежала по морозу на первый появившийся автобус. Лишь бы скорее,
куда-нибудь, только подальше от дома. Твой дом там, где ты чувствуешь себя как
дома. Не было больше у меня такого места. Да, случилось так. Человек красив,
талантлив, оригинален, но не твой. Конечно, я любила того, кого не знала. Когда
ушла острота кратковременных всепрощающих примирений, а главное, прошло время,
которое позволило как-то отдышаться, вот тут-то я неожиданно начала все видеть
как-то сфокусированно. Четко, но издали. И началось прозрение. Ах, какой же
эмоциональный заряд был брошен на это чувство, ах, какой заряд. Как же меня в
начале конца мучило ветвистое украшение на голове и пригибало к земле от стыда.
А потом ничего, свыклась. Научилась сдерживать слезы, чтобы они не раздражали.
Это так обидно.
...Теперь
ненавижу в роли слезы. Любым путем обхожу их. Или оставляю их за кадром. Как в
«Пяти вечерах», в финале. Целый день готовилась, плакала, чтобы в кадре быть
опухшей от слез, но с сухими глазами. И режиссер все понял. Я читала это по его
лицу.
Я
лежала в палате и вспоминала. Боль удалялась все дальше и дальше. И я все яснее
и яснее видела, что замок свой возводила на песке. И вот песок рассыпался, а
замок рушится. Я уже не играю в пьесе, а наблюдаю со стороны, как зритель. За
мной оставалась расщелина, которую я принимала за райские ворота. Вот, думаю,
распахну, — а там «море любви»! Э, нет, «юная дама», прощайтесь с иллюзиями.
Боль в душе утихала. И телу стало легче справляться с недугом. Несмотря на
боль, я насильно ставила себя на ноги. Кажется, я не испытывала больше к
объекту своего обожания ни тепла, ни уважения. Ни тем более любви. Наверное,
что-то подобное пережил поэт, когда написал строчки: «Обманом сердце платит за
обман». Это Лермонтов. Или все — или ничего. Вот, пожалуй, суть моих
бессмысленных поисков. Обидно. Но видеть его больше не хотелось. А в семье у
нас появился термин — «отец нашей Маши».
Верно,
что в поражении победа. Умерла моя любовь. Утихла моя тоска. В моем родном
Харькове, в больничной палате, рядом с любимыми родителями я оздоровилась. Я
поднялась над собой. Приходило исцеление, потому что умерла моя любовь. Я была
счастлива! Парадокс. В душе надолго поселятся испуг и подозрительность. Около
меня будут появляться милые и интересные люди. Но это будут случайные люди.
Ведь одиночество прекрасно. Но не тогда, когда оно длительно.
И
я, как черепаха, начну потихоньку обрастать непробиваемым панцирем запрета на
искренность и нежность. Буду обогащаться новыми и новыми изощренными и гладкими
фразами, которые ничего не выражают. Но и не обижают: «Ах, мы вас обожаем!»,
«Как вы милы!», «О, у меня нет слов», «Мы, кажется, в вас чуть-чуть того, как
это по-русски... Ай лав, монамур, Баттерфляй!» А почему на «вы»? — ежеминутно
помнишь: вылезешь из брони, так и схватишь щелчок по носу. Да и зачем вылезать.
Именно это и имело успех. И это вместо простого «люблю».
Однажды,
в роли, я искренне скажу это слово. И мой талантливый партнер почувствует, что
это сказано не по-актерски. Партнер будет по-настоящему талантлив. И, как
всякий талант, неожидан и необъясним. Он вдруг заинтересуется, начнет искать,
сравнивать меня в жизни и в работе. И никак не выведет точную формулу: тут она
в жизни, тут в роли. Он напрямую уколет меня «случайным человеком». Мол, как же
это могло случиться? Такой прямой вопрос меня сразу насторожит. Но дальше
развивать эту тему я ему не дам. Я перебью его мертвым взглядом, который меня
защищает в те моменты, когда колют в больные места. Я посмотрю ему прямо в
глаза. И даже сейчас я ощущаю боль, с которой сжались в карманах мои вечно
мерзнущие руки. И мне будет все равно, что он подумает. Многое хотелось сказать
ему. Он бы понял, но... Знаете, орлы летают в одиночку.
ГЛАВНОЕ — ПОНЯТЬ, ЧЕГО
ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
В
свободное время все стремятся за город. На чистый воздух. От людей не отстаю.
Тоже стремлюсь на воздух. Прибываю на природу. Оглядываю зеленые окрестности.
Полной грудью вдыхаю кислород раз десять. А на одиннадцатый начинает кружиться
голова. Потом она уже в железных тисках. Но кто же на природу берет цитрамон?
Когда же наконец все надышатся? Когда же всех потянет обратно в город, где жизнь
бьет ключом, бурлит и пенится. Сейчас, наверное, «там» происходит самое главное,
двигающее вперед, «дальший». Там работа, там... А здесь ходишь и тупо дышишь.
Или лежишь до одури под солнцем. Глупо пролетает время. И мчишься в город,
пахнущий милой одурманивающей гарью. И голова мгновенно проходит. Она снова
чистая и ясная. А тут, в городе, все на своих местах. Ничего
сверхъестественного не произошло. То был ложный страх. А на душе все равно
спокойнее. Любовь к запаху бензина и выхлопным газам у меня с детства. После
войны, когда в Харькове появились первые «Победы», я гоняла за ними по нашей
Клочковской и жадно вдыхала такой новый едкий запах. Во всем мире он
одинаковый. Он меня успокаивает.
Я
сбежала из больницы в Москву. Ни больничного режима, ни даже любимых родителей
выдержать больше не могла. Жизнь стремительно убегала прочь. А я вдали, где-то
на периферии, от событий, от профессии. Лежу, болею. В Москве моя жизнь. В
Москве мое поле битвы... И вот я вернулась. И что же? Жизнь у всех идет своим
чередом. Произошли и происходят события. Но для меня — никаких новостей. Уже
больше года тянется глухой простой. В Театре киноактера снята с «простойной»
зарплаты. Все сроки после «Гулящей» миновали. Меня некоторое время щадили. А
потом сняли с довольствия. Через время в театр придет новый директор. Увидит
мое кризисное положение. В шумовом «гургуре» японского фильма я скажу фразу:
«Да-да, Тасико-сан, я его позову». И меня опять на некоторое время возьмут на
«простойную» зарплату.
Сцены
у театра не было. Спектакли не ставились. Но они репетировались! Репетировались
на самодеятельных началах. Чтобы актер не смог забыть, что он все-таки актер. В
то время в коридорах и комнатах помещения Театра киноактера полным ходом шла
творческая жизнь. И я ринулась в творческие коридоры. В роли Джульетты я совсем
не по-девичьи, не шустро, а медленно, преодолевая полиартритную боль,
опускалась на колени перед кормилицей. Но все же опускалась и исполняла
мизансцену. И пусть Джульетте не подходил мой больной сиплый голос, но я говорила
ее прекрасные монологи. В тот период, когда ко мне медленно стал возвращаться
голос, у меня был очень своеобразный тембр. Эдакий модный «секс-тембр». Вот бы
иметь записи на память с тем голосом. Но до записей ли было тогда. И тот мой
«секс-тембр» по суровой необходимости оставался тоже маленькой домашней
радостью с коридорным успехом. Но я жила, тянулась изо всех сил, репетировала в
коридорах, больными пальцами играла на гитаре дома. Только в работе, только в
ней, голубушке, приходило облегчение, какой бы скромной и незаметной она ни
была. Работая над Джульеттой, открывала для себя мир Шекспира, проживала
трагедии Гамлета, Отелло и короля Лира. Счастье училась измерять пережитыми
несчастьями. И моментально запоминала те строчки, которые помогали, давали заряд.
«Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих
отлагательств». Замыслов, да еще с размахом, нет. Исчезло, как будто испарилось
то свойство мозга, которое управляет способностью мечтать. Не до мечты, не до
размаха. А вот об отлагательствах — это ближе. Не прозябай, не отлагай, работай
в коридорах, работай в комнатах, работай дома с гитарой, работай идя по улице.
И пусть еще долго не видать плодов. Человеку, для которого одно из тяжелейших
испытаний есть не отсутствие семьи, не отсутствие любви, не отсутствие наличия
материальных благ, а отсутствие работы, девальвация профессии, если он от этого
гибнет... Ох, он должен обладать большим запасом нравственной прочности, чтобы
выжить. Рядом со мной жили, трудились, работали и репетировали мои коллеги.
Студия
киноактера... Здесь не спросят, зная, что ты в простое: где ты сейчас
снимаешься? Такой вопрос — жестокая шутка. Здесь можно было поговорить,
вспомнить, пожаловаться, можно было немножко, чуть-чуть, самую малость
помечтать. Профессионально обсудить новые распоряжения студийного руководства
или новый приказ из министерства, который, может быть, изменит жизнь, даст
надежду. А может, откроют театр? И мы будем играть на сцене? И к нам придут
зрители?.. Ничего, ровным счетом ничего не зависело от этих актерских
разговоров и обсуждений. Но без искры надежды жить совсем невозможно. У меня на
глазах к людям, довольно молодым, приходило разочарование, которое потом
сменялось апатией и покорностью судьбе. Я изо всех сил боролась сама с собой. Боролась
со своим мраком и подбрасывала в себя бодрость духа, как вливают в машину
бензин, когда он на нуле — и ни с места. В допинге, в надежде — вот в чем была
нехватка.
На
моей памяти не было собрания или конференции, где бы кто-то из ораторов с
удивлением и сочувствием не называл мою фамилию. Как же так, актриса,
зарекомендовавшая себя в жанре музыкальной комедии, а также в драматических
ролях, и вот несколько лет находится в простое. Сначала мне даже льстило, что
коллеги признают меня, беспокоятся, считают актрисой. А потом, от частых
вариаций: актриса в расцвете сил без работы, куда же смотрят режиссеры? —
появилась мода, привычка пожалеть, поохать, посочувствовать. О! Это яд. Сладкий
ароматный яд. Как хорошо, когда тебе сочувствуют, когда тебя жалеют. К этому
яду привыкать опасно. Можно плотно засесть в актерском буфете и слушать, и
слушать, и слушать. Жалеть себя и плакаться, одурманиваться и постепенно
наливаться злобой на всех и вся. Мозг ослабевает, тело расползается, лицо
теряет прежние черты. И все глубже и глубже, дальше и дальше... И подняться
порой человек уже не в силах. Под влиянием жизненных неудач и ударов происходит
накопление физического аффекта. И этот аффект как бомба — тронули, и
взорвалась. И все. Хода назад нет. Отказали слабые сдерживающие центры. От
беспомощности выдвигаешь противодействие, свою злобу-броню. Тебе с ней удобно.
Она удобно в тебе разместилась. А воспоминания о катастрофе ежеминутно
сигнализируют: не верь, не слушай, не принимай, вспомни, сколько они принесли
тебе горя. И ты уже забыл, кто эти «они». Зрители? Критики? Директора?
Режиссеры? Путь дурмана не для человека, который не может жить, чтобы не
лицедействовать. И если это действительно актер,
он вовремя сделает остановку и начнет жалеть не себя в себе, а изо всех сил
станет жалеть и оберегать себя для профессии. Что такое талантливый актер,
потерявший свою боевую форму? Через время самая квалифицированная экспертиза не
докажет, что ты — та самая девушка, «ну, помните, та, у которой была тонкая
талия, она еще пела про это...»
«Товарищи,
миленькие, родненькие, посмотрите, это же я! У меня была тонкая талия. У меня
было милое доброе лицо, и я вам пела про хорошее настроение. Вспомнили? Нет? Не
узнаете? Как же, ведь это правда я... Что же мне делать?» — «Терпи, моя детка,
твоё счастье упереди, хорошага человека судьба пожмёть, пожмёть и отпустить.
Жисть есть жисть».
Что
делать? Работать, репетировать, ждать и терпеть и любить людей! Помнить, что
твоя профессия зависимая, требует наравне с талантом и работоспособностью терпения.
Жди, пока не увидят, не отметят и не пригласят. Выжить, перемолоть, переждать
тяжкое время, которое оставляет свои шрамы и следы только в эмоциональной
памяти души и сердца. И нет об этом времени никаких анкет и протоколов. И нет
твоей подписи даже в платежной ведомости. А та, казалось бы, на первый взгляд
бессмысленная, работа не пройдет даром. Как говорил Павел Кадочников в
бессмертном детективе Бориса Барнета «Подвиг разведчика»: «Терпение, мой друг,
терпение — и вы станете миллионером. Правда, это не так просто...» Ох, это
непросто. Золотые слова.
Теперь,
когда я много снимаюсь, те же ораторы, которые в шестидесятых мне
сочувствовали, не скрывают иронической ухмылки: «Что-то ты без конца снимаешься,
не много ли?» Что тут ответить? Что человек, перенесший блокаду, на всю жизнь
панически боится голода. И ни за что не выбросит кусочек хлеба. Он его спрячет,
превратит в сухарь, сбережет. Я боюсь выбросить кусочек хлеба. Ведь меняются
люди, вкусы, время... А вдруг завтра опять затяжная блокада? Говорите, милые
люди, говорите. Я буду вам кивать и поддакивать. Но работать буду. Пока есть
работа и силы.
Если
это так сейчас, то что было тогда, когда сил было хоть отбавляй? Энергия била
через край — да так, что заглушала физическую и душевную боль.
И
вот когда появилась возможность попасть в концертную бригаду, как же я была
счастлива! Это были не концерты, а встречи со зрителями группы
кинематографистов. В группе были и режиссеры, и сценаристы, и операторы, и
художники, и конечно же артисты. Собрались люди разных поколений. В таких
встречах, да не в Москве, я еще ни разу не выступала. С чем и как предстать
вновь перед публикой? Как только я вышла на сцену, я почувствовала, что это
публика из другого царства. Своим добром зрители и подсказали мне, какой мне надо
теперь быть. Они меня ждали: «А мы думали-гадали, наверное, с вами что-то
серьезное стряслось. Куда же, думаем, она так бесследно подевалась?» Ах ты,
милая моя, дорогая публика! Стряслось, стряслось, конечно же стряслось!
Публика, публика, ты меня погубила, освистала, уничтожила... Ты же меня и
воскресила, оживила. Ты влила в меня свою могучую окрыляющую силу, ты помогла,
подсобила сделать первый шаг. Спасибо тебе, моя дорогая, моя мучительница, моя
богинька! Я ведь тебя всегда боюсь. Но сегодня боюсь огорчить, не оправдать
твоих надежд. А тогда, раньше, так нервничала, так старалась. Ну, я еще к тебе
вернусь, и не раз. Мы ведь всю жизнь рядом, бок о бок.
Та
наша группа подобралась из людей на редкость остроумных, замечательно
ироничных, понимающих все с полуслова и более всего уважающих в человеке
оригинальное мышление и талант. С ними было интересно и многому можно было
поучиться. И я старалась не пропустить ни одного слова, жеста, интонации...
«Друзья, в нашей жизни главное — понять, чего делать не надо, потому что
остается все, что делать можно и нужно». Хорошенький кроссворд, голову
сломаешь, — чего можно, чего нельзя. И с тех памятных концертов, всякий раз
приступая к роли или перед выходом к зрителю, сама ко мне залетает эта фраза:
не делай того, чего делать не надо...
Среди
нас была одна актриса, скажем так, еще не среднего, но уже и не молодого
поколения. С первого взгляда она была красивой женщиной. Со второго взгляда
появлялось ощущение: вроде все на месте, а чего-то нет. Чего? Но это уже со
второго. У нас же была возможность и первого взгляда, и второго. И даже
неизбежность смотреть ее на сцене неоднократно, поскольку выступать приходилось
по нескольку раз в день. Через некоторое время мы уже знали все остроты и
заготовленные шуточки. Все выходы и многозначительные паузы. Короче, могли
заменить друг дружку. Не перед зрителем, конечно, а так, в актерском
капустнике. Но интересно, что талантливый человек высказывает мысль каждый раз
новыми словами. А если и повторяется, то глядит с неловкостью на нас за кулисы.
Сам внутри над собой подсмеивается, мол, ребята, а что делать? Да, подустал
маленько, повторяюсь, тупой стал, мозги не варят. И мы за кулисами улыбаемся. И
от этой открытости рождается ощущение какого-то особенного актерского братства.
Это если человек талантливый. А если нет...
В
каждой профессии есть такие слова, которые понятны изнутри и смешно, а порой
глупо и двусмысленно выглядят для тех, кто далек от этой профессии и слышит это
слово впервые. В кино есть много таких слов. Например, «кинопроба». Если
выступаешь перед зрителями, со словом «проба» всегда надо быть начеку. Потому с
этого момента буду брать его в кавычки, на всякий случай.
Так
вот, эта актриса уникально манипулировала словом «проба». «Жила я себе и
жила... И вдруг — счастье! Меня попробовал Сидор Сидорович. Попробовал и
утвердил!» Она называла одного известного кинорежиссера только по имени и
отчеству. (Ну, допустим, Сидор Сидорович.) Но зритель его знал по фамилии. По
имени и отчеству его знали только кинематографисты. Кто такой Сидор Сидорович?
— спрашивали зрители после концерта. После «Сидор Сидоровича» в зале было
всегда очень весело. Однажды сценарист посоветовал ей подробнее рассказать о
той роли, которая принесла ей успех: «Ну, скажите, что ваша героиня — не наша
современница... Ну... скажите, что вы сидели в библиотеках. Ну... порылись в
истории, что ли... в общем, подумайте. Ведь это зрителям всегда интересно». — «Что,
товарищи, вам сказать о роли, которая принесла мне успех? — говорила она
вечером на концерте. — Вы сами только что видели, что это женщина не наших
дней, это определенная эпоха, совершенно другое время, тут предстояла работа
над ролью. И я посидела в библиотеках. Я порылась в истории, ведь это же
образ!..» И когда ее рассказ о роли вызывал в зале только унылое недоумение,
она опять переходила к своему бойкому, затверженному, оптимистичному монологу о
кинопробе.
Как
только она входила в клуб, она крепко жала руку подряд всем, кто попадался на
ее пути: билетерам, детям, администрации. И тут же направлялась в буфет, «к
девочкам». С ходу их называла по-свойски на «ты». Целовалась с ними.
Пошлепывала их детей и как бы между прочим выясняла, какой такой дефицитный
товарец есть в городе. В том нашем концертном маршруте самыми крупными городами
были районные центры. И женщины, польщенные таким столичным знакомством с самой
киноактрисой, готовы были расшибиться, чтобы их город оставил о себе самую
добрую память. И товарец находился. Все было точно отработано. Да тут просто
слов не подберешь, талант, талант, и все. Где-нибудь в другой сфере, в чем-то
другом она должна была найти свое место. Не знаю где. Но только не в искусстве.
Я
боюсь таких людей, а еще больше актеров, у которых все всегда ровно и
празднично. И душа не болит, и совесть не мучает. Никогда. И всегда все прекрасно.
...Смотришь
на морскую гладь. Дети бросают камешки в пробку от шампанского. Лежишь и
думаешь — ну кто же из них попадет? И саму подмывает попробовать. Дети уйдут —
тогда... Но вот набегает туча, начинает накрапывать дождь, и мамы поспешно
разбирают своих детей. А ночью бушует море, шторм, да такой, что взламывает
бетонные пирсы и уносит лодки и навесы. Вот так и жизнь!.. Тихо-тихо, а потом —
хрясь! Наутро притихшие отдыхающие в теплых кофтах и оренбургских платках ходят
по пляжу, поднимают коряги, выброшенные штормом. А что это там белеет среди
грязно-бурых волн? Белеет и даже подпрыгивает весело и победоносно? Пробка? Да,
это вчерашняя пробка от шампанского. Ох ты черт, какая живучая — ничего ее не
берет...
ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ
СВЕТ
Шестидесятые
годы... Экран завоевывает режиссерский кинематограф. Тонкие актерские нюансы
отходят на второй план и уступают место режиссерским размышлениям в виде
кинематографических гипербол, сравнений, эффектного монтажа. В моде
актеры-типажи. Режиссер мог снимать актера за его прекрасную улыбку, за
скульптурно правильное лицо, которое так от природы фотогенично, что безо
всяких усилий изнутри выражает мировую скорбь. Актер, углубившись в себя, мог
решать: «Из зарплаты в 250 рублей вычесть налог 13 процентов, это будет...» А за
кадром красивый баритон вещает: «Сколько сынов здесь прошагало, сколько горя
горького выпито...» И на экране — ну просто непревзойденный эффект! В лице
актера от природы таилась какая-то весомая загадка. Другому же его коллеге
нужно три дня не спать, биться головой об стенку, перевернуться в тройном
нервном сальто, чтобы достигнуть такого эффекта. Кино не театр: в кино можно
обмануть. Как хорошо, что сегодня, в 80-х, в лучших картинах голос режиссера не
заглушает духовные нюансы актера. У лучших режиссеров 80-х актер в его фильме —
единомышленник. Сейчас в кино смешались жанры, сгустились краски. Режиссер
приглашает на роль актера, внешность которого, казалось бы, далека от данного
персонажа, как небо от земли. Разве об этом можно было подумать тогда, в 60-х?
Теперь нужен актер. Актер — это значит, он сможет все! Наступило прекрасное
время: твори, выдумывай, пробуй.
Совсем
недавно мне, в который раз, задали вопрос: «В чем же главное различие театра и
кино?» Никогда не могла «схватить» это «главное». Все же, присутствуя на
спектакле театра — как бы хорошо ни играли актеры, как бы «железно» ни был
поставлен спектакль, я смотрю, куда хочу. А в кино — смотрю туда, в том
направлении, куда ведет меня за собой камера. Она выбирает, на что мне
смотреть. А камера — это режиссер. А если не замечаешь камеры — а идешь, как
будто ты сам хочешь так идти и именно это видеть... Тогда это прекрасный
режиссер, это «твой» режиссер!
Шестидесятые...
Это время, когда в моду входили шуршащие плащи «болонья», пальто и куртки из
кожезаменителя, синие блейзеры с золотыми пуговицами. Это время, когда
знаменитую Брижит Бардо начинала затмевать слава английских «Битлз». Но у нас
Брижит Бардо была еще в самом разгаре. На экранах с большим успехом прошел
фильм «Бабетта идет на войну». И все женщины стали ходить с прическами «а ля
Бабетта» и по возможности — с пышным бюстом. Из-за больших голов с начесами все
казались тонконогими.
И
я от моды не отставала. Да ни за что на свете! Тоже немножко Бабетта, с
бантиками, с волосиками, подкрашенными в модный цвет. Кто сказал, что женщине
трудно одеваться модно? Я этого не понимала никогда. В самые бедные
институтские времена три-четыре рубля на ситец находилось всегда. А копеечные
ленточки и кружевца для отделки? Ей-богу, мне все завидовали! «Ну, у нее
столько нарядов!» А позже, когда не было ничего — ни зарплаты, ни работы в
кино... Концертная поездка облегчит жизнь, купишь в комиссионном идиотское
платье большого размера. А фантазия, фантазия-то на что! Сидишь, крутишь,
вертишь, выходишь — все ахают! Где купила? Да так, говорю, случайно досталось,
заморское... И все верили. А потом, через время, — хвать от него рукава, а
вместо складок — юбку «дудочкой». И идешь как японская гейша, тюк-тюк-тюк
каблучками. Фурор! А одно платье перешивала рекордное количество раз. Уж больно
материал был занятный. И моя приятельница говорила мне по телефону: «Я так
понимаю, что сегодня на тебе будет вариант номер «семь». Эти, казалось бы,
мелкие радости здорово меня вдохновляли в те времена.
Шестидесятые
годы... В моде песни: «Джони из зе бой фо ми», «Под крылом самолета», «Я гляжу
ей вслед», «Дунай, Дунай» и прогремевшая на весь мир «Пусть всегда будет
солнце». Моя Машенька с упоением пела и разучивала эти песни. Я купила ей
проигрыватель и много пластинок с детскими сказками. «Послушай, дружок, сказку
о Красной шапочке», — и полчаса я свободно могла заниматься своими делами. Все
мои знакомые последовали моему совету и купили своим детям долгоиграющие сказки-пластинки.
Замечательное изобретение! Дети развиваются и умственно, и музыкально, и
артистично, ну — и познавательно. И у матерей развязаны руки. Очень удобно!
В
те годы работы у меня не было прочно и наверняка. А времени свободного было...
Да все время свободное. Даже страшно. И именно на то время падает обильное количество
знакомств с людьми. С людьми разными — работающими в искусстве и вне его. Тогда
я попадала в самые различные компании с необычным для меня микроклиматом,
новшествами и модами. У меня была полная свобода выбора — мое это или не мое.
Совершать ошибки в оценках людей и своих поступках. Переболевать обманы и
человеческие перевоплощения. Делать выводы. Искать свое. Отметать чуждое.
Я
познакомилась с людьми так называемого светского круга, где велась игра во
взаимную вежливость: «Прошу вас», «О, нет, прошу вас», «Входите вы», «Нет,
входите вы». Здесь не говорилось ничего лишнего. Говорить лишнее — моветон.
Ей-богу, честно, я им подражала и тоже подолгу молчала, только слегка кивала
головой — ни в коем случае не эмоционально — нет-нет, чтобы получилось то ли
да, то ли нет. Молчу, молчу изо всех сил. Но невозможно же! Ведь так вообще
ничего и не произнесешь... И несмотря на то, что я скоро усвоила, что высшее
благородство — в молчании, подавлять себя искусственно не могла. К сожалению
или к счастью, но я принадлежу к такому типу людей — людей, очень неудобных в
общежитии, — которые говорят то, что думают. А кому это понравится?
А
жизнь, с бесконечным количеством свободного времени, продолжалась. Вскоре я
увлеченно окуналась во что-то новое.
Заинтересовало
меня загадочное искусство художников. Чистый листок бумаги, напитавшись
какой-то сказочной атмосферой, вдруг дышит как живой. На нем шагают люди,
распускаются розы... Фантастика! Мастерские художников размещались или в
подвалах, где было серо, сыро, темно и пахло красками и плесенью. Или на
крышах, в поднебесье, где ярко светило солнце и было много голубого неба. И ни
одной крыши рядом. Прямо как в замке или в тереме. И в подвалах, и в поднебесье
я чутко вслушивалась в незнакомые слова и определения, внимательно следила за
необыкновенными мыслями талантливых людей. Они разговаривали на своем особом
языке, как глухонемые на улице, когда прохожие удивляются, как же это не
словом, а руками можно все абсолютно изобразить. Ох, как многого я не знаю. Как
о многом не ведаю. Я сидела с умным видом, кивала и... ничего не понимала.
Наверное, здорово пишет Дебуфе. Но как он пишет и про что — не знала, только
кивала и поддакивала, опустив глаза. А когда увидела книжку с иллюстрациями его
работ, совсем потерялась, сникла, скисла. Ничего не поняла. А умный вид уже был
продемонстрирован. Запутывалась окончательно. Тогда еще не умела честно
сказать: я этого не знаю, не понимаю, это не мое. Да, я тогда и сама не знала,
что мое, а что — нет. Нет, видно, не дано мне постичь тайный, интимный процесс
работы художника. Когда вижу результат — хочется плакать. И я опять искала
свое.
В
жизни встречаются люди, которых сразу же признаешь за близких друзей.
Безошибочно это бывает крайне редко. Ты им раскрываешь свою душу, потому что
инстинктивно чувствуешь, что здесь тебя не предадут и не обманут. Тут уж можно
довериться безо всяких опасений. И испытываешь такой восторг, когда получается,
когда удается заразить человека своим азартом! В такие минуты в ажиотаже от
счастья, что ты нашел долгожданный объект, бездумно говоришь вдруг невозможные
вещи. Эти обильные извержения, опустошающие «набеги» были мне органически
необходимы. Они наплывали на меня, когда нужна была разрядка энергии, которая
копилась во мне, не находя применения. Я была беспомощна перед этой силой. Я ее
боялась. Она меня мотала, мучила и не выпускала из своих цепких лап. И только
после опустошений эта сила отходила и давала возможность отдохнуть, одуматься,
отрезветь. А потом опять начинала подкрадываться со всех сторон, опять сжимала
в железные тиски.
Сейчас
я понимаю, что это были своеобразные спектакли. Необходимость играть — как
дышать, как пить, как есть. Я находила зрителя на всех перекрестках своего
запутанного маршрута. Я наваливала на него избыток своей энергии. И порой кто-то,
не умев распознать, сориентироваться, конечно, принимал меня за человека «с
приветом». «Вот уж эти артисты, все-таки они придурковатые». Отсюда порой
рождались сплетни, делались неверные суждения, расползались слухи и небылицы.
Теперь,
когда много работаю, я экономно распределяю дорогостоящую для здоровья энергию.
Держу себя, если вдруг распирает азарт «набега». Если раньше в самолете, перекрикивая
рев моторов, я находила себе жертву и она меня слушала, в купе поезда до рассвета
веселила попутчиков, а дома, от того что звучало пианино, в стену стучали
соседи, то теперь, как войду в самолет, быстренько пристегнусь еще до того, как
зажжется объявление: «Ноу смокинг. Фастен белтс». И закрою тихонько глазки.
Зайду в купе поезда — тут же на полку и калачиком, лицом к стенке, чтобы
остаться неузнанной. И музыка в доме на полтона, и очень редко громко, как
раньше. Музыка тоже требует энергии. Соседи довольны, наконец-то притихла эта
артисточка, а раньше: «Что? Вот это ваша работа?! Что мы, не знаем, как работают
настоящие артисты? Что же это вас не снимают? Мелькнули раз — и метлой? Ха-ха!»
Теперь притихла я. И притихли мои соседи. Но в самолете, закрыв глазки, но в
поезде, свернувшись калачиком, вы думаете, я отдыхаю, я сплю? Нет, сплю я
трудно. Все думаю, думаю... Передо мной все летят, бегут обрывки фраз, эскапады
чьих-то возбужденных выступлений, вспоминающихся некстати — полная белиберда и
хаос. Это меня преследует, не отпускает, трясет до головокружения, до
изнеможения. Я оглушаю себя снотворным, засыпаю болезненным сном, чтобы
проснуться и снова лихорадочно и тревожно существовать под гипнозом этого
хаоса. И вдруг весь этот хаос выстраивается в стройную шеренгу, обрывки
склеиваются в одну точно смонтированную ленту, и даже интонации чьих-то
выступлений, оказывается, были неслучайными. В это время я совсем замираю,
целиком ухожу внутрь себя и вокруг ничего не вижу. В эти моменты происходят
самые роковые ошибки в отношениях с людьми. Они не понимают, что я болею. А я
не могу им объяснить своей болезни. Она неизлечима. От нее есть лишь одно
лекарство. Болезнь отходит в тот момент, когда я вхожу в кадр новой картины.
Когда я становлюсь другим человеком. Эта болезнь была процессом перестройки
организма на новый лад. На лад другого человека. Этот новый человек и ходит, и
мыслит, и ест иначе. Существует на другой, не на твоей жизненной ступени.
Следовательно, у него и пульс другой. У него иное давление и другая частота
дыхания. И группа крови другая. А если иметь в виду, что женская природа ох
какой запутанный и сложный, вечно загадочный и капризный организм, то, может
быть, чуть-чуть приоткроется степень тяжести этой болезни — психофизического и
биологического переустройства организма. Но в период болезни я вдруг произношу
фразы, которые могут обидеть человека невниманием или кажущимся потусторонним
пренебрежением. Вот именно, потусторонним. В момент болезни я не рядом с ним.
Через время я мучительно вспоминаю, что же я такого могла сказать? Почему
человек насторожился и как бы изменился? Я вас по-прежнему очень люблю, прошу
прощения. Во мне сидел недуг, но разве это объяснишь... И часто бывает, что
поздно. Наверное, отсюда и тяжелый характер. Безусловно, тяжелый. Но что-то я
не встречала актеров с легким характером, если, конечно, профессия владеет ими
полностью. Но... задним умом всегда бываешь хорош. И сколько же должно было
пройти лет, сколько случайно выброшенных фраз, сколько расстроенных отношений с
людьми, чтобы все это дошло до сознания и чтобы сделать вывод: болеешь — не
показывайся на глаза. Закройся — и мучайся в себе. А что делать, если вся жизнь
на глазах, на людях? Даже ночью — в поезде...
Тогда
же, в те времена, в тяжелые времена безролья, эти «недуги» были как своего рода
катарсис. А иногда как тренинг, как проверка: а если в бой, вот так, с ходу,
повоюешь? Да, да, дайте бой, дайте. Как говорилось в одной из пьес: «Бомба
есть, запала нет, а то так бы и трахнул».
Изредка
про меня вспоминали. Да нет, не изредка. Всего один раз. Пришла с бьющимся
сердцем на кинопробу, посидела в гриме и костюме несколько часов. Дошла до меня
очередь. А до конца смены осталось пятнадцать минут. Режиссер нежно меня обнял
за плечо и очень вежливо объяснил ситуацию — мол, мы с вами бывалые; опытные,
битые кинематографисты, все стерпим, не правда ли? Тут вот до вас пробовал неопытную
«зелень», вот и замешкался. Извините, милая, мы вам позвоним, как только
дирекция назначит время следующей кинопробы. Времени следующей кинопробы не
сообщили, и, кажется, на роль утвердили неопытную «зелень». Где же ты теперь
проросла, неопытная «зелень»? Проросла ли? Ну что ж, обижаться не на кого.
Жизнь в кино жестокая. Режиссер делал свое дело. Он рубил свой лес для того,
чтобы построить новое, интересное здание. Рубил лес. А когда лес рубят — щепки
летят. И от этого никуда не денешься. Так не превращайся в щепку, в шлак. Будь
сильной, стань той необходимой, драгоценной щепкой, без которой рухнет красивое
здание. Не смей быть выброшенным шлаком. «Будь», «стань», «не смей» — эти
повелительные формы глагола могут относиться к человеку, который в эту жестокую
профессию забрел неслучайно. А пришел для того, чтобы страдать, мучиться,
любить, сомневаться, гореть, гореть, гореть. Пока не сгоришь. Весь. Дотла.
Нет-нет, настоящий талант пробьет себе дорогу. А ежели не прорастет неопытная
зелень, а ежели она зачахнет на корню — значит, это был вовсе не талант. Просто
на время кого-то смог одурачить. А потом зачах. Я абсолютно сознательно жестоко
говорю так об актерской профессии. О том, что без истинного призвания случайным
людям в ней делать нечего. И пусть режиссер, строя свое здание, использовал
лицо милой девушки из аптеки или скульптурные черты рыжеволосой красавицы из
медицинского института. Режиссер на время оторвал их от профессии. И вины у
него перед ними нет. А девушкам... Получила удовольствие, снялась,
удовлетворила интерес к тому, как «делают кино», и обходи это кино десятой
дорогой. А не оставайся обиженной на полпути, неактрисой и неаптекаршей.
Пройдет время, пройдет мода на «типажи», восторжествует по праву на экране
актерский труд, и прежние открытия, новшества будут все равно что «плевок в
вечность». Это выражение знаменитой актрисы Фаины Раневской стало у
кинематографистов популярным. У нее спросили как-то, почему она не снимается?
Это было именно в то время, когда последние раза два она снялась в серых и
безнадежных картинах, а потом резко повернулась к кино спиной и быстрым шагом
навсегда удалилась в театр. «Знаете, сняться в плохой картине — это все равно
что сделать плевок в вечность».
Какая
же была радость, когда меня вызвали летом 1963 года на Рижскую студию. Как
сказали по телефону, в «веселую, спортивно-конструктивную комедию». Пробы не
было. Меня вызвали, чтобы заменить опять же молодую, неопытную «зелень». А то
бы не попасть мне в картину в то время, да ни за что на свете. Картина была уже
на полном ходу. Все были на своих обжитых местах. Мне же нужно было еще только
находить свое место. Моя героиня — конструктор велосипеда нового типа. Вот
почему спортивно-конструктивная комедия. Мой велосипед нового типа укрощали
сразу два героя фильма. «Укротители велосипедов» — назывался этот фильм. Она —
спортсменка. Она же еще и поет. В нее влюблены сразу двое. Ну почему же я
ощущаю какой-то момент собственного недовольства, а? Чем же вы неудовлетворены,
милая артисточка? Да, о вас вспомнили совсем уж от безвыходного положения, ну и
что ж? Да нет, нет, что вы, я довольна всем. Можно даже сказать, что я
счастлива. Более того, я схватилась за эту роль с жадностью, как будто в ней я
найду счастье, блаженство и мне приоткроются неведомые тайны жизни и покой. Ну
разве в голову могло прийти тогда, что роль конструктора-новатора, с моей
сегодняшней точки зрения, будет очередным «плевком в вечность»...
Я
брожу по красивой Риге, нахожу те уголки, где мало народу. Мне нравится сидеть
рядом со старушками. Слушать их пересуды и жалобы на здоровье, любоваться их
старыми собачками. Ах, как мне хочется домой, к родителям, к моему папочке!
Порой мне так остро этого хотелось, что я чувствовала, как моя душа «сжата в
тисках». То было прекрасное, теплое, редкое прибалтийское лето. Почему-то я во
всех городах выискиваю улицы, которые про себя отмечаю так: вот здесь похоже на
Харьков, о-о, а это точно наша Сумская! Ну, а это уж прямо наша Холодная гора.
Ой, а здесь родная Клочковская... А ведь уже десять лет вроде живу в Москве.
Лето... Дочь у родителей в Харькове. Сейчас у них счастливое время. У всех
троих. Ах, если вот скоро я нагряну к ним, то надо собираться с духом и очень
тонко сыграть, опять, мол, все хорошо. Опять работаю. Суставы побаливают, но
уже далеко не так, как два года назад. Уж точно, папа перво-наперво прощупает
все кости и будет прислушиваться, «нет ли у дочурки туберкулеза?». Я привезу
для него гостинцы — знаменитых прибалтийских угрей. «Давай, Лёля, подкорми
дочурку як следуить быть. Хай поспить дома. Вот усе и у кучки, уся семья, ах ты
ж, мамыньки родныи, якая ж ета радысь. Ладно, не плачь, Лёль, што бог дась, главное,
чтоб здоровье було! А етага брата в неё щё будить... Щё усе наши окны
повыбивають! Не плачь, Лялюша, а то я и сам вже не выдержу». Мама прижимала к
себе свое любимое создание — свою «унученьку», — и все мы молча думали об
одном: она растет без отца.
Прошло
время после картины «Укротители велосипедов». Теперь я ее люблю за то, что она
принесла мне редкую возможность еще раз встретиться с большим артистом,
одинаково мощно работающим во всех возможных жанрах. Что такое в моем понимании
настоящий артист? Это человек, которого я ни на секунду не могу представить ни
инженером, ни учителем, ни космонавтом, ни врачом... Но который может быть
самым высоким профессионалом в этих профессиях... На экране и в театре,
конечно. Это народный артист СССР Олег Иванович Борисов. Тогда хрупкий молодой
человек. Годы мало изменили его внешне. Они только углубили его крупное
драматическое нутро, его недюжинный актерский темперамент и отточили ювелирный
актерский ум. Это один из редких партнеров, очень родной по духу. С ним я могу
не видеться годами, но если встречаюсь на кинопробе, на репетиции или сразу на
съемке — у меня возникает ощущение, что все это время мы не расставались, а
жили рядом, бок о бок. Впервые нас свел в дуэте в своем фильме «Балтийское
небо» Владимир Яковлевич Венгеров. Олег Борисов играл летчика Татаренко.
Казалось бы, лирический герой, что тут придумаешь? Но актер сумел найти в роли
такие разнообразные нюансы, что его герой не уместился в рамки, отведенные
Борисову. Даже в этой голубой роли было видно, что актер может сделать очень
многое. В фильме «Укротители велосипедов» мы встретились в комедийном дуэте. У
Олега Ивановича несколько сцен просто блестящих, каскадных. А потом «Рабочий
поселок» и его знаменитая трагическая роль слепого инвалида войны. И я рядом с
ним, подавая ему с земли палку, абсолютно верила, что Олег действительно ничего
не видит. На мой взгляд, это одна из его самых прекрасных ролей. А потом, в
небольшой роли учительницы, которая не любит детей, я подыгрывала Олегу
Борисову в фильме «Дневник директора школы», где он создал свой, борисовский,
глубокий, очень теплый, душевный характер директора — учителя. Еще судьба нас
свела в фильме «Вторая попытка Виктора Крохина», где мы играем безысходную
любовь двух немолодых, побитых жизнью людей. Во время съемки после слова
«мотор» у меня не подрагивала ни одна жилка, мне было очень спокойно и казалось,
что рядом со мной такой родной, такой дорогой и знакомый человек. «Олег,
сколько лет мы с тобой уже знакомы?» — спросила я его недавно на съемках нашей
последней совместной картины «Рецепт ее молодости», — где Олег танцует, поет,
играя роль барона Пруса. «Знаешь, лучше этого не произносить вслух, а то прямо
страшно...» Много есть хороших актеров. Меньше — прекрасных. Совсем немного —
редких талантов. Но таких, как Олег Иванович Борисов...
Я
ходила по рижским переулкам. Я чувствовала, что скоро кончится картина, тогда
опять неизвестность. Эта работа случайная. Случайная. Из нее не вытекало
ничего. Ничего. А что же завтра?
НАЗНАЧЕНИЕ
В
театр «Современник», гремевший в шестидесятых, я попала случайно. Все, что я
видела в театрах, будучи студенткой и после, не уносило меня высоко. И быть на
сцене во время действия хотя бы одного из виденных спектаклей мне не хотелось.
А для себя, изнутри это самая точная оценка — с позиции: твое или не твое.
Подсознательно мне хотелось со сцены услышать нормальный человеческий голос.
Узнать о жизни такое, что мне очень важно. Проще: мне хотелось театр приблизить
к кино, к жизни. Вроде так. Но вот сейчас, сегодня, мне хочется совершенно
обратного. Хочется ярких, пестрых, небытовых интонаций. Хочется видеть мощный,
разносторонний характер-символ, далекий-далекий от невыносимых правдивых-
преправдивых узнаваемых интонаций, которыми овладели все в совершенстве. А в
общем, дело не в этом, а в том, как время меняет критерии, вкусы, потребности,
невозможность существовать вчерашним.
На
спектакль «Назначение» меня пригласила актриса, с которой мы встретились
однажды на пробах. Потом, как это бывает в кино, жизнь разбросала нас в разные
концы, и вдруг мы встретились у метро на площади Маяковского. Я узнала, что она
работает в театре, напротив которого мы стоим. На днях премьера нового
спектакля, с репетиции которого она идет. И главное — вот же совпадение — она
снимает ту же комнату, у той же хозяйки, где я провела время пика «моей бурной
молодой популярности». У той очаровательной женщины, которая, наверное, всегда
меня вспоминает, садясь на антикварный диван палисандрового дерева. Моя
симпатичная приятельница не просто актриса. Она актриса редкого взрывного
темперамента. Поразительно точный собирательный образ-тип — бойкой,
обаятельной, с острым юмором, жизнерадостной, жизнелюбивой и жизнестойкой
советской женщины. Именно современная советская актриса. Она талантливо умела
сочетать полярные — трагедию и комедию. Смешивала их как лед и пламя не только
в течение роли, но и в течение одного монолога, одной фразы. В блестящей трагикомической
роли Нюты я и увидела ее в спектакле «Назначение».
Это
был период самого расцвета театра. И расцвет творчества этой прекрасной
актрисы. Актрисы Нины Дорошиной. Сейчас сменилось в театре все. Новое помещение
на спокойном и «чистом» бульваре, где нет той прежней бурлящей жизни эпицентра
города, когда хочешь или не хочешь, а жизнь с ее горячей, тревожной атмосферой
площади Маяковского врывалась в двери театра вместе со зрителями. Да и зритель
другой. Новое руководство в театре и новая администрация. И все новые и новые
актеры. Сейчас другие моды, волны и напевы. Это тоже интересно. Но почему я не
могу забыть того праздничного настроения, связанного с обликом дорошинской
жизнеутверждающей женщины? Ведь многое на расстоянии блекнет, меняет свои
краски. Но то видение — такое выпуклое, такое неизгладимое и, кажется, такое
нужное сейчас. И скажу как на духу: как актриса я не лишена моментов
болезненного самолюбия, тщеславия, честолюбия. Но когда Нина Дорошина играла на
сцене роль, где я ее дублировала во втором составе, — в этот день я была занята
в массовых сценах, — я, стоя в толпе, смотрела на нее с таким восторгом, что
изо всех сил прижимала руки к груди, чтобы не зааплодировать вместе со
зрительным залом.
Осень
1963 года. Театр на 800 мест забит до отказа. А в атмосфере зала сверхпраздник,
потому что в то время праздник чувствовался даже на обычных, рядовых спектаклях
этого театра. «Назначение» — пьеса Александра Володина. Того самого драматурга,
по пьесе которого через некоторое время будет поставлен фильм «Пять вечеров».
Когда я буду работать в «Современнике», я познакомлюсь с этим талантливым
драматургом из Ленинграда. Он мне сделает комплимент: «Вы лучшая из музыкальных
актрис», сделав акцент на слове «музыкальных». Потому как применение ко мне
слова «актриса» — в обычном понимании «драматическая актриса» — было тогда еще
под большим вопросом. И этот вопрос я постоянно ощущала всей кожей. Скажи тогда
этому человеку, что пройдет время и я сыграю в фильме по его пьесе... Нет, даже
сильно напрягаясь, не могу представить, что стало бы на минуту с его милым
интеллигентным лицом... А скажи мне, что я буду... Да нет. Нет-нет-нет, и еще
раз — нет. Этого «я буду» не могло промелькнуть даже в минуты самых отчаянных
фантазий. Даже шутя, мимоходом оно, это «я буду», не могло тогда коснуться
моего сознания.
Кем
я пришла на этот праздничный спектакль? Актрисой? Нет. Скорее зрителем. Но
жаждала счастья от искусства, наверное, больше, чем все зрители. Это было
питанием для моего истощенного организма. И потому, что все-таки я имела
отношение к тому священному месту, на которое сейчас буду смотреть как зритель.
Вот в публике, совсем рядом, кто-то прошептал мою ненавистную фамилию. Это
наверняка не москвичи. Москвичи меня уже похоронили. Я, как оболочка,
потерявшая свою начинку, хожу, ем, смеюсь, даже хохочу и заливаюсь. Но здесь,
сейчас, рядом с таинством — а оно чувствуется даже в бережном тихом шепоте, в
отсутствии шуршания бумажек от конфет... во всеобщем затаенном дыхании... я не
могу себя ощутить реально: какая я, кто я? Это был тот момент, когда жизнь сама
меня вытащила из топкого болота. Все-таки жизнь всегда припасает какой-нибудь
сюрприз, неожиданный выход. Значит, момент был действительно не из лучших.
Жизнь почувствовала, что пора притупить во мне боль и тоску по настоящему,
высокому. Теперь я воспринимаю свое случайное появление на том необыкновенном
спектакле именно как закономерность. В тот вечер я решила: если во мне есть
что-то, если не все еще «прижалось» под градом неудач, то вот он — единственный
путь. И я пойду по нему. Во что бы то ни стало. На этом пути не было
ненавистного для меня — вялости чувств и традиционности мышления. В этом
спектакле мне все показалось родным, желанным и, главное, узнаваемым. Все
говорили нормально и естественно... Вот что потянуло меня выбраться на этот
путь.
Ах,
если бы знали те люди, то небольшое количество талантливых актеров в труппе,
что я была готова на любые жертвы, готова была не есть, не пить, ходить по
снегу босиком, лишиться всех земных благ, лишь бы вступить в такой актерский
«орден».
С
какой гордостью я приняла все маленькие эпизоды и выходы. Сколько бережного
тайного удовольствия я вкладывала в несколько реплик, которые мне казались
добрым предвестником нового этапа жизни, где нужно пройти такой обязательный
начальный экзерсис. Я так всех любила, так распахнуто и искренне восхищалась
всеми, что, наверное, казалась излишне простоватой. Иначе бы не вырвалось
фразы: «Гм, какая добренькая»...
Это было брошено вскользь, мимоходом, не помню, но кажется, по незначительному
поводу. А почему же это я не помню? Отлично помню: я пропустила без очереди
актера, когда мы получали зарплату. Я-то живу тут рядом. А ему домой — в
Люблино. Вот и вся моя «добренькость». Что плохого в слове «добренькая»? Так
говорят в сказках — «добренькая бабушка». Это брошено было вскользь, но здорово
меня встряхнуло. Интонация иронии почти не скрывалась. Как же мне вести себя?
Быть самой собой? Это значит, быть со своими порывами и восхищениями. А что мне
делать? Меня выдавала радость на моем лице! Не могу же я признаться: знаете, я
так счастлива, что работаю, что каждый день бегу сюда, к вам, таким особенным.
Так, бывало, в детстве бежишь на любимую картину и «света божжага не видишь».
Да что там всякие сравнения. Меня жизнь в театре воскресила.
Но
с каждым днем я понимала, что не могу постичь чего-то. Не схватываю какого-то
важного полутона. Не могу заставить себя быть прохладной и сдержанной. И быть
«в ударе» желательно в точное время. А когда это «время»? Эх, папочка ты мой
любименький, вот как я унаследовала все твои отставания по дипломатическим
дисциплинам. Надо учиться разговаривать умными гладкими фразами, в которых нет
однозначных максималистских «плохо» или «здорово».
В
дипломатии был один из моих главных провалов. Вот чему надо было учиться. Это был
важный момент для существования в организме, где все колесики и шарики
притерлись. Все знали свои задачи, функции и слабости. И им как на ладони видны
были все ошибки и провалы винтика, пришедшего со стороны.
Мой
показ состоял из трех отрывков: роль Джульетты, та самая, которую я репетировала
в коридорах Театра-студии киноактера. И два отрывка из спектаклей театра
«Современник». Выучила целую картину из спектакля «Назначение», показывалась в
той самой роли, которую так блистательно играла Нина Дорошина. И еще
приготовила сцену из второго акта пьесы того же Володина «Старшая сестра».
Выучила я эти отрывки самостоятельно. С актерами договорилась. Текст прошли
перед показом. Потому мой показ был в общем-то импровизацией. Ни танец, ни
пение под гитару для меня проблемой не были, сложнее оказалось в монологах, в
общении с актерами, которых я видела так непривычно близко. Но это было так
интересно, так азартно. Я совершенно не помнила себя. Неслась на какой-то
высокой волне, которая мне могла только присниться. Кажется, у меня в жизни до
того вечера больше не было таких пиков, когда все самое невозможное находило
реальное воплощение. В театр меня приняли почти единогласно. За исключением
голоса одного актера, аргумент которого меня тогда сильно удивил: «А что она
будет у нас играть?» Как что? Нет, очевидно, он, будучи внутри механизма, знал
что-то, чего мне не дано было тогда знать. Но теперь я знаю. В театре у актера
должно быть свое место. Меня взяли без места. Но ведь взяли, все справедливо.
Но нет. Нельзя идти в театр, если не имеешь гарантии на место. Пусть оно будет
голый плацкарт, но твое. Ты его потом обживешь, если у тебя есть что-то от
бога. Нельзя в театре «проехать зайцем». Театр — это не поезд, который когда-то
достигнет конечного теплого пункта. В театре долго без места не проживешь. Или
потеряешь себя. Вот так. Единица для меня была, а места не было. Во втором
составе я получила сразу одну большую роль. Но, как назло, роль голубую, из
пьесы «Сирано де Бержерак». А уж если чего-то мне не дано играть, так это
именно такие роли, типа Роксаны, героини той пьесы. Из всех швов атласного
белого платья выпирал мой отнюдь не голубой характер и мое полупролетарское
происхождение вместе с остатками харьковского акцента. Зато за мной прочно были
закреплены выходные роли, в которых у меня не было замены. Сыграла два срочных
ввода. Потом и это как-то прекратилось.
Я
все явственнее начинала постигать неведомые мне тайны общения: соблюдение
дистанций, неглубоких привязанностей, скрываемых неприязненностей, умение чего-то
не замечать, не задавать открытых вопросов и не давать быстрых ответов. Не
удивляться, если вдруг начинается разнос — и тут уж все своими именами, каждому
точную его стоимость, а потом — опять как раньше... И когда уже почти ничего не
поражало меня, я подумала: ну что? Пожалуй, хватит. Нет, нет, мало, еще мало.
Надо вот так еще себя поломать. Мое от меня пока не уходит, оно пока при мне.
Разумом я отлично понимала, что изнутри мне здесь многое неродное, но
сознательно еще работала и существовала. Радость на сцене в том, как репетируют
и играют талантливые люди. И в этом плане как актриса я провела в театре
прекрасные минуты своей жизни.
Олег
Табаков. Тогда мне казалось, что, если он будет на русском языке играть в любой
стране мира, любой перевод только умалит достоинство этого большого актера.
Талант международного класса. И точно. Прошло время. Он выезжает за рубеж.
Играет в иностранных спектаклях на русском языке. И зарубежный зритель
восторженно приветствует его. Он ставит спектакли за рубежом и как режиссер
показывает зарубежным артистам, как это «по-русски» нужно играть. Мне
рассказывали, что трудно повторить то, что показывает Табаков. Да и как
повторить, если на сцене от удовольствия забываешь текст своего маленького
эпизода, глядя на этого артиста, всегда идущего по лезвию ножа, почти на
запрещенных приемах, на ходу выдумывающего, импровизирующего,
перевоплощающегося так тотально, что просто щупаешь себя за нос, а может, ты во
сне? И так каждый спектакль. И в такие минуты забываешь о всех своих недочетах,
ошибках и провалах вне сцены. Вся кулуарная возня кажется ничтожной в сравнении
с таким праздником. Пусть только на сцене счастье. Сейчас это самое главное.
Пусть мой человеческий склад совершенствуется и перестраивается... если сможет.
Обожаю
талантливых людей. Перед талантом млею всегда. Бездарных и претенциозных не
люблю и не скрываю этого. Берись за то, чему ты сроден. И... враги тут как тут.
Что ж, здравствуйте, товарищи враги! А жизнь, в общих чертах, продолжается,
черт побери, а?.. И вас все больше и больше.
...Но
не было ролей. Не сыграла я ни в «Назначении», ни в «Старшей сестре». Вернее, в
«Старшей сестре» сыграла. Девушку из общежития. Казалось бы, вроде танцую и
пою, и хотя бы этим отличаюсь. Но на сцене пели и танцевали другие, разучивая
танец неделями. А на показе я его делала с ходу. Может, это нескромно, но это
факт.
Нет,
не нужна я этому театру. Что-то во мне их раздражает. Я не прижилась, хотя ни
разу не слышала в свой адрес — бесталанна. «Слушай, сегодня сидим в гримерной, —
говорила мне по телефону Таня Бестаева, — просматриваем театральную программку
за неделю. Я прошу посмотреть, что там в «Современнике». Ну, в общем,
поинтересовалась тобой. Мы хохотали до слез. Сколько же ты переиграла
девушек... И ни одной женщины». Я живо себе представила, как бы я сама себя
прокомментировала со стороны. И что-то мне стало ой как невесело. А ведь два
тяжких года перевалили на третий. Пора было подводить итоги. На моих глазах
голосовали судьбу многих, которых брали в театр на испытательный срок. Уж очень
это больно — в одно прекрасное утро выйти на улицу и быть свободной от
занимаемой должности. Еще вчера слышать дыхание зала, еще вчера быть членом
талантливого коллектива, а сегодня ты от него свободна. Тебя освободили, так
как ты не соответствуешь мерой дарования общему уровню этого коллектива. И тебе
об этом все сказали своими словами, без всяких дипломатических витиеватостей.
Жестоко? Ого! Еще как! Ну что ж... Быть прекрасной машинисткой трудно. Но
научиться печатать можно. Редко встретишь водителя-профессионала высшего
класса. Но машину водят многие. Научить быть на сцене интересным невозможно.
Ведь на сцене все тайное становится явным. Жестокость — отправная точка в самом
раннем становлении профессии актера. С первых шагов. Ты артист — и готовься ко
всяким грядущим болям.
Итак,
в один прекрасный день я вдруг подала заявление об уходе из театра по
собственному желанию. Тихо и спокойно. Как будто это было давно решено. Хотя
еще утром, идя на репетицию, об этом даже не думала. Я просто представила, что
сейчас, на репетиции новой пьесы, я буду долго сидеть в ожидании своих двух
реплик... И... ноги, помимо сознания, — красиво или некрасиво, удобно или
неудобно, раньше или позже, деликатно или нет, — сами повернули в фойе направо,
к главному режиссеру. И как пелось: «...Но бывает, что минута все меняет очень
круто...» И от сознания своей свободы и победы стало так легко! Победы? Я ведь
не справилась, потерпела поражение, не сумела стать незаменимым винтиком. Но
почему же радость облегчения била через край? Все четыре стороны света для меня
свободны — выбирай, любую. Ничего впереди не ждет. А я счастлива. Но ведь
тогда, в Харькове, в больнице, когда во мне мучительно умирала моя любовь, я
ведь была счастлива. Потому что одновременно с этим я приобретала облегчение. И
где-то впереди брезжил свет. Я знаю, что выхожу из увлеченностей в работе, из
самых поначалу необыкновенных увлечений, как только чувствую насилие над своим
внутренним миром, о котором не расскажешь словами. Он вдруг бастует, кричит,
бьется и физически направляет движение в нужное русло. Своей, только своей
дорогой.
Позже
я часто возвращалась к этому важному периоду жизни. Да и не было ни одного
выступления, где бы зрители не интересовались причинами моего ухода из
«Современника». Почему же я все-таки ушла из лучшего театра? Уязвленное
самолюбие? Непризнанный талант? О, как же я изо всех сил подавляла в себе все
негативное, и подавила в конце концов. Тогда и стало легче. Но прежде мне нужно
было научиться терпеть. А порой я думала так: первый успех пришел «вдруг», без
вклада. Без труда выловила рыбку из пруда. А после была неминуемая расплата.
Научиться терпеть и воспитать в себе волю. Нужна была недюжинная сила воли,
чтобы пробудить прежнюю веру: «дуй своё». Без силы воли теряешь веру.
В
театре я прошла прекрасную школу жизни. Научилась терпеть и не чувствовать себя
обиженной. В театре я поняла, что я далеко не чудо. А главное, утроила желание
трудиться, трудиться до изнеможения. После такой школы жизни уже никогда не
потеряешь о себе реального представления. И уж точно никогда не заболеешь
«звездизмом». И больше тебе ничего не страшно. Это я взяла с собой в будущее,
но и многое оставила в этих стенах уже в прошлом. А сейчас, через время, я
точно могу сказать, что свет, который брезжил, был — Музыкой!
Музыка.
Меня спасла музыка. Иногда я с острым приступом тоски чувствовала, что именно
музыка была ключом к моей жизни, к детству, теперь такому далекому. Музыка жила
во мне вопреки тому, что я хотела стать драматической актрисой. Она тщательно
скрывала свой запас, понимала, что не пригодилась мне здесь в театре, терпела,
не выказывала себя, как могла... Но иногда она вырывалась на волю, как однажды,
в тот день...
Девятого
мая. В день двадцатилетия победы над фашизмом. В театре шел спектакль «Вечно
живые». В середине второго акта, прямо на полуслове, в зале погас свет, и по
обеим сторонам сцены зажглись урны с Вечным огнем. Все артисты и зрители
замерли. На авансцену вышел актер и негромким, торжественно-траурным голосом
сказал: «Сегодня, в день двадцатилетия победы над фашистской Германией, почтим
павших смертью храбрых минутой молчания». Зал в бесшумном порыве взлетел и
затих. На целую минуту. Но какую! Я вдруг ощутила, как кровь отлила от головы.
Происходит нечто такое, что не может пройти бесследно. Минута молчания. Молчал
зал. Молчала сцена. Молчала страна. Молчал мир. Я думаю, в зале не было ни
одного человека, который в эту минуту не испытал потрясения. Которого бы эта
минута не перенесла на двадцать лет назад или не заставила задать вопрос: «А что
такое эта минута в твоей жизни?» После спектакля я шла домой, пересекая площадь
Маяковского, забитую нарядной, праздничной толпой. Пестрая майская молодежь
учтиво уступала дорогу сорокапятилетним «старичкам», украшенным орденами и
медалями. А дома меня ждали родители. Как только папа открыл дверь, я бросилась
к нему и расплакалась. У него на груди красовались две медали: «За победу над
Германией» и «За взятие Берлина». Родители приехали в гости. Папа, мама, Маша и
я. Папа очень темпераментно, уже в какой раз рассказывал о событиях фронтовой
жизни. Мы же слушали как в первый раз. Вдруг он прервал рассказ и горько
заплакал: «Выпьем за моего роднога брата Мишку, хай земля ему будить пухум!»
Всю ночь после минуты молчания, после нашего семейного ужина с папиными
рассказами и воспоминаниями меня мучила музыка. Так наутро родилась первая моя
песня «Праздник Победы». Мне хотелось, чтобы в этой песне было все то, что так
всколыхнуло меня. Чтобы в ней очень просто было сказано о всех пережитых
моментах.
Праздник Победы, шумит весна,
Люди на площади вышли.
Старый отец мой надел ордена,
Выпили мы за погибших.
Чтобы в ней была
страница моего детства, которая пронеслась в ту минуту молчания, когда я стояла
на сцене.
Вспомним мы песню военных лет
«Синенький скромный платочек».
Эту песню я девочкой пела когда-то,
Эту песню я раненым пела в палатах,
Эту песню на фронт увозили солдаты.
И чтобы в ней
обязательно была Победа, несмотря ни на что, несмотря на потери. Несмотря на
солдатские могилы.
В них лежат подарившие жизнь нам солдаты,
Подарившие мир и салютов раскаты...
Жаль, что на
бумаге не воспроизведешь мелодии, исполнения, а лишь слова. Их по моей просьбе
уложила в стихи актриса театра Людмила Иванова. После каждого из трех куплетов
идет музыкальный припев без слов — вокализ, — который имеет каждый раз новую
актерскую краску, особый смысл, а в конце песни вокализ этот звучит уже в
мажоре. И голос исполнителя должен перекрыть оркестр. Как апофеоз, как гимн
Победе! Что там говорить, я эту песню задумала с размахом. Ах, как она мне была
по душе.
В
то лето 1965 года в актерском доме отдыха я случайно разговорилась с певицей из
Москонцерта и узнала, что у нее нужда в репертуаре. Она загорелась этой песней.
В Москве я с ней разучила все нюансы, остановки, замедления, а главное — мысль,
и никакой внешней аффектации. В финале — апофеоз, да еще исполнила его на
октаву выше! Эффект! — «та што там гаварить!». Певица Маргарита Суворова спела
эту песню осенью того же года на конкурсе советской песни в Театре эстрады. В
тот день я играла в театре безмолвную девушку-манекенщицу в «Третьем желании».
И о том, чтобы отпроситься на конкурс, где будут петь «мою» песню, не могло
быть и речи. Потому все отзывы моих друзей оставлю в стороне — тут может быть и
гиперболизация, и просто желание меня поддержать. Но в «Неделе» эту песню
отметили, назвали ее удачей конкурса: «Интерпретация певицы соответствует этой
сложной и необычной по построению талантливой песни». Начиная с самого 1957
года, после выхода «Карнавальной ночи», после всего-всего, это были первые
радостные строчки. У меня же прямо крылья выросли. Певица пела песню на
гастролях с успехом, о чем писали местные газеты, вырезки из которых мне
переслали. Уже и другие запели песню. А один эстрадный певец спрашивал: «А что,
если я переделаю и буду петь: «Эту песню я мальчиком пел по палатам...» Я ему
осторожно заметила, что если «петь», то «...в палатах», а если «ходить», то
«...по палатам...». Но это его не остановило, и он «пел по палатам». Ах, какая,
в конце концов, разница? Спасибо, пел мою песню!
И
вот как-то усаживаюсь вечерком перед телевизором... В то время была такая
музыкальная программа, где критик выступал с новостями музыкальной жизни и
критикой новинок. В компании двух композиторов, популярного в то время певца и
очаровательной критикессы как раз шла речь о последнем песенном конкурсе. Я
затаила дыхание... Что будет... Критикесса прочла абзац из «Недели», где
говорилось о «Празднике Победы». Но уже по тому, как она читала те же строчки,
которые меня так осчастливили, было ясно, что сейчас меня «приложат». Я
вцепилась в подлокотники кресла... Жду... «Ну что вы, это же несерьезно»,
«спекуляция на чувствах людей», «девочка в палатах», «какой-то отец надел
ордена и медали», разве о таком в песне поют? Ну товарищи, ну нельзя же так!»
Как
дышать, если нет воздуха? Как явиться завтра в театр? Как встретиться в лифте с
соседями? Как появиться на улице? Как объяснить папе? А может, взять бюллетень?
Что делать?.. Нет, только не бюллетень. Только открыто. И пошла. И играла. Как
ни в чем не бывало. А что там внутри, так это дело терпения и силы воли. А
через некоторое время появятся другие песни, и выяснится, что все это «поется».
Несмотря на такой грустный финал истории с моей первой песней, я получала
большое наслаждение, когда ее пела. И пусть она не стала широко известной,
пусть это были мои маленькие, частные радости, но они были.
...Стояла
теплая весна 1966 года. На голубом небе ярко светило солнце. Я вышла из театра
на любимую площадь Маяковского. «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, вдруг
окончательно и бесповоротно подумал князь Андрей». Какой еще князь Андрей?
А-а-а! Андрей Болконский у Толстого. Стоп. А мне сколько сейчас? Тридцать один!
Ага? Вперед! Я пошла через площадь на улицу Горького, улыбаясь прохожим.
Изнутри меня заливала мелодия детства, на которой выросло мое поколение, она
никогда не давала падать духом:
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы...
Музыка
взбунтовалась во мне, взорвалась и зазвучала, освободившись как от рабства.
Музыка! Я пошла за тобой! Посмотрим, как распорядится жизнь...
ВРЕМЯ ГРЕЗ
А
жизнь распорядилась просто. Надо кормить ребенка. Надо платить за квартиру.
Надо одеваться. Надо, надо, надо... И я со всем пылом нерастраченной
музыкальной энергии бросилась в наитруднейшее плавание — на эстраду. Но это не
эстрада с «Зеркальным театром», «Эрмитажем» и «Олимпией». Это бесконечные перелеты
на маленьких подпрыгивающих самолетах. Это поездки в общих вагонах, где, тесно
прижавшись друг к другу, сидят усталые люди с мешками и чемоданами. Это не роскошные
номера люкс с коврами и фикусами, а комнаты на четыре койки без удобств. Это
маленькие нетопленые клубики с пианино, на которых не хватает клавиш.
1966—1970
годы... Эти годы — самая длинная дорога испытаний без работы в кино. Сразу же
после ухода из театра я, правда, сделала в кино еще один «плевок в вечность»,
снявшись в спортивно-музыкальном фильме «Нет и да». И те же стечения
обстоятельств: мною опять заменили «неопытную зелень». Как прочно
кинематографисты не думали обо мне и вспоминали только по суровой
необходимости. Адская трудность из сегодня перебраться туда и изобразить,
воскресить тогдашние мои метания.
1966—1970
годы... пожалуй, самое мятежное время в жизни, потому что оно было опять
обречено, опять приговорено к свободе. А ведь мне уже за тридцать. В этом
возрасте без настоящего дела свобода... Она, проклятая, таинственная и
загадочная. Она полна неожиданностей, соблазнов, запретного. Потому что
вызывает любопытство и интерес. Она, как зло и ненависть, приемлема в небольших
дозах. А перегнешь палку — и летальный исход неизбежен. Эти годы начисто лишены
какой-нибудь хронологии. Здесь светлые дни сменялись черным провалом и
отчаянием. Весь этот круговорот совершался по кривой, косой, корявой параболе,
где невозможно задержаться, не за что зацепиться, когда вот-вот и... Но, словно
по таинственному взмаху волшебной палочки, свершалось чудо, и я удерживалась,
пусть иногда с сильными ушибами. События происходили, а пульс стучал. Стучал,
как у нормального здорового человека, который не подвержен от природы никаким
недугам и аномалиям. Мой организм имел бетонный пьедестал — здоровые начала
моих добрых родителей. Это меня и спасло. «Як говорили, дочурка, у гражданскую:
кругом пальба, темень, хоть глаза выколи, собаки лають, а обоз идёть».
С
каждым выходом на сцену, от выступления к выступлению, я чувствовала себя
крепче и увереннее. Я искала, экспериментировала. Училась на сцене мыслить,
быстро и лаконично отвечать на вопросы. Ухватившись за маленькое узнаваемое
событие, старалась облечь его в историю, которая имела бы свой сюжет. А
главное, вывод, объясняющий мое неслучайное обращение к этой истории. Иногда в
голове у меня пролетало видение, которое заставляло немедленно менять ранее
принятое направление. Как однажды: выступаю. Застряла фраза той актрисы из
первого выступления: «Я счастлива, скоро Сидор Сидорович...» На меня как
налетел, как навалился смех... Смеюсь и ничего не могу с собой поделать. И
оттого, что мне как-то нужно было оправдать перед зрителем этот смех (ведь не
расскажешь истинную причину), вдруг словно с небес сваливается сверхэксцентрическое
спасительное оправдание этого смеха. И зрители уже смеются вместе со мной. Это
необъяснимо, это рассказать нельзя. Наверно, очень важно заразить зрителя
чем-то очень искренним, своим, пробуждая в каждом чувство смешного. Мне очень
хотелось, чтобы мое пребывание на сцене и в городе, в крае оставалось бы
незабытым зрителями. И я всегда выкладывалась. Программа имела железный костяк.
Но вокруг главного все беспрестанно менялось и обновлялось. В концерте были и
рассказы, и отрывки из спектаклей, и стихи, и песни. И (чего уж совсем никто не
ждал) в концерте я исполняла свои песни. Я не сразу перешла к так называемым
творческим вечерам. Было боязно солировать почти два часа на сцене — публика
заскучает. Но вот, после отчаянного, незабываемого эксперимента в городе
Тамбове, где на сцене городского театра состоялись мои первые в жизни
творческие вечера, опасения рассеялись.
Лежишь
вечером в номере и фантазируешь, придумываешь, мечтаешь и вдруг дойдешь до такой
восторженной фантасмагории, что заикнись об этом кому-нибудь... Словами этого и
не расскажешь. От этого экспромта так хорошо на душе и на сердце. Завтра
обязательно попробую на сцене что-нибудь из невероятной «фантасмагории».
Интересно, что останется до утра? Ведь утром все другое. Утро отрезвляет. А
вдруг вместе с утренним светом и будничными заботами, телефонами и головной
болью пламенная ночная фантазия бесследно исчезнет?
Испарилось,
да не все. И кое-что даже очень удалось. И публика приняла, оценила. Ах, какие
то были чудесные вечера — ночи грез. Никакого одиночества. Да никто и не был
нужен. Я была так переполнена внутренней жизнью, так боялась расплескать то
драгоценное, что предназначалось только ему, только — зрителю. И опять, после
опустошающего, счастливого выступления я ложилась в своем номерочке, в
счастливом уединении, без шума, без калейдоскопа лиц. И опять, и опять
погружалась в поиски.
Образ
жизни артиста эстрады совершенно особый. Первое, что я сразу отметила — это
независимость и большая личная ответственность. Артисты эстрады кажутся более
экстравагантными, более колкими, не прощающими самых мелких шпилек, отвечающими
со сцены своими словами, а не текстом, написанным автором. Это люди, о которых
ходит наибольшее количество гиперболизированных слухов и историй. Я
инстинктивно чуяла, что, вырвавшись на такую свободу в искусстве, надо очень
здорово себя ломать, шлифовать и обновлять, чтобы иметь право на такое место.
То
была одна из моих первых поездок после ухода из театра. В Москве стояло жаркое
лето, а здесь, на далеком севере, трещал мороз. С тремя пересадками пролетели
почти треть земного шара. И наша группа артистов наконец-то добралась до места.
Аэродром. Аэродром? Это громкое слово. Аэродромчик. Деревянный, холодный
аэродромчик. Служащие стояли вокруг нас в ватниках, и по их виду было ясно, что
нас никто не ждал.
—
Здравствуйте, товарищи, мы — артисты!
—
Здравствуйте, товарищи артисты, очень хорошо!
—
Нас должны были встречать представители областной-краевой — как тут у вас? —
филармонии.
Дежурный
обвел глазами служителей аэродромчика и небольшую группу людей, ожидающих
очередного рейса. Ни одного лица, характерного для представителей
администрации. Артисты, измученные дорогой, голодные и грязные, совсем пали
духом. А у дрессировщицы, прижимавшей к себе двух умных пудельков, привыкших ко
всему, начались нервные всхлипывания.
—
Скажите, где у вас гостиница? — спросил дежурного крепыш акробат.
—
У нас тут есть только Дом рыбака. Может, там вас и ждут?
—
А-дну мину-тачку, — не унимался акробат, — люди едут к вам за тридевять земель.
Везут вам, можно сказать, веселье, прогресс, а тут никто ничего не знает.
Товарищ, скажите, вам хотя бы звонили?
—
Товарищ, дорогой, да я пожалуйста, но я ничего такого не знаю.
—
Нет, вы мне ответьте, вам звонили?
—
Я дежурный! Я... делаю свое дело.
—
Нет, но ва-ам зво-ни-ли???
Этот
диалог я всегда вспоминаю, когда уже совсем мрак. Полнейший мрак. Все. И выхода
нет и не будет. И вдруг — как это бывает в жизни — одно перевранное слово,
сказанное с пафосом, или какая-то дурацкая деталь, или неожиданная петушиная
трель в голосе, а атмосфера вдруг резко меняется. И мрак уходит. Уходит через
вот такой момент эксцентрики. И всегда найдется в компании человек, который
сразу схватывает этот момент, быстро его «переваривает» и вносит поначалу в
атмосферу разрядку, легкость, поднимается от нервного смешка к веселью — все
выше и выше.
В
нашей компании был такой человек. Он первый громко расхохотался. И тут же с
жирной издевкой, точно копируя интонацию крепыша акробата, спросил: «Нет, нет,
товарищ, вы отвить-ти, но в-а-м зва-ни-ли?» Засмеялись все, а дежурный больше
всех: «Вот теперь видно, что вы артисты. Здорово он его... Звонили вам,
говорит, или нет? Да никто мне не звонил, говорю, а он опять свое... Зво-ни-ли?
Ну мать честная... А этот вот сразу видать... артист, и все тут».
Это
точно. Хотя широкой публике его имя было неизвестно: в телепередачах не
появлялся. В Москве выступал редко, все больше на окраинах страны. Но человек
был необыкновенный, с большим запасом внутренней деликатности. И замечательный
товарищ. Много раз, когда я уж совсем падала духом, он, как тонкий, чуткий
человек, мгновенно это чувствовал и одной какой-нибудь парадоксальной фразой,
интонацией мог вывести из тупика. Услышав в телефонной трубке мое потерянное
«здрасте», подхватывал: «А-а-а! Все ясно, все ясно, милая вы моя! Нельзя над
жизнью серьезно задумываться. Надо жить легко... (Следовала красивая фраза из
непереводимых слов — очень точное, на все случаи жизни идиоматическое
выражение, увы, исключительно для устного пользования.) Милая вы моя, если над
жизнью серьезно задумываться, это же не жизнь, это же у-у-жа-ас! Завтра я опять
начинаю длительные гастроли по городам Баренцева моря с принудительной
прогулкой по морю наших дорогих друзей товарищей Лаптевых...» И становилось
легче, ей-богу. Так смеяться редко кому было дано. Сначала как-то весело
подпрыгивали его губы, а уж потом раздавался сам смех — искренний, зажигающий,
здоровый, как будто вдруг вылетала на свободу долго сдерживаемая радость. Услышав
однажды его смех, увидев однажды его улыбку, невольно хотелось вызвать их
снова. Хотелось зажечься, распрямиться, помолодеть. Люди в него влюблялись
после нескольких фраз и одной улыбки. Не верилось, что этот человек мог кого-то
когда-то обидеть. Слух у него был острый и моментально реагировал на все
необычное как надо. Иногда прямо в концерте, импровизационно, рождались его
веселые монологи. И зрители понимали, что это именно о них, сидящих в зале. Об
их городе. Об их улицах. И смеялись, и хлопали, и кивали благодарно — так точно
и метко все заметил артист. Успех его был постоянным. Я с болью задумывалась
иногда, почему этот человек, очень талантливый, не достиг многого? Чего же ему
не хватало? В чем была эта нехватка? Вот на других его хватало. А на себя нет.
А может, потому и не достиг, что был рабом своей многочисленной семьи, которой
был предан всей душой и для которой соглашался на любую работу? Порой на такую,
которая была недостойна его одаренности. Но он часто бывал на мели. А семья?
Замкнутый круг. Когда человек одаренный оказывается на мели и готов на любую
работу, он идет на заранее обреченное дело. И в конце концов наступает то
время, когда он вынужден терпеть унижения от мелких администраторов,
третьесортных гастролеров — людей, которые не заслуживают и йоты его уважения.
Это понимаешь не сразу, а с течением времени, с опытом. И если для меня эта
поездка была лишь началом бесконечных гастролей, то для этого человека наша
короткая гастроль являлась естественным продолжением одиссеи, которая давно
стала его буднями. «Что-то Париж молчит. Странно, ведь через месяц мои гастроли
в Олимпии. Девчата, кто хочет со мной? Проезд и суточные из моего кармана.
Развлечения, естественно, за мой счет. Прошу к завтрашнему дню заполнить личные
дела», — поставленным голосом говорил нам веселый человек за кулисами. В это
время работники маленького клубика онемело, в веселом любопытстве смотрели на
«этих» столичных артистов. «Париж», «Олимпия». Мы не выдерживали, прыскали,
открывался занавес, и веселый человек шел к зрителям. «...Добрый вечер, дорогие
друзья! Никакая ненастная погода не смогла помешать нашей встрече. Так пусть
сегодня в этом зале будет весело, будет...»
В
Доме рыбака было холодно и пусто. В коридоре около умывальника выстроилась с
кружками и стаканами вся наша труппа. Холоднющая вода текла тоненькой жалкой
струйкой. Потом все, как по команде, включили свои кипятильники. И ровно через
несколько минут в Доме рыбака перегорели все пробки. На весь коридор громко
раздался заливистый смех веселого человека: «Добрый вечер, товарищи! Наконец-то
всем все ясно. Действительно приехали настоящие артисты». В темноте залаяли два
пуделя. Раздался смех их хозяйки. А потом и другие пошли подхихикивать в своих
комнатах. Потом стало в самом деле весело. А уж совсем потом все сидели в
маленькой прокуренной комнате нашего веселого друга перед огарком свечи, прямо
как в той военной песне. Среди этих людей — разных-разных — мне стало легко.
Они обладали удивительным качеством — умением увидеть себя со стороны в
ироническом фокусе. Общаясь с этим веселым человеком, я со временем стала в
людях больше всего ценить жизнерадостность и остроумие. Этот веселый человек
был великолепно остроумен.
Я
начинаю новую жизнь. Иду, как говорится, «красной строкой». Вот когда
пригодилось имя. Все-таки оно еще жило. И зрители, мои добрые зрители, меня еще
не забыли. Скоро я выйду к зрителям. Сегодня надо помолчать. Разговаривать
после. Без авансов. Делом, делом зарабатывать себе право «говорить».
«Друзья
мои! Света нет, денег нет, тромбофлебит, жена больна, кругом паутина и сухари,
никто не встретил, вокруг вечная мерзлота, концертами не пахнет... А мне
нравится! Мне все нравится! Я счастлив! И пусть вечным огнем горит огарочек
свечи, «горит свечи огарочек», — подпел он поставленным тенором. — Друзья мои,
жизнь прекрасна!»
А
потом он всех тихонько поманил за собой в темный коридор, высоко над головою
держа огарок свечи, который превращал наши закутанные фигуры в странные
сказочные тени. Мы дошли до номера, где спал богатырским сном крепыш акробат.
Тук-тук-тук. «Кто там?» — «Тэ-варищ, скажите, но ва-ам зва-ни-ли?»
Я
переживала, что во время гастролей Маша оставалась со случайными людьми.
Уезжаешь на неделю, а душа болит. И боишься звонить, а вдруг подружка забросила
девочку, как однажды... Звоню в двенадцать ночи, хочу узнать у подружки, как
там ребенок, и вдруг:
—
Мам, это я, Маша.
—
А почему ты не спишь? Ведь завтра вставать рано в школу?
—
А я не ложусь, тетю Зою жду. Ты не волнуйся, мам, я будильник завела, телевизор
выключила, газ потушила.
—
Как же ты там одна сидишь в темноте?
—
Знаешь, мам, у меня балкон открыт, там у кого-то музыка играет, я слушаю. Мам,
деньги есть, все в порядке. Учусь ты сама знаешь как.
Да,
это я хорошо знала. Но разве после такого звонка можно заснуть? Какой там сон!
И все мои эксперименты и фантазии уже кажутся обвинительным приговором. Вот ты
тут себе концертируешь. А ребенок один в пустой квартире. Двенадцать часов
ночи! А ему всего восемь лет! А как я росла? Мне вообще никто не звонил и денег
не оставлял. Но то была война. А сейчас время другое. И летишь в Москву. И
крутишься вокруг ребенка. И уроки с ним делаешь. И все покупаешь. И зоопарк и
кино. А потом проходит время... Жить надо. И опять гастроли. И опять не с кем
оставить девочку.
Мой
ребенок не избалован. С шести лет она отлично справлялась с магазинами. Все
покупала, да еще и без очереди. Сначала без очереди потому, что маленькая. А в
десять лет могла присочинить, что мама больная, что в больницу опаздывает.
Точно как я когда-то в голодовку в Харькове. Я тогда могла сочинить про себя
такую трагедию, да еще и подпустить обильную слезу, лишь бы дали кусочек хлеба.
Многие удивляются — дочь киноактрисы, а поведение и запросы как у ребенка,
выросшего в многодетной семье, где с детства знают цену копейке. Похоже. С детства
на долю ей выпали недетские заботы — помочь маме выстоять, не потерять стержня,
веры в людей, не осесть, не раствориться в суете, не плыть по течению. Она тихо
жила рядом, помогая изо всех своих детских сил и, наверное, чувствовала — об
этом говорили ее печальные недетские глаза, — что жизнь может втолкнуть
человека в такие тупики, загнать в такие дебри, откуда нет выхода.
Она
бывала по целым дням одна. Когда ей становилось невмоготу, она звонила моим
друзьям. Больше всех она любила того веселого человека: «Юрий Ме-хай-лавич!
Приходите ко мне, пожалуйста, мне очень скучно! Нет-нет, мне не звонили.
Скажите, товарищ, — но ва-ам зво-ни-ли?» Она точно подражала интонациям нашего
доброго друга. Конечно, все взрослые были в восторге. И мне тоже было приятно
где-то в глубине души. Здесь я точно как моя мама — никаких внешних
восторженных проявлений. Приходя домой, я заставала целый отчет на столе, что
сделала, что купила, кто звонил, что ответила.
—
Звонила Бориса Марковна. Мам, я не поняла, это кто же, тетя или дядя?
—
Ой, господи, Маша, это же Раиса Марковна.
—
Но она же говорила мужским голосом.
—
У нее голос низкий, потому что она курит. Никогда не кури, Маша, когда
вырастешь.
—
Но я же записала «Бориса Марковна», — вроде дядя, но в то же время и тетя...
Так
у нас и осталось за той красивой женщиной имя «Бориса Марковна». Во время
школьных каникул я брала дочь с собой на гастроли. Ночью мы спали с ней, тесно
прижавшись друг к другу, в холодной кровати очередного гостиничного номера.
Днем ходили на базар, в магазины. А вечером на концерт. Она сидела за кулисами,
в уголочке, закутанная и притихшая, внимательно наблюдая за жизнью на сцене и
за кулисами. Она знала всех администраторов, схватывала на лету реплики, в
которых чувствовались ирония, юмор, явные или скрытые намеки. «У нас с Лидой
любовь и так далее». Или вдруг: «Стойте, идите сюда. Это в ва-ших ин-
те-ре-сах». И попробуй не подойди, если это говорит огромный
мужчина-администратор с громовым баритоном. Голос — поставленный от природы,
изысканный, хотя и не лишенный признаков потрескивания. Это потрескивание
намекало на желание захмелеть и быть в ударе. В его облике была такая
респектабельность и надежность, что ему доверялись многие люди. Доверилась и я.
Это было «в моих ин-те-ре-сах». Работали мы дружно. Только администраторы, как
и кинорежиссеры, люди неверные. Они там, где огонек, на который идет публика.
Публика! Ведь она заполняет места в зале... Как я благодарна тем людям, которые
от меня не отвернулись, которые в меня верили...
Иногда
мы с Машенькой ходили гулять в парк, катались на чертовом колесе, а потом
звонили нашему доброму другу.
—
Маш, позвони ты, спроси: «Товарищ, ну, ва-ам зво-ни-ли?»
—
Это дядя Юрий Михайлович? Скажите, ну, вам звонили? Нам очень скучно. Да нет,
это мама. Лично я над жизнью серьезно не задумываюсь. Что? Ну конечно... я с
вами абсолютно согласна... «Если над жизнью серьезно задумываться, это же не
жизнь...» В трубке раздавался жизнерадостный смех и неизменное приглашение на
огонек.
АПЛОДИСМЕНТЫ,
УСПЕХ, СЛЕЗЫ И «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
Как
туго идет у меня это продолжение. Казалось бы, ну что веселого в голодном
военном детстве? Но как легко, свободно и радостно лилось... Наплачусь,
насмеюсь, опять наплачусь... Сейчас же, как только переношу себя в те годы, в
душу проникает и заполняет ее не побежденная временем горечь. Удивительно,
теперь, когда бывают дни, события которых не могут не радовать — и я радуюсь,
даже бываю счастлива, — но... недолго. Без всяких причин, просто как
оборонительный рефлекс, на меня наваливается горечь того времени: «Хватит,
хорошего понемножку. Вспомни, как было несладко, и не забывайся. А то я тебе
испорчу приятный привкус жизни. Я недалеко». И когда еще в разгаре сладкий
улыбчатый ажиотаж рукопожатий и поцелуйчиков, я уже меняюсь в лице и хочу
только одного — поскорее исчезнуть и сразу же что-то делать, делать, делать,
делать...
...Актер
эстрады слышит аплодисменты публики, еще не успев дойти до кулис. Дошел до
кулис: «Ну как вам мой новый номер?» И тут же получает поздравления, пожелания.
Искренние, нет ли — это уже дело его интуиции — поверить или помножить
услышанное на шесть, разделив на восемь.
Актер
кино сыграл сцену, выскочил из кадра: «Ну, ребята, как получился дубль, а?»
Гример:
«Потрясающе, ни один локон не дрогнул. Головка была просто прелесть. Мне понравилось».
Второй
режиссер: «У меня лажа. На втором плане девушка вылезла не вовремя. Вылезла и
стоит. Дура. Я ее сейчас выгоню. Еще дублик, а?»
Главный
оператор: «Дублик? Это же режим. Ты посмотри на солнце. По свету было идеально.
У меня дубль есть».
Художник
по костюмам: «О, насчет солнца — это точно. Как работала ткань! Наконец-то
виден силуэт костюма. Снимаете все крупно да крупно. Пошивочный цех месяц
мучился над оборками и рюшами. Нет, этот дубль прелесть».
Звукооператор:
«Мне показалось, что микрофон был низковат. Не мог он мелькнуть в кадре?»
А
актер, трясущийся после дубля, преданно и доверчиво заглядывает всем в глаза.
Но никто на его немой вопрос — как же я? — не отвечает. Его увидит, услышит и
почувствует только режиссер. Какой он? Что для него главное? Интересно, что у
крепкого режиссера не видно на экране ни мелькнувшего микрофона, ни того, что
девушка вылезла не вовремя. Режиссер возьмет именно этот дубль. Проведет его
через самые суровые ОТК. Потому что он знает: в этом дубле актеры были на той
эмоциональной волне, которую повторить нельзя. Актер кино на пути к зрителю,
безусловно, в руках десятка талантливых нянек.
А
что думает публика о киноартисте, он узнает только тогда, когда выйдет на концертную
площадку. Своими аплодисментами зритель укажет киноартисту на его реальное
место в профессиональном строю. Публика совершенно неожиданно, по-своему, дает
оценку артисту, порой парадоксально. Я поражалась тому, как распределялись зрительские
симпатии. Вот артист Иванов. Сколько лет снимается. Сколько картин за плечами.
И провалов не было. И с экрана надолго не исчезал. Объявили его фамилию.
Раздались вполне удовлетворительные аплодисменты. Ну, так, на троечку... Не
больше. А вот — Петров! Сейчас он из картины в картину. На студии пробы сразу в
нескольких фильмах, за него идут бои между режиссерами. Объявили Петрова — семь
с половиной восторженных хлопков в трехтысячном зале. Черт побери, да вот
только сегодня в газете о нем хвалебная рецензия. Ничего не понимаю. Ну, сейчас
номер артиста Сидорова. Что тут скажешь? Жаль, что давно не снимается. Почему?
А кто его знает? Держись, держись, Сидоров, милый. «Выступает артист кино —
Сидоров!» И... взрыв! Бурные аплодисменты. Зрители сердечно благодарят артиста
за то, что он однажды принес им радость, ворвался в их души, заразил их
оптимизмом, душевной щедростью, своей природной артистичностью. Ах, как публика
это настоящее чует и ценит. Я преклоняюсь перед обаянием, талантом и редкой
человеческой добротой этого артиста. Я слышу его голос: «Когда весна придет, не
знаю...» И чувствую, как подступают слезы. Привыкнуть бы — ведь столько раз
слышала. Нет! Наверное, потому, что это настоящее, индивидуальное, нигде не
позаимствованное, русское. Николай Рыбников заставляет меня приближать все
такое далекое, пристально, ностальгически прикасаться к детству, к папе, к
отечеству. Ах, это артист «мой». Таких прирожденных талантливых артистов
конферансье эстрады может объявлять так: «А сейчас перед вами выступит артист,
у которого еще нет звания, но его имя и есть его звание».
Только
побывав на эстрадной площадке, актер кино поймет жизнь артиста эстрады. Сам,
без нянек, он кует свой зрительский образ, оттачивает свое мастерство. А
публика помогает ему шлифовать вкус.
Аплодисменты,
«бис», «браво», «скандеж», ажиотаж сопровождают одного. Другой же покидает
сцену под стук собственных каблуков. Можно ли остаться ровным, доброжелательным,
независтливым, быть выше всего этого? О, это очень непросто. Я почти не
встречала артистов, которые к приему публики, к аплодисментам относились бы
неболезненно.
...Когда
совсем не было приглашений с творческими вечерами и уже было не до выбора, я
отправлялась на гастроли в составе больших сборных концертов. Без песен из
«того» фильма на сцене лучше было и не появляться. Пробовала петь новое — «Что-то
она уже не та. Давай нам ту, бойкую, веселую, молоденькую». А ведь прошло
двенадцать лет после фильма. Да каких лет... Но ты, артист, всегда будь
молодым. Это я усвоила еще в те годы и взяла на постоянное вооружение.
В
концертах, где твоя фамилия не делает погоды, надо уметь «зажать сердце в руке»
и безропотно подчиняться тому, что у тебя будет такое место в концерте, какое
пожелают «главные» люди, делающие погоду, сборы и, главное, аплодисменты.
Гастролер. Емкое и точное слово. Если это умный и деликатный человек, он не
вмешивается в посторонние дела. Не судит артиста за более громкий, чем у него, смех
или более шумный успех у местных поклонниц. Деликатный «главный» никогда не
даст понять артисту, что его имя на афише закодировано в таком обидном и расплывчатом
«и др.»... Такой гастролер — громкий король только на сцене. Но если «главный»
с повадками звезды, с гиперболизированным сознанием своего величия... ох, ох,
как же всем приходится подстраиваться, поддакивать... Такой гастролер на
концерте появляется с опозданием, в последний момент. Паника и трясучка за
кулисами приятно щекочут ему нервы: «Я вас научу уважать мою фамилию», —
говорят хищно раздувающиеся ноздри. Но по опыту он знает, что перегибать не
следует, и тут же появившаяся обаятельная улыбка сбивает с толку: «Ребята,
задергался, ну бывает...» — «Ну что ты, все в порядке», — заискивающе улыбаются
те, кто понеустроеннее.
...Один
из сборных эстрадных концертов, где «главный», как всегда, заставлял всех
нервничать. Маленькая худенькая актриса в нелепом трико металась по закоулкам
коридоров и кулис в поисках ведущего. «Гарри Павлович, миленький, дорогой, как
же так? Я ведь уже давно готова, объявите меня, пожалуйста. Прибыл наш
«главный», все перемешалось. Ой, господи, каким же я теперь номером? Гарри
Павлович, ну вспомните, я ведь всегда имела свои аплодисменты, а?» Ей остался
всего год до пенсии. И в репертуаре, и в одежде, и в неукоснительной дисциплине
она была вся «из вчера». Но природа ее таланта такова, что в полную силу могла
жить только на сцене. И как хорошо, что тот концерт вел милый, деликатный
человек.
—
Милая вы моя, дорогая. Меня не интересует порядковый номер вашего выхода. Вы
для меня всегда номер один.
—
Ах, что вы, Гарик, спасибо вам, голубчик... спасибо...
Как
нужны были такие слова, как нужны...
Если
б в жизни встречались только добрые, веселые люди! Но это не так. И говорить,
что все празднично и чудненько, а вокруг все такие милые и доброжелательные —
значит говорить неправду. 1966—1970 годы — это время встреч, знакомств с
поразительно пестрой и разнообразной чередой людей. Этот период куда тяжелее
того, первого, — начала шестидесятых. Тот период был первым, и этим многое
объясняется. В том, что происходит впервые, всегда есть неизвестность
завтрашнего, всегда есть надежда. В эти же годы я вступила, зная по прошлому,
что́ меня ждет и что надежды мало. И все же надеялась... 1966—1970 годы — это
время потери веры в людей. Порой становилось даже легче: ты сильна, потому что
больше никому нет веры. Но откуда ни возьмись появлялся на горизонте человек. И
приобретенное чувство облегчения сменялось испугом. Неужели это тот, кто вернет
веру в людей? Я пойму, что это было мое тяжкое заблуждение, и опять стану
мягкой и доброй? В жизни мне всегда хотелось встретить человека, который бы
хоть чем-то, хоть отдаленно напоминал моего папу. Пусть не князь и не
интеллектуал, но добрый, а главное, человек не мелкий. Я знала, что такого не
будет. Но все равно бросалась в дружбы и увлечения, как в убежище...
Кинусь
и... Опять кручусь в «замкнутом круге». Как же меня сюда занесло? Зачем я
здесь? Да ничего тут нет от моего папы. Что ж, нелегко было доходить до этого.
Ведь внешне другой раз все так широко и трогательно. И только потом начинаешь
понимать, что «парадным входом» управляет некий тайный кабинет, где щедроты,
сюрпризы и внимание вычислены на счетном устройстве. Карьера, карьеризм,
особый, сегодняшний обаятельный карьеризм. Вот, пожалуй, суть. Это была школа
открытий, невероятных человеческих перевоплощений. Не прощу, что не сумела
найти в себе силы пресечь все это сразу. Не прощу. Не прощу никогда!
Предательство...
Что может быть тяжелее. Как бы ты себя ни уговаривала, что время залечит раны,
как бы ни утешала себя, что есть люди поинтереснее, — подумаешь, кого-то тебе
предпочли, — но все равно невозможно заполнить выжженные места в душе.
В
концертах я часто общалась с одним интереснейшим человеком. Это эксцентричный
музыкальный актер-виртуоз, мой любимец еще с детства. Теперь вот его уже нет.
Он был и в кино прекрасен, и на эстраде. Потому с горечью говорю — «он был».
Сергей Мартинсон. Однажды, после очередного сильного щелчка, на душе у меня
было смутно. Мы сидели в его грим-уборной. Я как-то вывела его на откровение,
чтобы понять — почему, как в таком более чем солидном возрасте он сумел
остаться восторженным, жизнерадостным, доброжелательным, как юноша увлекающимся
и на редкость любознательным.
—
Моя дорогая маде-муазель! Каждый день я обедаю в ресторане. Обязательно.
Разумеется, с красным вином. Оно бодрит кровь и веселит взор. Я смотрю на людей
и ощущаю импульс сегодняшнего дня. Я заглядываюсь на женщин, и некоторые из
них, маде-муазель, мне даже очень нравятся. После обеда у меня всегда
преотличное настроение. По любимым бульварам я иду на рандеву с моим старинным
другом. Ему уже восемьдесят. Но это, мадемуазель, колосс! Мы острим, шутим,
вспоминаем былые времена, говорим на французском, слушаем Баха, Вивальди,
Моцарта. Иногда, под настроение, Вертинского: «Я вам сегце со сцены, как мячик,
бгосаю, ну ловите, пгинцесса Иген!» Главное, никаких отрицательных эмоций. У
меня было три жены. Все три — красотки. И все три ушли. Когда уходила третья, я
переживал минуты две, не более. Вторая мне доставила семь минут неприятных
ощущений. Но я сразу вспомнил, как страдал после первой, кошмар — целых
пятнадцать минут! Пятнадцать минут выброшено из жизни! Как я смел? Жить!
Радоваться! Только так! Страдать? Болеть? Переживать? Нет! Нет! Нет! Ни за что
на свете. Что? Предательство? Да вы что, маде-муазель, только что на свет
родились? Вы что, хотите, чтобы простили талант? Где талант, там предательство
и интриги. Нет, нет, довольно, мадам, никаких отрицательных эмоций. Послушайте
прелестный анекдот’ц: приходит француз домой, открывает шкап, а там — кто бы вы
думали? — совершенно верно, муж-чи-на. «Что вы делаете в спальне моей жены?» —
«Простите, — говорит, — только один вопрос. Как там наши, Ватерлоо еще не
взяли?» Ха-ха-ха...
Как
часто в жизни его посещали горе и разочарования. Но вот сумел же человек
выработать в себе этот оптимизм, сумел отбросить все, что сокращает самое
дорогое — жизнь. Как? Через что? В какой момент? Где искать ответы, рецепты?
Когда
меня предают — это как гангрена. Точит, точит, разъедает. И ведь знаю, что
лучше здоровая ампутация — р-раз, и нету. А не получается. Вроде чего-то жаль.
Жаль вклада. Но за добро не нужно ждать добра...
В
то «бескалендарное время грез» мелких и крупных разочарований было
предостаточно. Из-за отсутствия стержня, главного в жизни, работы, драгоценные
силы разбрасывались. А время шло, и роли уходили. Теперь на вопрос: «Что бы вы
хотели сыграть? О какой роли вы мечтаете?» — я неизменно отвечаю: «Простите, но
я ни о чем не мечтаю. Я очень счастлива, что у меня сегодня есть работа, что
могу даже выбирать роль. Хочу с предельной отдачей исполнять то, что мне
предлагают». Да, теперь есть дело, есть забвение в работе.
...А
работать становилось все труднее и труднее. И как бы ты ни выкладывалась, а
зал-то наполовину пуст. Сколько надо было в себе задавить, погасить, чтобы,
выйдя на сцену, не покраснеть, не побледнеть. Чтобы найти нужные в такой
горькой ситуации полутона на сцене. Чтобы тебя не жалели. Но и чтобы видели,
что я тоже вижу эту пустоту зала. Ох, и этого я никому не желаю. Пустой зал ты
чувствуешь еще за кулисами, по неестественной тишине, когда редкие зрители,
сами стесняясь этого обстоятельства, говорят шепотом, как на похоронах. Пустой
зал ощущается по добрым и сочувствующим взглядам музыкантов! По
сосредоточенному лицу администратора, который привез на гастроли «второсортный
товар». И пусть на втором, третьем, четвертом выступлении людей будет все
больше и больше. И пусть пойдет молва, что живу, существую, работаю, не
сдаюсь... Но срок гастролей кончался. И филармония, криво усмехаясь, нехотя
производила с тобой расчет, будто из своего кармана. И похлопывая тебя по плечу:
«Эх, приехали бы к нам лет десять назад, вот бы были сборы...» А назавтра, в
другом городе, стою на сцене в платьице, в котором видно, что талия на месте,
будь она неладна. На улице мороз сорок градусов. В Москве с очередной подружкой
моя Машенька. В Харькове папа и мама разбираются в моих письмах — где правда,
где ложь. А в зале сидят люди в пальто. И снег, что был у них на валенках, так
и не растаял до конца выступления. Но я ничего не чувствую. Я хочу пробиться к
людям. И, сжимая ледяной микрофон, пою, как в первый раз в жизни: «Я вам
песенку спою про пять минут...»
Намерзнешься,
сполна назакаляешь сопротивляемость и силу воли, а потом нужна передышка, иначе
виден край. Ну, какая в Москве передышка? Опять новые знакомые. Ищешь в них
утешение, взаимопонимание. Опять ошибки, ушибы...
Я
помню лица артистов, которые видели, как я порхала птичкой то на Камчатке, то
на Урале, то в средней полосе России, то удивленно смотрели на меня, когда я
выплывала из волн Черного моря. Я понимала: они удивлялись тому, что я еще
порхаю. Ведь год назад, случайно встретившись со мной во время гастролей где-то
на краю света, они видели, что «перышки мои» совсем пообтрепались, лицо
заострилось и горько опустились края губ... «Э, нет, долго не протянет», —
читала я на их лицах. И это меня встряхивало, я делала немыслимый прыжок и опять
взлетала.
Вдруг
решив, что в театре «Современник» мне не повезло и повезет в другом, я в
отчаянии бросилась в другой театр, к другому режиссеру. В театр имени
Ленинского комсомола, к Анатолию Васильевичу Эфросу. Вспомнив две сцены из
спектаклей «Современника», уговорив актеров показаться вместе со мной, я пришла
на показ ни жива ни мертва. А потом и трясучка пропала. Ну чего я боюсь? Ну что
может быть страшнее того, что не возьмут? Да ничего. Но уж очень нужно было
себе доказать, что я еще существую. И я начала показ. Что? Реакция? Да где?
Именно в тех самых местах, когда думаешь, что этого уж точно никто не отметит.
О-о! Какие это дорогие секунды в жизни! Вот и еще ответ на вопрос: какие мгновения
в своей жизни вы считаете самыми счастливыми? Нет, не счастливыми, а
живительными. Как самое дорогое лекарство! Ты уже не играешь. Ты полновластный
хозяин своего послушного сложного агрегата, дышишь в полную мощь первый раз за
последнее время и на ходу придумываешь и осуществляешь. Все то, о чем могла
только фантазировать, лежа в неуютных гостиничных кроватях. Вот оно, живое
воплощение мечты, воплощение наяву! И это видно, слышно, осязаемо, материально!
Рассмотрели, приняли, поверили, отреагировали, взяли в театр! Я в небе! Но
только две недели. Изменились события. Главный режиссер стал работать уже в
другом театре. Тут уже не до меня...
И
опять с неба на землю. И опять «по морям, по волнам». И опять: «Я вам песенку
спою...» И опять полупустые залы, кривые улыбки филармонии. И опять случайные
подруги и друзья. И опять фальшивые письма к любимым родителям и страх
услышать: «Доченька, ты жива?»
И
вдруг, как это со мной бывает «вдруг», я поехала с московским мюзик-холлом в
зарубежные гастроли. Искали в программу свежую певицу. Кто-то из артистов видел
меня в гастролях, где я пела свои песни. Чем черт не шутит, послушайте,
отказать никогда не поздно. И на прослушивании я спела свою песню «Мария».
...Шла
по телевизору захватывающая передача. Ну, не сыграешь такое, не придумаешь и не
срежиссируешь. В море есть закон: каждый час в течение трех минут можно передавать
сигнал тревоги и бедствия. И только. Это закон. SOS! И вдруг
однажды вместо сигнала тревоги на весь мир понеслось: «Мария, я люблю тебя!!!»
Сама жизнь ворвалась к людям в дома. На. экране телевизора было лицо той самой
Марии — прекрасное счастливое лицо любящей и любимой женщины. Я не отрывалась
от экрана. Даже моя Маша завороженно, не по-детски смотрела на него. Ах, как же
хотелось жить, работать, творить! Ну что ж, пусть, пусть я уже давно существую
как отрезанный ломоть, но... Но! «Раз мыслю, я живу!» Я уже знала, что это
будет песня, и знала, что называться будет «Мария», и знала, что в припеве
будет неоднократное повторение слова «люблю». Наутро я бежала к знакомому
конферансье эстрады Эмилю Радову, который был не только артистом и добрым,
внимательным человеком, но и автором многих популярных песен и куплетов на
эстраде. А главное, мне казалось, что он в меня верит. А на тот период жизни
это было главным.
Три минуты в течение часа
Корабли молчат в океанах,
Сигналит лишь тот, кто в беде оказался.
И однажды сигнал раздался:
Мария, ты слышишь — я люблю!
Мария, ты помни — я люблю!
Мария, ты знай, что я люблю, Мария, Мария,
Пусть мир наполнен будет именем Мария,
Пусть над миром льется песня о Марии,
Я люблю — ты слышишь, я люблю, Мария!
Честное
слово, песня получилась. Ее пела не только сама, но и у разных исполнителей,
она, со стабильным приемом публики, была в репертуаре. Что ж, такая тема,
которая не допускает равнодушия, написанная единым духом песня не оставляла
никого спокойным. Это было в незабываемом 1968 году, когда все вокруг меня было
на точке нуля. Эта песня тогда меня прямо-таки спасла.
...Исполнив
«Марию» на показе комиссии, которая комплектовала группу солистов мюзик-холла,
вскоре в один прекрасный летний день я оказалась в поезде «Москва — Варшава».
Как интересно все в жизни. Дома плачу без роли, а за рубеж еду как музыкальная
кинозвезда! Мы выступали в городах Польши, Румынии, Болгарии. За рубежом, в
братских странах, еще помнили и любили ту веселую комедию и тоже иногда крутили
под Новый год. Волновалась я здорово. Но меня выручала неизменно моя «Мария»,
которую красиво оркестровали. Она зазвучала полнокровно и темпераментно. И была
понятна без перевода. Но. Но как же не воспользоваться возможностью сказать
несколько фраз на родном для публики языке? Все-таки я актриса, и сам бог велел
поиграть: друзья мои, какой бы мы ни были национальности и вероисповедания, но
любовь для нас всех... это... ах! — короче, любовь есть любовь. Улыбаются за
рубежом быстро и с готовностью. А если еще ироничный взгляд на свою персону.
Мол, тоже подвержена этому, черт бы его побрал, чувству, ах, ах, ах. Я пела
«Марию», и мне мерещился какой-то несуществующий цельный и добрый объект любви.
И так не хотелось спускаться на землю. Ведь такого объекта у меня на земле не
было. Я ездила, выступала, наблюдала, впитывала новшества зарубежной жизни,
старалась сохранить веселый нрав и душевное равновесие. И вспоминать, и копаться,
и переживать здесь казалось просто глупым и неуместным. Но, к большому
сожалению, я принадлежу к той категории русских людей, которые начинают болеть
ностальгией, еще не выехав за пределы родной земли. Я люблю в жизни только свое
— дом, близких, город, землю, даже злых соседей и «доброжелателей». Люблю с
удесятеренной силой, как только вижу вокруг красивое, порой прекрасное, но не
родное. Дома природу не замечаю. За кордоном же от одного понятия «средняя
полоса России» могу прийти в состояние наивысшего душевного подъема. «Та што
там гаварить», это уж точно, мне будет самый едкий «дым отечества и сладок и
приятен». Ходи, живи, впитывай, радуйся неожиданному просвету. Нет, домой! Ну
что тебе дома?
Ничего
ведь дома тебя не ждет. Сейчас твоя работа здесь — работай! Нет, хочу домой!
Примитивная натура. Ну и ладно. Ну и пусть. Зато внутри никакого насилия. «Хай
усё у твоей жизни будить своё, кровное, усё во етими своими руками. На чужое не
зарсь, будь гордую, як твой папусик».
...И
еще раз я решила приподняться и попробовать свои силы в театре. Схватилась за
эту спасительную идею, потому что речь шла о Театре сатиры. Я почти на сто
процентов поверила, что работа для меня найдется — казалось, все мои
способности как нельзя более в стиле этого театра. Опять договорилась с
актерами «Современника». И опять обновила в памяти те же два отрывка из
спектаклей «Старшая сестра» и «В день свадьбы». В них для показа было все: и
жанр комедии, и юмор, и пение, и гитара, и танец. Жюри в самом что ни на есть
полном составе — целых три ряда! Начался показ... Чувствую десятым чувством в
аудитории неестественную, напряженную тишину. У Анатолия Эфроса в том просто
драматическом театре были и неожиданные горячие актерские реакции, и даже смех,
которые актеру, играющему перед актерами же, дают понять, что он на верном
пути. Тут же штиль, гробовик. Играть смешное в гробовой тишине? Чувствуешь себя
голым и абсолютно бездарным. Ну что же делать? А показ идет.
Я
играю, рассуждает во мне кто-то там сотый. А может, сама судьба, бог его знает.
Чувствовала, что тону, что «захлебаюсь аккынчательно», и хватаюсь за слабенькую
и глупую обнадеживающую мыслишку: ведь это не юмор, а сама беспощадная госпожа сатира...
А в голове что-то школьное про сатиру из Салтыкова-Щедрина, перемежающееся с
Кукрыниксами военного времени... И про сатиру больше — ни бум-бум... На ходу
сползаю с субтона, с нюансов, именно тех, что имели успех на том показе. И
начинаю все раскрашивать, педалировать, наседать. Может, думаю, в Театре сатиры
надо укрупнять мазки? Перестаю делать паузы, потому что на первой же остановке
у меня так застучало сердце — испугалась, что его услышат в первом ряду и я
выдам себя, — так трястись — непрофессионально. Кто-то справа хохотнул и тут же
осекся. Создалось впечатление, что решение не брать меня в театр было принято
заранее. А значит, естественно, не реагировать. Удивительно, но даже самый
молодой член худсовета Андрей Миронов сидел с видом скучающего профессора. И
скажи ему, что через несколько лет мы с ним затанцуем и запоем в веселых дуэтах...
Но все это — потом. А тогда на показе... Дошло дело до гитары. Я стала
перебирать аккорды... Будто так надо... А сама переводила дыхание и лихорадочно
соображала, как достойно выйти из этой игры? Я видела растерянные глаза своих
партнеров, которые мучились вместе со мной... Почему я терплю? Ведь тут уже все
решено. И точно так, как и тогда, перед тем как выйти на площадь Маяковского из
того театра, на меня навалилось знакомое состояние внутренней убежденности, что
я иду странным, но каким-то своим путем, где не может быть насилия над собой.
Да, остановить показ — непрофессионально. А какое это имеет значение, если всем
все ясно? Профессионально или непрофессионально, хорошо или плохо, мило или
бездарно, да будь оно все неладно! Я хочу домой, к пианино, к ребенку, к своему
окну, к песням...
—
Извините, я чувствую, что все это не имеет смысла...
—
Ну что вы, что вы...
Долгая
пауза.
—
Может, вы нам споете что-нибудь? — обратился ко мне по-дружески приятный голос.
Я
села к роялю и спела «Марию».
—
Ну, что-нибудь еще, — через вязкую паузу обратился ко мне тот же голос.
Подвела
меня на этот раз моя «Мария»...
Не
так давно в ВТО коллектив Театра сатиры отмечал присуждение звания одному из
актеров. Случайно встретились в раздевалке. Атмосфера была удивительно теплая и
какая-то искренне-нежно-доброжелательная. И все-таки как интересно все в жизни!
Удивительно! Оказывается, я просто рождена для Театра сатиры. Как жаль, что в
то время проводилась в театре какая-то линия «демократизма», что ли... И вот
решили общим демократическим собранием, что на тот период театру я не нужна.
Чего-то я не поняла до конца, но линия «демократизма» запомнилась. Да и какое
это теперь имеет значение? Нет никаких сожалений. Это все пошло на пользу, как
одна из глав высших курсов жизни. В трех театрах мне не повезло. На том и
кончились мои прыжки в жизнь с репетициями, спектаклями, жестким режимом.
Но
почему все-таки я желала именно такой дисциплинирующей постоянной работы? Было
много свободного времени, и инстинкт самосохранения порой бил в тревожный
колокольчик: трудиться, работать, постоянно, ежедневно, не от разу до разу,
организовывать свой образ жизни, свой рабочий день, свой драгоценный день
жизни. Надо, но где? Надо, но как? Надо, но для чего? В минуты отчаяния не
верилось совершенно, что придет время, что все еще впереди. Что-то от меня
улетало, уходило, убегало. Но о том, чтобы изменить профессию... Такая мысль ни
разу не мелькала в голове. Иначе в минуты отчаяния я зацепилась бы за такую
спасительную идею. Начала бы ее укреплять, тщательно лелеять. И она проросла бы
и дала свои плоды.
Но
нет, меня неудержимо тянуло к людям искусства...
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
«Дочурка,
если ты проснулася поздно, як твоя мать, когда на дворе вже полный день, — не
лежи, увставай зразу, а то у голову полезить такое усякое, пойдеть такая
выработка...» Нет, папочка, не важно, в каком часу от меня отлетит сон. Важно,
в каком состоянии я была, когда этот сон ко мне вчера пришел.
К
вечеру тревожные мысли удается приглушить. В темноте они умолкают. Но зато
утром они просыпаются с новыми силами и беспощадно заявляют о себе.
Еще
не представляешь, с чего начинать этот бесконечный день, но уже точно знаешь
одно — день будет бесконечным. От этого начинаешь сначала испытывать бессилие,
потом легкое беспокойство... Постепенно оно усиливается, да так, что вдруг
начинаешь слышать удары собственного сердца.
Что
там на улице? Все то же. Вылезать из постели холодно. И зачем? Никто не ждет.
Никто не звонит. Работы нет. Вот и проснулась.
Стремление
держаться в хорошей форме — это все-таки стремление. В самом этом слове есть
движение, цель, направленность. И все же непонятно зачем, просто инстинктом
чуя, где «жизнь», я веду почти аскетический образ жизни. Щажу лицо. И на ночь
не пью ни воды, ни чая. А потом наступает отчаяние. Сцепив в бешенстве зубы, я
неистово начинаю делать зарядку. Или тупо бегать. Но, быстро выдохшись, я
понимаю, что мой бег, моя зарядка — это не способ ожить, распрямиться,
улыбнуться. Это потуги в отчаянии. Не выдыхаются люди физически сильные.
Здоровье, талант, красота — это все-таки дар природы. А мой небольшой запас
здоровья напрасно уходил на внезапные взрывы, переходы от апатии к действиям
без промежуточных стадий.
А
вчера? Что было вчера? вчера... Вчера я была в своей роли — веселила компанию.
Попала туда случайно. Ну, не совсем случайно. Кто-то сказал, что я, мол,
истории разные рассказываю и вообще чудна́я. Я уже привыкла быть объектом
простодушных шуточек и не могла, даже и не желала отказываться от роли клоунессы.
Ведь это все-таки где-то моя профессия. Я не обижалась, когда меня не вовлекали
в «серьезные» разговоры: меня так прямолинейно воспринимали до смешного. Кто
знал, что за моей болтающей, суетящейся маской «развлекательницы» беспрерывно,
как часы — тик-так, тик-так — работает мозг. Кто знал, что он запечатлял в
подробностях детали, интонации, мизансцены, запахи, атмосферу... Он готовил,
запасал, оснащал мой организм на будущее. Я благодарна таким вечерам, когда я
хоть и клоуном, пусть и ненадолго, но была в центре внимания. А со временем,
оглядываясь назад, понимаешь, что чье-то невежество и нетонкость даже
способствуют твоей скромности. Уж точно, в кино теперь никаких ролей стесняться
не буду.
...А
пока я лежу. Снотворное еще где-то там бродит. Мысли во сне отдыхают? Мне это недоступно.
Переход ко сну превратился для меня в длинный однообразный тоннель, где нужно
терпение и терпение. Наизусть знаю все щели в потолке и на стенах. Но все равно
смотрю и стараюсь увидеть там контуры животных и мефистофелей. Резко встаю. А
ведь только что думала — подожду до десяти часов и начну день со звонка моей
подруге. Зимой темно. И я включаю настольную лампу. Резкий свет бьет в лицо. И
напоминает мне свет «дигов» на съемочной площадке. И я тут же выключаю свет.
Пульс резко учащается, к горлу подкатывает знакомая боль. Звук собственного
голоса в притихшей квартире меня окончательно приводит в действительность. В
другой комнате моя Маша. Учиться не надо — сейчас каникулы. Она уже, наверное,
поела и читает или рисует профили на листочках, ставя автограф, точь-в-точь как
у дедушки.
«Мамочка,
ты будешь пить чай? Хлеба мало, но тебе хватит. Потом я сбегаю в магазин». Ей
не нужно заглядывать мне в глаза. Мое настроение она чует на расстоянии. Потому
ни «доброго утра», ни «как ты себя чувствуешь?» — сразу к делу. Запомнила, как
говорю своей подруге по телефону: «Я верю только фактам». И ее учила — делом,
делом. Потому между нами — ничего лишнего, все просто и естественно. Но чаю не
хочется. Свет лампы меня расстроил. Ведь сколько раз зажигала, и ничего. А вот
и прорвалась тоска, тоска по кино. Мельком еще раз проверяю список знакомых,
написанный жутким Машиным почерком. Кто же звонил мне вчера вечером?
...Недавно,
переезжая на новую квартиру, наткнулась на записную книжку того времени. Листая
ее страницы, я поразилась, сколько же у меня тогда было знакомых и друзей! Где
же вы теперь? Я хваталась. За меня хватались. Встречались, смеялись, сходились,
расходились, сочувствовали, клялись в дружбе. И... исчезали. Теперь нет и сотой
доли прежнего. Время отсеяло многих. Как в решете с крупными дырками, сквозь
которое проскакивает все без задержки. На поверхности осталось только
несколько, но самых дорогих, бесценных.
Уже
десять часов. Целый час бессмысленно пролежала в ванной, читая Камю. От его
экзистенциализма на душе еще муторнее. Очень талантливо, но как-то совсем
беспросветно. Ведь есть же и другое одиночество. Есть Пушкин, Маяковский,
Твардовский. «Ах, какой вы все, ребята, замечательный народ!» Отбрасываю Камю,
беру Пушкина — и сразу хочется чаю! Ни с того ни с сего хватаю Машу. Целую ее,
тискаю, подрезаю ногти, челку. Говорю ей, что, когда она вырастет, мы ей будем
обязательно подкрашивать волосы и выщипывать брови. Она реагирует осуждающе. В
школе как раз за это ругают девочек из старших классов. Я ей говорю, что это мы
будем делать после школы, когда она выйдет замуж. Она опять не скрывает своего
осуждения и говорит — чем жить так со своим мужем, как тетя Зоя, она лучше
поедет «до дедушки Марка и до Лёли у Харькув». Я замолкаю, безразлично мурлыкаю
первую попавшуюся мелодию. А внутри себя отмечаю, что она права. Надо будет не
так открыто разговаривать со своей приятельницей. А то всем сердцем участвуешь
в ее горе. А ребенок, будучи в центре событий, невольно все мотает на ус. И
делает не те выводы.
О вы, которые любовью не горели,
Взгляните на нее — узнаете любовь.
О вы, которые уж сердцем охладели,
Взгляните на нее — полюбите вы вновь.
В
каком это году? Конечно, в девятнадцать лет... А в тридцать?
Бродячие ночлеги
И проказы старины
Позабыл для сельской неги
И домашней тишины.
Но
теперь, когда мне столько, сколько тебе было тогда, когда ты написал: «На свете
счастья нет, но есть покой и воля...» Ах, если бы ты, Александр Сергеевич,
знал, как меня спасают эти слова! Я приходила к выводу, что течет время,
меняются моды, уходят люди, поколения сменяют поколения — изменяются условия
жизни. Но внутренняя, духовная жизнь, переживания и победы людей всегда
неизменны. «Есть покой и воля». Воля, свобода, выдержка, понятно. Но покой...
Как найти покой?..
Машенька
пошла с подружкой в кино. Она всегда чувствует, когда мне нужно побыть одной. Я
звоню своей подруге. Я ей звоню часто. Каждый день. Она сидит в большой
комнате, в каком-то КБ. Телефон один. На столике их начальника. Самое удачное
время для разговора, когда его нет на месте. Но попробуй подгадай это время.
Наш разговор почти всегда одинаков — мои монологи и её лаконичные ответы: «Да.
Нет. Понимаю. Конечно. Безусловно. Еще бы. Только фактам». И никогда: «Мне
жаль. Сочувствую. Бедная. Не звонили». Вокруг нее любопытные коллеги. И все знают
наверняка, что она разговаривает со мной. Мой тембр голоса им хорошо знаком. И
когда я прошу ее, слышу, как голос подчеркнуто произносит: «Это опять тебя». Я
всегда вижу у стола главного инженера свою подругу, переминающуюся с ноги на
ногу, сосредоточенную, чтобы не проскользнуло мое имя, не то слово. А в конце
разговора слышу «приезжай обязательно». И я злюсь на себя за то, что звоню ей в
рабочее время, что у нее могут быть неприятности. Почему она не отругает меня?
Я бы ей не звонила больше. Нет, я позвоню. Когда меня совсем выбрасывало на
мель, то, кроме нее, никому не могла рассказать, что было на душе. Она меня не
подводила. Сколько раз обжигалась. Выкладывая душу, казалось бы, хорошим людям,
а ко мне все возвращалось потом в искаженном виде. Сколько раз проклинала себя
за болтовню и откровение. Может, другой человек в моих обстоятельствах мог бы
просто наплевать. Пробовала. У меня не получалось.
Уже
три часа. Впереди еще огромный день. В доме все чисто. Гладить не хочется.
Новое платье надела вчера, едва вынув наметку. На женщин оно произвело
впечатление. «Премилое платьице», — сказала хозяйка дома, красивая брюнетка. Но
там я больше не появлюсь. Красивая женщина — как правило, властная. Она уж
точно уберет из своих владений другую женщину. Даже если она ей не соперница.
Ну, а я ведь привлекла внимание компании. Значит, можно быть уверенной, что мне
этого не забудут.
Быстро
одеваюсь и иду к кинотеатру «Москва» встретить Машу. Я ведь мать. Есть у меня
обязательства. Выхожу на площадь Маяковского — кипит, шумит, бурлит жизнь. На
улице я уже забываю, куда намеревалась идти. Ключи у Маши свои. И вообще, она
бы удивилась тому, что я ее встречаю. С чего это вдруг? У нас с ней суровые
отношения. Я, не задумываясь, иду куда глаза глядят. Предоставляю чему-то там
внутри выбирать переулки, чередовать их безмолвие с шумной улицей Горького.
Люди спешат. Лица у всех озабоченные. Всех ждет работа. А сколько вокруг
объявлений. И все требуются, требуются, требуются... А я свободна, как птица!
«Птица, которая хочет трудиться». Но мой труд особый. Он и дефицит, он и... а
что «и» — не знаю... Знаю, что мне вот неловко остановить спешащего в театр на
репетицию бывшего коллегу. О чем спросить? Ведь разговор будет не на равных. И
я опускаю глаза, сдвигаю брови, образовав на лбу озабоченность, и тоже спешу! И
оба, увидев друг друга, отлично играем, что не узнали. Но и в эту минуту
сожаления об уходе из театра никакого. И на его месте я не хотела бы быть.
Удивительно, но от этого становится легче. Все же иду, иду каким-то своим
путем. Такие мимолетные встречи вызывают внутри освежающие толчки, которые
приободряют и встряхивают. Это как иногда кажется, что ты больна, что у тебя
жар. А смеришь температуру — она 36,6°. Значит, ты здорова. А это — главное.
Я
боялась казаться жалкой неудачницей. Казалось бы, чего тут бояться? Неудача,
временная потеря везения. Но однажды я была свидетелем, как здоровый красивый
человек в исступленной истерике кричал своей жене — в то время популярной
актрисе: «Я неудачник! Понимаешь ты такое, ты, звезда, ты этого не можешь
понять, ты, ты, ты... я, я, я...» О, себя он, видно, обожал. Красивый,
здоровый, молодой человек — и неудачник. Не увязывались в нем эти две вещи.
Будь на его месте хиленький, болезненный, так его и пожалеешь, и не задумаешься
над понятием «неудачник». Не выходил у меня из головы тот энергичный неудачник.
А может, дело в том, что пошел не по той дорожке? Про себя трудно сказать:
занялся я, ребята, не своим делом. Нет, человек, выбравший правильный путь, с
руками, ногами и здоровой головой, не может быть неудачником.
Еще
было страшно превратиться в человека одержимого, который говорит всегда одно и
то же, ну, слово в слово. Вчера ему все сопереживали. А сегодня его боятся и
избегают. Он, бедный, ходит и ходит по заколдованному кругу. Хочет изменить
траекторию. Но опять и опять выходит на свое наболевшее...
...Стою
в очереди. В галантерейном магазине красивые коробочки с импортным туалетным
мылом. Глаза рассматривают пол магазина, на котором жижа от грязного снега и
следы от разнообразной обуви. Боюсь поднять глаза и встретиться с чьим-нибудь
взглядом. Ведь они, глаза проклятые, сами кричат: «Товарищи! Это я! Неужели же
я так изменилась?» И у человека вдруг во взгляде что-то вздрогнет. Мол, что это
с дамочкой? Или — где я ее видел?.. Или просто кивнет, как дальней и забытой
соседке. Или узнает... Но узнавали редко. Узнавали те, у кого была редкая
зрительная память и музыкальность души. А если и заговаривали со мной, то
отмечу как феноменальный факт — все, без единого исключения, задавали один и
тот же вопрос: «Почему вы не снимаетесь?»
...Бог
с ним, с этим заморским мылом. Я люблю наше, Машино — «Детское». Хотелось для
разнообразия. Но вот так безнадежно стоять в очереди, будь оно неладно.
Выбралась, иду... Мысли, одна перебивает другую... И... ни одной спасительной.
Завтра и послезавтра... Будет одно и то же. В скверике сажусь на лавочку. Тупо
смотрю на заиндевелые деревья. «Посмотрите, какие сосульки прелестные, сломайте
мне одну, вы такой высокий, гражданин». Я вглядываюсь в эту женщину, которую
так восхищает сосулька. Нет, хорошо сейчас мудрому медведю. Наелся себе за
лето. Залез в берлогу. И — привет, товарищи, до встреч в новом году!
Если
ты на скамейке сидишь одна, значит, это не просто так. Ведь на скамейке должны
сидеть двое. Как пелось в «Кубанских казаках»: «Ворон с Галочкой сидит на
скамейке рядом».
—
Ох, присяду с вами. Не возражаете? — Ворон тут как тут. — Что-то вы не очень
того...
—
Чего того?
—
Ну, эта...
—
Что эта?
—
Ну эта, неразговорчивая...
—
А что я вам должна сказать, дорогой товарищ?
—
Ну вот, сразу обижаете — «дорогой товарищ»... Я вас вежливо спросил: не возражаете...
ну, в смысле моего приседания...
—
Вы же уже присели, не дожидаясь моего согласия на ваше приседание.
—
У-у, какая вы...
—
Не ваше дело...
И
бегу. И самой стыдно за свою грубость. Ну присел, да, присел... Нервы не
выдержали...
Я
опять бегу по улице Горького, прокладывая себе дорогу между людьми, спешащими
навстречу. В такие минуты всегда преследовала мысль: а ведь они когда-то все
видели тот нашумевший фильм. Многие из них, вот сейчас спешащих навстречу,
писали мне письма... А теперь у них другие увлечения, дела, события и радости.
И для меня в их жизни уже нет места. Ах, как в такие минуты больно ощущаешь,
что все проходит. Надо жить только будущим. Потому я не люблю «вчера». И,
наверное, потому мне так тяжело продолжать это повествование тех бескалендарных
лет.
Уже
пять часов пополудни. Впереди еще семь часов жизни. В витрине овощного магазина
увидела апельсины. И вмиг появилась цель! Как будто целый день только о них я и
мечтала. Взяла сразу три килограмма — на всю жизнь! Это с войны. Кажется, что
завтра уже апельсинов не будет. Иду и ем, на ходу сбрасывая очистки в урны.
Апельсины переносят меня в жаркие страны, в которых никогда не была. Но их
отлично заменяют видения Нового Афона. Там росли мандарины. И там снимали
«итальянскую натуру» к фильму «Роман и Франческа». Такой невинный оранжевый
фрукт вдруг опять принес тоску по кино.
Висят
афиши нового фильма. Его обязательно посмотрю. Есть талантливые люди, которые,
как точный прибор, своим творчеством определяют, мне кажется, пульс времени. К
ним стремишься. К ним зависть самая белая. К ним завистливая боль от восторга.
Они, сами того не зная, меня поддерживали. Они не давали мне отстать от жизни.
С ними я проигрывала экранные роли. Спорила в одиночку. Задавала себе от их
лица вопросы. И сама, ставя себе преграды, получала пространный ответ. Сама
себе ставила оценки за ответы. Незаметно порой выстраивались свои теории,
которые и в слова-то не облечешь. Как важен пример, как важен. У меня постоянно
присутствовала потребность преклоняться перед талантом. Особенно остро я
ощущала эту потребность, когда намечался избыток внутренних сил. Тогда, ломая
себя, я отдавала эту силу талантливым людям, порой тем, с которыми так и не
пришлось близко познакомиться, чтобы сказать: «Знаете, что вы в моей жизни?»...
—
Никто не звонил?
—
Нет, я недавно пришла, мамочка, наверное, звонили, — и в Машином тоне я слышу
извинительные нотки. Ребенок, а все понимает. Читать нет настроения. А читать
для того, чтобы быть на волне... Я уже не стыдилась сказать: «Нет, не читала,
не видела, не знаю». Как вспомнишь: «Ах, это шедевр!», «Только не начинайте с
отпетых вещей!», «Ну, это совсем тривиально!», «Вы не читали? Ну это же конец
света!» — аж мороз по коже! С этим этапом дешевой полусветской показухи
покончено. Вранья меньше. Но жить по правде еще трудней. Спрашивается: как
жить?
Звонок.
Обе бежим к телефону. Берет трубку Маша: я ведь не стремлюсь к разговорам, я
ведь смертельно устала от предложений, от ролей, от концертов. Это играется в
доме как отработанный аттракцион.
—
Алло, кого? А куда вы звоните? Нет, это не тот номер...
Обе
расходимся. Она к телевизору, я в свою комнату. Долго стою у окна. Дом напротив
растет не по дням, а по часам. Скоро его увидишь, лежа в постели. Проснешься
утром, а домик тебе: «Шлю вам привет, люблю балет». Ах, балет, балет... В те
годы я не пропускала ни одного нового балета. «Кармен-сюиту» смотрела
пятнадцать раз. Пластинку Бизе-Щедрина приобрела, как только она появилась. Эти
праздничные балетные вечера как искры вспыхивают в памяти, как детские
праздники в Новый год. Именно детские, когда все впереди, нет никакой грусти и
никаких невзгод. Когда на сцене талант, он отдает тебе частицу себя и заполняет
именно те места, которые болят и ждут помощи. И потому идешь наполненная,
счастливая и свободная — как ребенок!
Вечером
у меня музыка. Музыки у меня много. Музыка разная. Сейчас у меня долгое и
счастливое увлечение джазовыми пианистами. С изумлением слушаю Билла Эванса. Он
мне наиболее близок. Ах, как жадно слушала я музыку Цфасмана и оркестр
Варламова на пластинках сразу после войны. Ну откуда у меня, русского человека,
выросшего рядом с папой-баянистом, частушками, маршами и русскими народными
песнями, такая любовь к джазу? Почему я так замирала в музыкальной школе, когда
слушала Рахманинова и Мусоргского? Я сходила с ума от арии — «Как во городе
было во Казани». Какая интонация, вроде традиционно русская — и нет, не
традиционная. Где появляются в мире новые течения, новые гармонии и ритмы?
Почему я так тянусь к ним? Теперь я думаю, что это Время. Оно заставляло
прислушаться к новому. И если у тебя душа начинает вибрировать от счастья, ты
не сможешь не открыться этому новому. И не важно, в какой стране живет талант.
Он несет радость людям за тридевять земель. Джазовых пианистов Билла Эванса и
Эррола Гарнера уже нет в живых. А их музыка звучит и радует. Вот Билл Эванс
играет импровизацию на тему Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Когда я еще
училась в институте, в Москве были гастроли театра из Америки. И я слушала эту
оперу. А на занятиях по зарубежному кино мы смотрели музыкальный фильм «Голубая
рапсодия в стиле блюз» с музыкой Гершвина. А потом, в Сочи, я бежала на концерт
пианиста и композитора Александра Цфасмана, где он играл ту же «Голубую
рапсодию» в переполненном летнем сочинском зале. Значит, не я одна — вон
сколько восторженных лиц. Как все переплелось — Гершвин, Цфасман, Америка,
Россия и музыка, музыка, музыка. Как необыкновенно выходит Эванс из основной темы
в импровизацию. Интересно следить за его длинной музыкальной фразой, которую я
чувствую и понимаю без перевода. Эти джазовые импровизации учили меня смелости,
учили не бояться, пробовать, рисковать, уходить от буквального, расширять
диапазон роли, из ролишки строить роль, из материальчика выстраивать материал.
Уже
восемь часов. Прожить еще четыре часа, а там «утро вечера мудренее». Музыка
кончилась. Перебирала свои забавные наряды, а в голове зрел очередной наряд к
Новому году. Но поскольку до последней минуты не знаешь, где ты его будешь
встречать (а вдруг такой туалет там будет некстати), фантазия затихает. Я
смотрю в зеркало: да нет, еще терпимо. Не «Карнавальная ночь», конечно, но ее и
не надо. Сейчас я даже получше. Вот так бы продержаться еще лет, лет... Ну ведь
буду же я когда-нибудь, ну... через несколько лет сниматься, в конце концов?!
«Ведь другие снимаются, а ты что, хуже всех?» Где я слышала эти слова? Кто мне
задавал этот вопрос? Ну как же, это было летом. Это было летом 1968 года. Я шла
по аллее сочинского парка. Внизу бушевало море. Бушевали страсти, знакомства,
влюбленности. Знойный юг был в знойном разгаре. Быть на людях, когда на душе
мрак, тяжело. Я так устала прикидываться, наигрывать... Жизнь все никак не
выбрасывала меня на поверхность из мнимого убежища. Я в ту пору еще крутилась
по «замкнутому кругу». «Объект» в веселой компании на пляже играл в карты — в
ажиотаже успеха задал мне именно тот вопрос. И я даже подыграла и развлекла еще
раз компанию. А потом незаметно исчезла.
—
Да, никак, ты...
Я
не успела перестроить выражение лица. Оно так и осталось растерянным.
—
А я тебя узнала. Смотрю, идет красивая баба, вся в белом, в моднющих брюках. И
вдруг ты! А что с тобой?
Я
совершенно не знаю этой женщины. Возможно, где-то видела ее, возможно, мы и
общались, но не так тесно, чтобы позволить застать себя вот так врасплох.
—
Да ты, никак, не узнаешь меня? — Говор вроде не харьковский.
—
Ну, а как Маша? Ей уже должно быть лет восимь-девить? Или десить? Смотри, а
талия все та же, — и сразу вспыхнуло...
Мы
с ней когда-то снимали в одной квартире по комнате. Моя была смежной с кухней.
И она на кухню попадала «через меня». Это же она меня и пугала, что талия после
рождения ребенка пропадет. И она заговорила очень быстро, отрывисто, очень
громко, очень взволнованно и очень-очень темпераментно:
—
Ты что, ты что такая? Я тебя не п’нимаю. Ты крысивая, молодая, пыпулярная,
модная, да мне бы такое, я бы весь свет перевернула. А она? Нет, я тебя не
п’нимаю. Нет, ты посмотри, море — прилисть, солнце — прилисть, люди — прилисть,
Сочи — прилисть, а ты знаэшь, ты знаэшь, ты знаэшь, када мне плохо, знаэшь, что
я делыю? Я... Я оденусь, накрашусь, п’смотрюсь в зеркало... Умоюсь и, и... и...
ложусь спать! П’няла?
Может,
так и сделать? А может, позвонить ей и узнать еще какой-нибудь рецепт для
«успокоения»?
Ни
одного звонка. Ну отзовитесь же кто-нибудь! Ну вспомните про меня! Мне еще до
конца дня несколько часов! Ну позвоните, ну постучите, ну не забывайте, ну
пожалуйста!
«Что
бы вы хотели себе пожелать?» Он улыбнулся: «Чтобы звонить по телефону не
переставали. Хуже нет, когда ты никому не нужен». Ну что ж, есть все основания
надеяться, что такого с популярным актером не случится» — из интервью с актером
театра имени Моссовета[1].
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ
Последние
десять лет я живу словно в горячке. Несусь, несусь, наверстываю, наверстываю...
И вот, когда пришел такой счастливый 1982 год — интереснейшие работы, впереди
музыкальная роль... Осуществилось! — я почувствовала такую слабость, какую
чувствует человек после очень трудного, непосильного пути.
Ночь
ехала в «Красной стреле». Спала плохо. Привезли прямо на студию. Костюм, грим,
чай в гримерной. Вокруг добрые и любимые. Это «Ленфильм». Эпизодическая роль в
«Магистрали». Снимаем в просторных коридорах райкома партии Смольненского
района. Сняли быстро. Так всегда у режиссера Трегубовича. Ночью опять на
«Стреле» в Москву. До поезда устроили в «Астории». Провалилась в мертвый сон.
Проснулась от необычной тишины — где я? Темные обои, бархат, бронза... А!
Милая, дорогая моя «Астория». А я думала, ты навсегда изменила — все
иностранцы, иностранцы... Да разве кто-то по-настоящему может оценить твою
красоту, твой покой? А? То-то. Как ты затаила дыхание. Почувствовала «свое»...
«Астория», Ленинград, начало моей жизни в кино. Как это было давно... Меня
охватило, сжало в объятиях такое пронзительное чувство счастья... Да вот же о
каких слезах просил меня режиссер в «Сибириаде». Нет, тогда не «схватила». Он
тогда еще сказал: «Ладно, пусть будет так». А я спросила: «А как?» Да вот так,
как сейчас. Но уже все — кадр снят, поезд ту-ту... Пошли, судьба, еще раз такую
возможность!..
Лежу
и с ужасом смотрю на телефон. Хоть бы не зазвонил. Я задыхаюсь от перегрузки.
Нет сил на разговоры, встречи, улыбки. Я боюсь телефона. Боюсь, когда он
молчит. Боюсь, когда бесконечно звонит. Если человек живет один, и у него есть
телефон — он не должен считать себя одиноким. Если в доме есть эта
пластмассовая штука, она с утра врывается в жизнь, смешивает все в обдуманном
дне и преподносит, преподносит. А потом, довольная, молчит. Когда гоняются за
«модерновым» телефоном, я внутри себя отмечаю: что-то там у этого человека еще
не созрело. Аппарат телефонной связи, как часы и машина в наше время —
необходимость. По мне — пусть они будут простые и добротные. И незаметные.
Тихо-тихо.
Ни звука. Вечереет. В окне напротив красивая площадь. В центре памятник царю.
Знаю точно, что не Николаю II и не Александру, который преследовал Пушкина.
Лежу. А ведь в Ленинграде грех так проводить время. Перед глазами поплыли залы
Эрмитажа. Сколько раз в Эрмитаже проделала я путь, что прошли в семнадцатом
первые бойцы революции. Среди них мог быть и мой папа. И я всегда старалась
смотреть на эти залы, коридоры, на эти лестницы его глазами. Однажды мы ходили
с папой по этому пути, аж до белой столовой. «Ну, братва наша, наверна, здесь
духу дала! И як тока ета усё у кучу пособрали? Якеи люди ети художники... Усё
честь по чести стоить на местах, блистать... Тока царя нима. Теперь мы з
дочуркую ходим... Якое ж тута богатство... Ета ж мамыньки родные...»
А
в Александровском каждый раз пристроюсь к какой-нибудь группе, чтобы еще раз
услышать: «В этом зале бывал Александр Сергеевич Пушкин». После этих слов
любая, самая усталая и задерганная, экскурсоводша становилась молодой и
прекрасной, потому что — ни одна! — не говорила эти слова скороговоркой.
Обязательно обводила всех взглядом и через паузу произносила: «Пушкин». И
обязательно в атмосфере после фамилии поэта проносился странный, святой
вздох...
...По
телевизору — ленинградские новости. По экрану пронесся непривычно маленький
трамвайчик с одним вагончиком. Наверное, снимают что-нибудь из жизни начала
века. Но почему-то из окон трамвайчика выглядывают люди в современных вязаных
шапочках и дубленках. Прислушалась. Оказалось, что этот отреставрированный
трамвайчик будет ходить по историческим местам Ленинграда. И ведет его красивая
русская женщина, грудь в орденах. Сорок лет она на этом месте. И только один
год была в простое. В год блокады Ленинграда. Вот вагончик делает остановку на
красивом мосту. Позади заснеженная Нева. На остановке толпа людей аплодирует
трамвайчику и его водительнице. И вдруг из середины толпы выделились три
старушки. Они запрыгали как дети, протягивая свои сухонькие ручки к вагончику.
Они помнят его с юности. Сколько силы жизни и радости в этих старых женщинах! Я
вскочила как от толчка. Лежать, щадить себя, уходить в себя? Бежать, бежать по
Ленинграду! Смотреть, смотреть, восхищаться и плакать.
...Я
лежу и тупо смотрю телевизор. За окном щебечут птицы. Жара. Любимое лето. В Москве
со мной стали жить мои любимые папа и мама. В первые дни мы, счастливые,
сидели, тесно прижавшись друг к другу. У меня рядом появилось надежное, теплое,
родное. Мама вошла в хозяйство и Машину учебу. А папа сидел со мной с утра до
вечера, чтобы я не скучала. Бдительно следил, чтобы дома я была ровно в
одиннадцать вечера. Но годы, проведенные врозь и в разных жизненных
обстоятельствах, все же разобщили нас. И как это ни больно, но порой я и папа
не знали, о чем говорить! В Харькове многих новых сотрудников из Дворца
пионеров я уже не знала. А он никого не знал в Москве. И поначалу в новой жизни
вообще ничего не понимал. Первое, что он решил, «...немедленно иттить до самага
главнага начальника по всей кинематографии и изложить, якой капитал он добровольно
выпускать з рук».
—
Ты ему, Марк, котик, не забудь про «концертик у диревни» и как ты на «маленьких
гармоньках выступал перед самим Рокоссовським...» Или все-таки перед Жуковым,
а, Марк?
—
Выступал перед тем, кому надо було. А начальству усё чисто про дочурку изложу.
А хто ж, Леличка, нашага кровнага ребёнка выручить, када не мы з тобою?
Еле-еле
отговорили его от этого похода. Но очень скоро он сориентировался и понял, что
прошлое нужно оставить в прошлом. А вот реальность: Москва, дочь без постоянной
работы, внучка без алиментов, маме пять лет до пенсии. «И што выходить на дели?
Немедленно нада иттить работать, кров из носу». И пошел, и не постеснялся
отбросить былую славу доброго баяниста и стать простым сторожем. А мама еще
долго отрывалась от Харькова, мучилась и пережевывала прошлое. Интересно, что
главным тормозом в их переезде была мама. Казалось, папа старше, ему труднее
все оставить и улететь из обжитого гнезда. Так нет, он прямо рвался в Москву.
Ни за что не хотел умирать в Харькове. При жизни уже планировал себе памятник
«штоб такого ни в каго ще не було, во як!» Втайне от мамы он ходил в мастерские
по мрамору, говорил с художниками, предлагал им свои проекты. Но как только
заикнулся маме насчет цены... Моей маме представить, что человек в полном здравии,
уважаемый на работе, абсолютно серьезно при жизни готовит себе памятник... К
чему только она за долгую жизнь с папой не привыкла, но к подобному... Об этом
мама рассказала нам совсем недавно. Она аж задыхалась от смеха и удивления,
вспоминая про памятник:
—
Так что ты думаешь, огромную глыбу белого мрамора он все-таки на грузовике
привез. Говорит, мастера подвыпили и уступили по дешевке. Ну, как такое в
голову пришло? Что за человек... А полтонны клена на баяны? Это же на тысячу
баянов... А десять чемоданов инструментов... Говорит: «Не возьмем усё ета у
Москву, я у столицу ни ногой». Ужас с этим папой. Странный, ему обязательно
нужно было попасть в историю, хоть памятником...
А
еще через некоторое время мои родители, как и Маша, почувствовали, что лучше
иногда оставить меня одну, все равно ничем не поможешь.
—
Сегодня, дочурка, не сиди дома, сходи у гости. Друзей у тебе во скока. Не сиди,
не вырабатуй, иди у народ. Я и Лёли усегда гаварю — не вырабатуй, лучий якую
новую игру или шараду дитям разучи. Двигайсь, не сиди, як квочка. Главное, от
людей не отрывайсь. Ничего, моя птичка, твоё щастя упереди. Вже скоро, вже
вот-вот, усем сердцем чую. Харошага человека судьба пожмёть, пожмёть и
отпустить. Ну, а я пойду до своей старухи, «к Елене Александровне», ух, якой
характер вредный... каждый день усё хужий и хужий... Слышь, дочурка, никак не
можить успокоиться — усё за Харьковом плачить. А я так думаю, што ета
неспроста. Наверна, у ней там хто-та быв... А? Ета што ж выходить? Я вже
аккынчательно успокоивсь, а она усё: «Как же так, мы оставили квартиру, работу,
друзей, сарай, палисадник» — во як — и сарай з палисадником помнить. А скока
крови у меня выпила за етый сарай, мамыньки родные! А за етый палисадник, а за
виноград... А якой виноград! Она мне усё розы простить не можить. Што я три
куста роз заменив на виноград. А я своего добився! Своё вино було, да якое! Як
уезжали у Москву до тибя, пособрав увесь двор! Усе понапилися, Сонька з Розкую
плакали, усе целовали Марка Гавриловича. И усе осталися пьяные и довольные. Ты
ж своего папусика знаешь, он никого не обидить... Ну ладно, загаваривсь, а в
тебя свои дела. Пошов, закрывай дверь на усе замки. Если куда пойдёшь... а
лучий побудь дома. Сегодня по телевизову будить етый, як его, Лёля знаить...
Ну, поёть у кино. В него имя як моё, етый...
—
Бернес?
—
Во-во, як же ж мы его на фронти любили.
—
Наверное, «Два бойца»?
—
Дочурка, а ты з им устречалась, гаварила з им? Як он?
—
Что?
—
Ну, як человек?
Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова...
«Як
человек?» ...Человек, папочка, он был замечательно-непростой. Со всеми плюсами
и запятыми, как и у всех живых людей. Но ведь он был артистом, художником. И
потому обычные человеческие проявления у него были острее, ярче и крупнее.
...Как
только осенью 1958 года я поселилась на девятом этаже углового дома на Садовом
кольце, снимая очередную комнату у очередной хозяйки, через неделю в подъезде
появилась жирная надпись мелом: Бернес + Гурченко = любовь! Я обомлела. Откуда?
Я его еще сроду в глаза не видела, а уже «любовь». Связывали меня и с Игорем
Ильинским, с Юрием Беловым, с Эльдаром Рязановым, с Эдди Рознером, — тут
понятно. Все-таки вместе работали. Но я и Марк Бернес! Ну что ты скажешь!
Оказалось, что Бернес жил в этом же доме на пятом этаже. С тех пор, поднимаясь
на свой девятый этаж, я со страхом и тайной надеждой ждала остановки на пятом
этаже. А вдруг откроется дверь и мужской знакомый голос спросит: «Вам какой
этаж?»
Заканчивался
фильм «Девушка с гитарой». Я возвращалась после какой-то муторной съемки, вошла
в лифт и сказала: «Девятый, пожалуйста». Лифт задрожал и с грохотом пошел
наверх. Человек в лифте стоял намеренно отвернувшись, как будто опасался
ненужного знакомства. Я смотрела в глухую стену, исписанную разными короткими
словами. А он смотрел в дверь лифта, да так хитро, что даже если захочешь, то и
профиля не разглядишь. Лифт остановился, но человек еще постоял, потом
развернулся ко мне всем корпусом, приблизил свое лицо и сказал неприятным
голосом: «Я бы... плюса... не поставил». Лифт захлопнулся, и в нем остался
легкий запах лаванды. Это был сам Бернес! Ну и встреча. У-у, какой вредный
дядька. А как он меня узнал? Ведь стоял спиной. И о каком плюсе речь? И отчего
бы он его не поставил? И где этот плюс должен стоять? Плюс, плюс, плюс... Нет,
чтобы в ответ сказать что-нибудь из интеллигентных выражений в духе моей мамы:
«Позвольце, в чем дзело, товарищ?» Или: «Позвольце, я вас не совсем пэнимаю». А
еще лучше бы сделать вид, что вообще не узнала популярного артиста. А я сразу
вспыхнула... И вдруг дошло: ведь Саша + Маша = любовь? Вот тебе и плюс! Ишь как
он меня уничтожил. Он бы, видите ли, плюса не поставил. Ах ты ж боже ж ты мой!
Ну, подождите, товарищ артист, уж в следующий раз я вам не спущу!
А
«следующий раз» был во время международного фестиваля в июле 1959 года. Тогда к
нам со всех стран приехало кинозвезд видимо-невидимо. Москва бурлила и
веселилась. Самым популярным тогда было французское кино, из Франции на
фестиваль прибыло сразу несколько звезд первой величины. И вот такую интересную
делегацию должны были принять на киностудии «Мосфильм» наши советские артисты и
весь коллектив прославленной студии. Для гостей сочинили приветственную песню:
С вами давно мы по фильмам знакомы,
И вы, наверное, нас узнали, узнали?
Встрече мы рады, так будьте как дома
На московском фестивале!
Киноэкраны как окна в мир горят!
Народы, страны с экраном говорят,
Знакомятся друг с другом и лучше узнают,
Радушно в гости людей к себе зовут.
Эту
песню мы должны были петь с Марком Бернесом. Репетицию назначили в его доме. Я
уже снимала другую комнату. Машеньке было только два месяца. Ребенок занял меня
целиком. И я давно забыла про все плюсы. Времени было в обрез... И вот тот
самый дом на Садовом кольце. Поднимаюсь на пятый этаж в квартиру к
прославленному артисту. В парадном и лифте уже новые, более свежие надписи. И
почему-то повеяло грустью. Жаль, что та, первая встреча была какой-то нелепой.
Прежде чем позвонить в дверь, я собралась и приказала себе: не сморозь
глупости, не хихикай, только «да» и «нет», помни — если образовывается пауза,
не встревай с болтовней из боязни, что человеку станет скучно. Не поддакивай и
не кивай. Ну, давай, звони, «з богум, дочурка!». Просторная двухкомнатная
квартира, обставленная со вкусом. От хозяина — легкий запах лаванды... Вот
жизнь! Неужели и у меня так когда-то будет? Композитора, автора песни, еще не
было. Тихо звучала самая модная в то время мелодия — «Anastasia» — в исполнении
Пэта Буна. Ах, если бы не музыка, я бы следовала своим наставлениям. Но
полились звуки, я разомлела, растаяла. Как давно я не ощущала такого
блаженства. Мои неприятности, болезни, ожидание ребенка, пеленки, бессонница,
заботы, безденежье... Я стала подпевать. Потом прошлась в танце, вздымая кверху
руки, не обращая внимания на хозяина... Я полетела! Простите меня, я
забылась... а ведь меня ждет дома маленькая девочка. Нет, я не мать. Я танцевала
под чарующую мелодию, и казалось, все мое запутанное существование
расправлялось, оживало и уверенно твердило: еще вся жизнь впереди!
Композитор,
появившись, растянул в усмешке губы, красноречиво улыбнулся хозяину: принял
меня за поклонницу. Но, наткнувшись на его взгляд, посерьезнел и тут же
расплылся в самой искренней улыбке. Он заиграл мелодию, я «отрезвела» и
мгновенно включилась в любимую работу. Через десять минут я уже бежала домой.
Бернес уважительно проводил меня и попрощался тепло и дружелюбно. Я отметила,
что никакой усмешки на мой счет на этот раз не было.
А
когда на студии «Мосфильм» мы встречали и провожали гостей фестиваля, я ощущала
на себе его взгляд, беспощадный, простреливающий насквозь.
—
Знаешь, а ведь ты дура! С твоими данными ты можешь много. Ты хорошо слышишь —
это редко. Много суеты, суеты много. Много дешевки. Харьковские штучки брось.
Сразу тяжело, по себе знаю. Существуй шире, слушай мир. В мире живи. Понимаешь
— в мире! Простись с шелухой. Дороже, дороже все, не мельчи. Скорее выбирайся
на дорогу. Зеленая ты еще и дурная... Ну, рад с тобой познакомиться.
—
Ой, большое вам спасибо! Я учту это.
—
Учти.
В
его короткой крепкой шее, в его голосе, в спокойном взгляде без суеты я
чувствовала и слышала нечто гораздо более важное — он говорил со мной на
равных. Мы стали друзьями.
Никто
почему-то до конца не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. За этим всегда
кроется какая-то двусмысленность. Наша дружба была самая мужская и верная. Она
длилась долго. До самой его смерти — господи, как же он ее боялся. «Я люблю
тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно», — пел он и искренне верил, что будет
жить, жить, жить... Любил жизнь, а со страхом прислушивался к каждому
тревожному пульсу сердца. Если у него в первом отделении перед выходом на сцену
пульс был ненормальным, он выходил во втором. В конце жизни выходил на сцену с
трудом, постоянно прислушиваясь к себе. Жаловался на сердце, а умер от
неизлечимой болезни легких. Загадочной болезни, которая безжалостно косит людей
в наш век.
Такое
заглядывание внутрь себя, постоянный страх перед смертью мне знакомы с детства.
В этом Бернес сильно напоминал мне моего папу. Недаром их обоих звали
прекрасным мужским именем — Марк. Папа по три раза в день мог измерять пульс
после малейшего дуновения ветерка. А когда я на свою голову сообщила ему, что
по-гречески «Марк» означает «увядающий» — боже мой! В какое он пришел
возбуждение! Он в этом увидел рок, «руку судьбы»:
—
Во откуда в меня усе болезни. Во як они усе на меня навалилися ув одну кучу,
прямо руками разгребай... Знаешь, Лель, я так думаю, наш поп у нашей диревни
здорово разозливсь на матку з батькую и назвав меня Марком им ув отместку за
што-то, а ты як думаешь? Ну ета ж прямо хоть караул кричи... усе болезни да на
одного благароднага человека...
...Иногда
судьба сводила нас с Бернесом в одном концерте. Я обязательно стояла на
протяжении всего его выступления за кулисами и ждала «Темную ночь». Марк Бернес
— это драгоценная часть моей жизни, моего военного детства. А-ах! А как
аплодировал ему зал, когда он начинал петь:
Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой.
Хотел я выпить за здоровье,
А пить пришлось за упокой...
Кто
еще так чувствовал свой репертуар? Кто еще так мог найти свою песню? Он носился
с темой песни, мучился ею, мучил композитора, поэта, себя... И песня
обязательно становилась популярной. Это был могучий певец с тихим голосом.
Певец с умом, вкусом и чутьем, своей личной, властной атмосферой, которую
публика горячо принимала. Было у него еще одно, довольно редкое на сегодняшний
день качество — мужское обаяние. Под его обаяние подпадали не только женщины,
но и мужчины. Ни у одного из певцов на концерте не было столько мужчин с
цветами!
Когда
он шел навстречу, все невольно расступались. Какое-то величие было в этом
человеке. Он никогда не торопился, говорил весомо, иногда резко, с иронией. В
руках ничего не носил и не заглядывал в записные книжки. Он все держал в своей
умной голове. Теперь молодой артист шустренько торопится куда-то, а в руке
обязательно портфель или «дипломат». Вот интересно, что артисту прятать в
большом портфеле? Оглянешься вокруг, невольно вспомнишь Марка Бернеса. И с
грустью споешь из Александра Вертинского:
Измельчал современный мужчина,
Стал таким заурядным и пресным...
Марк
Бернес пользовался особым успехом у женщин. У него был вкус изысканный. После
смерти его жены никакая женщина не могла удержаться с ним рядом. Он был
капризным. Ему трудно было угодить. «Знаешь, не могу. Все вижу. Все — как ест,
как говорит, как слушает, понимаешь —слу-ша-ет! Кажется, все проверил, но что-то
точит. Смотришь, ага, а тут-то и не разглядел — чуть не влип. Не-ет, в это
дело, я тебе скажу, надо нырять в двадцать лет, когда в голове пусто. А теперь
начинаешь думать: а вдруг у нее в роду кто-то в десятом поколении болел
энцефалитом? А что там у нее за непорядок с правым коренным? И... делаешь
соскок». Очень трудно записать речь Бернеса. Я знала трех артистов, речь которых
такая личная, такая индивидуальная, такая... роскошная, что никакая бумага ее
не выдержит: Фаина Раневская, Сергей Филиппов, Марк Бернес.
В
1960 году в Киеве были объявлены гастроли Марка Бернеса. А я снималась в
«Гулящей». Вдруг сталкиваемся с ним в гостинице «Украина». Он изменился,
помолодел, веселый какой-то. Ну словно подменили человека.
—
Приходи сегодня вечером ко мне. Нашел! Запиши телефон. Есть на что посмотреть.
Какая кость! Какая кость! Только помолчи, присмотрись. Сразу ха́вало не
раскрывай.
У
меня был выходной, и я обедала в ресторане. Смотрю, входит Марк Наумович с
женщиной.
—
А-а, вот где мы сядем! Знакомьтесь, я про тебя Лиле уже рассказывал.
Так
и подмывает спросить: а что он про меня рассказывал? Но сижу, только слушаю и
смотрю. Как договорились, «ха́вало» не раскрываю. Наконец-то рядом с Бернесом
сидела достойная дама. Женщина высокая, тонкая, с пепельными волосами, красивым
вздернутым носиком и голубыми глазами. Сидела прямо. Глядела просто и весело.
Одета в серый костюм в мелкую черную клеточку и мягкую черную кофту. Все в ней
говорило: «Да, я та, что нужна ему. Я его кость». С тех пор я всегда встречала
его рядом с ней. Они были счастливы. «Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что
это такое».
Об
этом и еще многом другом недавно я рассказала на вечере памяти Марка Бернеса.
Жаль, очень многое, что пролетело у меня перед глазами, невозможно было ни
рассказать со сцены, ни тем более описать. Ведь это Бернес. На сцене Дома кино
стоял портрет артиста. А на экране шла хроникальная лента его жизни. Вот он
молодой и худенький в «Истребителях»: «В далекий край товарищ улетает...» Вот
он в войну, рядом с Борисом Андреевым в «Двух бойцах»: «Смерть не страшна, с
ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится...» А
вот и послевоенные кадры выступлений: «Как это все случилось, в какие вечера,
три года ты мне снилась, а встретилась вчера...» Вот и последние кадры при
жизни... «А превратились в белых журавлей...» Но вот он уже совсем замер. Навсегда.
«Я люблю тебя, жизнь».
«Ах,
Марк, как ты любил жизнь! — прошептала рядом со мной красивая женщина с
голубыми глазами. — Спасибо, что ты пришла. Марк тебя так нежно любил».
В
последний раз выступали мы с Марком Наумовичем Бернесом зимой 1969 года в зале
«Октябрьский» в Ленинграде. Артист был в великолепной форме, но исправно мерил
давление. И оно было нормальным. Публика жаждала видеть его на сцене, а артисты
рукоплескали ему за кулисами. В тот вечер я все время была с ним рядом.
Музыкант из его ансамбля обиженно размахивал руками и все повторял: башли,
башли... («башли» — означает «деньги» на музыкантском жаргоне.)
—
С башлями я сам разберусь, — властно сказал Бернес. — Сейчас надо идти на
сцену.
—
Да нет, хватит, Марк Наумович, эта сандуновская система не пройдет, пусть
динамо не крутят, я уже не мальчик, хватит. В этой жизни, Марк Наумович,
главное — башли. Все начинается с башлей!
Бернес
посмотрел на него в упор, а потом резко отвернулся и пошел прочь.
Сцена
была устроена так, что в середине ее ехала дорожка, как в метро. Эта дорожка
вывозила на сцену весь ансамбль, рояль и певца. Песня начиналась с соло на
трубе. Оно звучало еще за кулисами, и дорожка пока не двигалась. Мы стояли
вокруг Бернеса, вместе с залом слушая первые слова песни: «С чего начинается
Родина...» О-о! Что началось! Аплодисменты, овация! Дорожка легко качнула
артистов и плавно поехала в яркие лучи света. Но это был бы не Марк Бернес,
если бы просто так, без шутки, без укола, без остроты, он уехал от артистов.
Ведь они от него ждут чего-то такого неординарного, что может только он. Перед
самой сценой артист смерил «того» музыканта с головы до ног, отвел от лица
микрофон и, саркастически улыбаясь, спросил: «С чего все начинается в жизни?
Мальчик, слушай внимательно: «С картинки в твоем букваре...» — и полетел к
людям.
Вот
такой он, папочка, был «як человек». А ведь это ты тогда назвал его имя!
Август
1969 года. Это конец всяким возможным силам воли, терпениям и надеждам. Вот уже
почти месяц я не выходила на улицу. И только из угла в угол по комнате — туда и
обратно. Как только выхожу из своей комнаты, родители бросаются в кухню. И я
понимаю, что это мое хождение ими прослушивается. От этого становится совсем
тошно. Я перестаю ходить. Начинаю смотреть в окно, на своих мефистофелей в
трещинах стен и потолков, пальцем водить по строчкам книги, слепыми глазами
впиваться в умные утешительные слова великих людей. И никогда ни к кому не
обращалась за помощью, только к родителям. Но сейчас, в первый раз в жизни, от
их немых, беспомощных, сочувственных взглядов хочется бежать на край света. И
папа такой растерянный и слабый. Это был кризис. Это был конец. Что-то должно
было случиться...
Начинался
очередной нескончаемый день. Руки сами придвинули запылившийся телефон. Пальцы
вяло закрутили диск. А чужой, потерянный голос произнес: «Марк Наумович, это
Люся. Я умираю».
—
Приезжай немедленно.
Тот
же дом. То же парадное. Тот же лифт. Но я ни во что не вчитываюсь. Полное
безразличие, перед глазами — одно мутное пятно. Бернес держал мои холодные
безвольные руки в своих больших теплых ладонях и внимательно слушал мои вялые
бессвязные слова. Он меня не перебивал, не кивал, не сочувствовал, а все
смотрел и смотрел, как будто вынимал изнутри мою боль. Я была перед ним жалкой
и беспомощной. Сужаемый временем круг доверия сомкнулся на нем одном. «О каких
единицах может идти речь, — говорил он кому-то по телефону. — Гибнет
талантливый человек. Что? Хорошо, я этим сам займусь. Да, здесь, рядом, ничего,
не имеет значения. Милый, ее уже ничем не испугаешь. Есть, до встречи».
Неужели
же я не буду больше отращивать хвосты неделям и часам, августам, декабрям и
апрелям?!
—
Ты не видела мою новую пластинку? — Он подошел к тому месту, откуда когда-то
раздавались звуки нежной мелодии, поставил диск своей новой пластинки. И тихий,
мощный голос запел: «Я люблю тебя, жизнь...»
НЕ БЫЛО ТАКОГО
ИМЕНИ
Начало
семидесятых... думаю, что это — интереснейшая пора в жизни актера. Это пора,
когда время заставило расширить амплитуду актерских возможностей. Уже
недостаточно было больших драматических способностей, правдивого проживания
роли вполголоса, красивой монументальной внешности и обворожительной улыбки. К
этому теперь необходимо было прибавить активную внутреннюю подвижность, острую
характерность, музыкальность, пластичность, чтобы в результате такого смешения
актер одинаково легко мог работать в комедии, драме, водевиле, мюзикле,
бурлеске. Верно, что новое — это хорошо забытое старое. Был и Таиров, и
Мейерхольд, и Протазанов, и Александров. Но времена менялись. Острое
сглаживалось, уступая, усредняясь. Время семидесятых потребовало вспомнить,
возродить наше старое, подстроить его под камертон нового времени и сегодняшние
темпоритмы. И преобразившееся старое, преодолевая сопротивление скептиков,
вырвалось в мир. В театре, на телевидении, на киноэкранах стали появляться спектакли,
зрелища, фильмы — результат таких смелых и рискованных поисков. В моду вошли
артисты небольшого роста, «антигерои». Темпераментные, подвижные, с внутренней
эксцентрикой, с гитарами в руках, поющие и танцующие. Запели и затанцевали те,
кто раньше и не подозревал в себе таких наклонностей. И даже те, кто считал их
«застольными увеселительными» качествами актеришек второго сорта. На эстраде
остроумный конферансье родил популярную репризу: «Сейчас все поют». Ну что ж,
все запели и затанцевали. Так мне и карты в руки, пришло мое время. И то, что
всех во мне раздражало и так долго не находило применения, вдруг стало даже
интересным. Вот сколько надо было ждать, терпеть и отчитываться!
Вот
же как... Сначала ушла от бездействия из кино в театр. Потом разочаровалась,
видите ли, в прекрасном московском театре. Потом — здрасьте, примите,
пожалуйста, в отчий дом. Что это означало? Не справилась, потерпела поражение?
Кому объяснишь какую-то там свою правильную внутреннюю дорогу, когда она для
меня самой была ускользающей и неясной. Ну, а уж когда стало не до мнений и
пересудов, когда припекло, заикнулась было о возвращении в Театр киноактера,
поставили условие: примут обратно, но только если буду играть роль. И только на
студии «Мосфильм». И роль непременно главную. А на то время это было из области
мистики.
Думаю,
появившаяся единица для моего возвращения в Театр киноактера отчасти
объяснялась тем, что киноактеры наконец-то получили свою долгожданную сцену. И
театру понадобилась актриса музыкального жанра. Нашлась единица. А главное,
нашлось место!
С
первых же дней прихода в новый театр срочным вводом я влилась в мюзикл «Целуй
меня, Кэт!». Уходя в 1963 году из студии, я покидала коридоры, где репетировали
энтузиасты, не желающие согнуться под ударами безролья. Я покидала контору с
телефонами, вокруг которых сидели в ожидании от четырех до восьми часов после
полудня артисты кино — будут ли вызовы на завтра. Теперь я пришла в театр.
Сразу в глаза бросилась дистанция между режимом и дисциплиной театра, где
провела «изгнанником три года незаметных», и между устанавливающейся атмосферой
нового, хрупкого организма. Но как бы этот талантливый организм ни окреп, он
всегда будет ни на кого не похожим, единственным в своем роде. Для театрального
артиста жизнь в театре есть генеральная линия его жизни. Театр — его крепость.
Для артиста кино, то есть актера Центральной студии киноактера, такой
генеральной крепостью является кино. Выход на сцену — в свободное от съемок
время. Ты можешь играть на сцене театра, даже преуспевать, но если ты не занят
в «кинопроизводстве», как говорят в административной части — тебя по
необходимости могут перебрасывать из спектакля в концерты, из концертов в
спектакли. Потому в спектаклях, как правило, нет постоянного, стабильного,
сыгранного ансамбля. Срочные вводы, текучесть, несколько исполнителей на роль,
разный профессиональный уровень вводящихся актеров — это ЧП в ином театре —
здесь нормальные условия жизни труппы. Самое главное — быть занятым в
кинопроизводстве, чтобы не попасть в список простойников. Чтобы тебя не
перебазировали туда, где пусто. Жаль, что порой, тасуя колоду карт, забывали,
что в ней тузы и королевы, временно попавшие в простой. Это публика думает, что
мы главные тузы и недоступные королевы. Пусть так. Пусть зрители думают, что киножизнь
— это страна сладких грез.
Конечно,
театральная труппа в сорок — пятьдесят человек — это не труппа из трехсот
киноактеров, мигрирующих по всем студиям страны, по концертам, по временным
частым гастролям. Ведь этот театр живет на самоокупаемости, без государственной
дотации. Насколько же огромно стремление артиста выйти на долгожданную сцену,
если он прямо с гастролей или со съемки, не заезжая домой, невыспавшийся и
неотдохнувший, прибегал в театр прямо на грим, распрямлял свои плечи и —
«отдыхал» на сцене! С каким счастьем актеры рвались на этот освещенный пятачок,
чтобы открыть себя зрителям!
Спектакль
«Целуй меня, Кэт!» имел у зрителей успех долгий и прочный. В нем был наиболее
стабильно задействован постоянный состав исполнителей. Слаженный ансамбль,
оригинальная хореография, высокий темп, талантливые исполнители,
жизнерадостность и озорство ставили этот спектакль в ряд лучших тогда в Москве.
На этот праздник киноактеров жаждали попасть не только приезжие, заметившие на
афише имена киноактеров, но и многие москвичи-театралы. Этот спектакль наиболее
ярко выражал тогда всеобщую радость от появления в жизни артиста кино
возможности уйти от бездействия, простоев, всех этих вынужденных «отпусков»,
деморализующее действие которых словами не расскажешь. Сколько нераскрытых,
таящихся, спящих возможностей выявила сцена! О, сколько нужно любви к артисту,
понимания его сложного зависимого положения, вечного ожидания... Возродить его,
вести дальше, а не бросать на полпути, вдохнуть в него веру в себя! Актер — это
человек, но человек особый. Потому что он живет, существует, зарабатывает себе
на жизнь своими нервами, здоровьем, своей кровью. «Приходите к нам, выступите у
нас, отдохните». А ведь это не так. Для артиста это будет работа. И потому
обидно бывает, когда актеру указывают на материальную сторону его жизни, считая
это «меркантильным», несовместимым с духовностью. Но ведь это есть его
единственный способ зарабатывать на жизнь! Такую тонкую вроде бы вызывающую
неловкость деталь жизни артиста надо почувствовать, понять. Да нет, актера надо
— любить!
Ах,
как же мне хотелось наконец-то заявить о себе, дать своей изголодавшейся душе
закричать, запеть, затанцевать! Слышать дыхание зала! Слышать аплодисменты,
исполнять мелодичные арии своей роли в прекрасных аранжировках! — это ли не
радость после затяжного ожидания?
На
спектакль, взявшись за руки, меня провожали папа с Машенькой. На углу у театра
мы целовались, папа незаметно меня крестил: «Ну, птичка моя, с богум. Вже и
началось. Мало-помалу пойдеть, куда денисся. Ще увесь мир тебя будить знать. Я
ж тибе ще когда ты маленькая, у Харькиви, только родилася, так предсказував.
Ну, помахай мами своею ручкую, Машуня. Дочурка, ты там вжарь, як следуить быть.
А мы тебя опосля усею семьёю устретим». А если папа приходил на спектакль, то
хлопал так, что когда общие аплодисменты затихали, я четко различала его
единичные хлопки, призывающие присоединиться к нему. «Граждане, дорогие! Ето ж
мой кровный ребёнык. Она ж сидела у доми и горько плакала — нема було чего
делать. А щас вы усе радые и довольные. Она ж вам даёть самое главное у жизни —
здоровье и радысь! Народ, братва! Ще крепчий устретим мою дочурку, мою
богиньку, мою клюкувку ненаглядную!» Ах, за эти его красноречивые хлопки, за те
провожания не расплатишься в жизни ничем. Все это стоит перед глазами, звучит в
душе, налетает в самое неподходящее время, наворачивает на глаза слезы,
перехватывает горло и заставляет еще больше ценить, ни на минуту не забывать,
дорожить неповторимыми минутами любви и веры.
Каким
теплым и сердечным может показаться театр поначалу, и каким грустным
одиночеством он может обернуться. Это я уже знала по своему недолгому
театральному опыту. Какой бы ни был, но театр — есть театр, со всеми его
атрибутами: больным самолюбием, тщеславием, завистью, группировками, мнениями,
вкусами... Преодолевай как хочешь. Из всех чувств самые губительные — зависть и
ревность. Становишься неуправляемым. Талант вдруг тускнеет от зависти. Пусть
горе, слезы, потери — они даже придают оттенок благородства, терпения... Но злоба
завистливая! Она, проклятая, как тьма в глазах, обесцвечивает все вокруг. А
женщину она старит, уродует, иссушает. Чтобы дать ей, злобе, разрушить
посланный богом дар радоваться жизни? Да ни за что на свете! На это — все
оставшиеся силы! На успех можно надеяться, только преодолев это наваждение.
В
театре состоялась премьера спектакля Лопе де Вега «Дурочка». Репетировался он
долго. На главную роль было назначено несколько исполнительниц. Но выпускали
спектакль с одной актрисой. Актрисой с именем, мной всегда очень уважаемой. Я к
этому спектаклю не имела никакого отношения, пьесы не знала. Про Лопе де Вега
не знала ничего, кроме того, что он испанский драматург, автор «Овечьего
источника», Абрам Роом когда-то посоветовал мне присмотреть в этой пьесе для себя
роль. Но так и не присмотрела. Жила я своей новой жизнью, которая вертелась в
основном вокруг «Целуй меня, Кэт!», уроков по вокалу в театре и редких
концертных выступлений от Бюро кинопропаганды. В кино по-прежнему не светило
ничего. Вдруг меня вызывают в дирекцию, где начальство театра предлагает мне
срочно, за десять дней, войти в уже поставленный спектакль. Ого! Шутка ли, за
десять дней выучить пьесу в стихах с песнями и танцами. Роль наиглавнейшую —
саму Дурочку — на сцене весь вечер без продыху. Оказалось, исполнительнице
главной роли предстояло ехать за рубеж. Спектакль свежий, публика ждет, и
замена, как мне объяснили, должна быть равноценной. То есть у дублерши должна
быть более-менее звучная актерская фамилия. Это потом спектакль пойдет с неизменным
успехом с молодыми неизвестными исполнительницами: пьеса здорово «закручена» и
режиссерски решена интересно. А на тот период становления нового театра ввод
предложили мне. Все логично. Сама не напрашивалась. Отказываться от интересной
роли глупо. И режиссер-постановщик «Дурочки» Евгений Радомысленский вводит меня
в свой спектакль. И дело даже не в том, что актрисе надо выезжать за рубеж. В
следующий раз она может быть просто занята в кинопроизводстве. Делаю рывок, не
сплю, не ем — через десять дней играю генеральный прогон. Он проходит в знакомом
напряженном молчании. Те же, кто меня уговаривал ввестись в роль, те, кто меня
уверял, что это необходимо театру, сейчас сидят и рассеянно смотрят по
сторонам. Ну, а в этих обстоятельствах прыгать и изображать дурочку-девочку
довольно... позорновато. Но, памятуя свой провал в Сатире, довожу все до конца
четко, профессионально. Без вдохновения и взлета. Я не знала, что актриса уже
вернулась из-за границы и сидит во время прогона на балконе. «Ну что ж, работа
проделана... да... вот такие дела... ну, остальное потом». Вот и все. Так,
наверное, бывает у спортсмена, которого вдруг неожиданно на самой середине
сняли с дистанции, а он не слышит и продолжает бежать быстрее и быстрее — до
финиша. Так и я: взяла дыхание на долгую работу, а меня вдруг сняли с
дистанции. А я все еще по инерции бежала. Я носилась по кабинетам театра в
поисках объяснений. Но кабинеты были закрыты. Я бежала по лестницам театра за
директором, но он бежал от меня еще быстрее, и догнать его было невозможно. А
потом замерла. Когда боль ложится точно на наболевшее место, которое ты уже
вроде как подлечил, ты ощущаешь, что становится опять больно, да еще как!
Пришло
время, выпустили меня на сцену. Сыграла я эту безрадостную роль. И актриса
сидела уже не на балконе, а во втором ряду, в самой середине, чтобы мы хорошо
друг друга видели. Только мне было все равно. Я бежала уже по мысли роли. Я
«научивалась» жить. Да, театр есть театр. И это была интересная жизнь. Не было
того розового миража театральной гладкой многообещающей жизни. И я была среди
людей. Правильно, папочка, ты учил маму и меня не отрываться от людей, «иттить
у народ». А народ-то вон какой талантливый и разнообразный! Вдруг видишь
поразительное преображение человека от малейшего успеха. Вчера сер и мрачен.
Сегодня молод и прекрасен. Вчера с приступами отчаяния и тоски, с мучительными
пароксизмами разочарования и неверия в себя. А сегодня мир кажется простым и
ясным. Ты нужен! Неожиданная удача принесла праздник душе. Мир оборачивается
новой стороной. И... молниеносно рубцуются раны для того, чтобы перенести
следующий удар, неминуемый спад. Ведь ты артист... И опять начинаешь
рассуждать, читать себе наставления: «Простой» — это отпуск. Сделай этот период
школой, высшими курсами жизни, университетами — читай, смотри, изучай,
знакомься — все это счастливо аукнется в густом лесу профессии. И это «ау»
выведет тебя на дорогу, где засветит солнце, и впереди ты увидишь «белую хатку,
из трубы валит дым. Хозяева добры и приветливы. А главное, там тепло». Так в
войну маме виделась райская жизнь. Теперь почему-то часто это вспоминаю.
Работая
на сцене, я все равно мечтала о съемочной площадке с ее специфическим запахом
свежих досок и столярного клея. Все реальнее было ощущение, что театр и эстрада
для меня полноценный праздник тогда, когда есть работа в кино. На худсоветах
киностудии режиссерам стали предлагать мою кандидатуру. Теперь уже как артистку
Театра-студии киноактера. Но... Устарело, заскорузло мое имя. У режиссеров
кривился рот, как будто от моей фамилии исходило «кислозвездное» мерцание.
Потом один режиссер предложил мне сняться в окружении главной героини: «Текста
нет, но мы с вами по ходу что-то придумаем. Вы же человек опытный. Эх, на тебя
саму писать и писать. Не понимаю, о чем они все думают?» Но в окружение не пошла.
Потом еще один известный режиссер вызвал меня на переговоры. Я побежала с
тайной надеждой. Небольшой танцевальный эпизод. Но он так талантливо рассказал,
что я прямо загорелась от восторга. Стали репетировать. Оказалось, что это танец-дуэт.
Пришла вторая исполнительница, очень странная, «нетанцевальная» женщина и не
актриса. Просто яркий типаж. Оказалось, что я ее буду контрастно оттенять по
принципу «толстый и тонкий». Репетицию я довела, кусая губы, чтобы не
заплакать. Но в этой группе больше не появилась.
Потом
в театре у меня состоялся еще один ввод, последний. Это была роль Матильды де
ля Моль в постановке «Красное и черное» по Стендалю. Только три ввода я сыграла
в театре. Как только пришло время выхода на сцену в роли Матильды, меня тут же
перебазировали с гастролями в Свердловск — ведь я не занята в кинопроизводстве.
Я все же играла Матильду недолго — это одна из неудачных моих ролей. А потом,
через некоторое время, в театре начнется новое веяние — «омоложение» составов:
станут вводить на роли молодых исполнителей. И, неловко ссутулившись, чтобы
исчезнуть как можно незаметнее, не дать удару прийтись еще раз по наболевшему
месту, я тихонько закрою дверь театра с обратной стороны.
Почему
я отказалась от окружения? Действительно, можно было что-то придумать.
Испугалась, фамилия известная, неудобно? А почему не танцевала в дуэте? Стыдно
оттенять? А Николаю Черкасову не стыдно было в «Пате и Паташоне»? И этот
короткий фильм-шутка вошел в золотой фонд. Звучная фамилия для безмолвного эпизодика?
А не было такой фамилии! Вот так, не было, и все! И пусть обидно, если не
узнают или делают вид. И пусть неприятно бьет, что ты так мало значишь для
других. Пусть. Без вздрючек, без толчков извне пришло такое решение. Пришло
само, вошло в сознание и в жизнь: не было ничего. Ничего. Ни «Карнавальной
ночи», ни популярности. Не было такого имени. Я его слышу впервые. Не гнушаться
никакими безмолвными эпизодами, памятуя театральный опыт с безмолвными
девушками. Никаких обид и претензий. Больное самолюбие — отболей, тщеславие —
заглохни. Но не дай себе раствориться, не стань бесхребетной, не потеряй после
стольких лет стойкость. Будь ровной, терпимой и доброй. Все начать с нуля. Вот
такая программа.
От
такого решения стало легче, и не страшили меня воспоминания о бегах по лестнице
за директором. Справедливыми виделись установки на «омоложение». Сознательно
заглушала аплодисменты после сольного номера в «Целуй меня, Кэт!». Когда я так
решила, вылезла из своей раковины, шире, добрее взглянула вокруг, я стала меньше
удивляться своей кочкообразной дороге в жизни.
Значит,
соглашаться на любую работу. Искать подробно биографию, костюм, нюансы
поведения героини. Если она на экране даже в течение минуты. Не слышать своей
фамилии. Лучше бы ее совсем сменить, но она папина. Не обращать внимания на
письма, если в них: «Вчера смотрел фильм «Один из нас». Мелькнули вы в самом
начале — и след простыл. Как же вам не стыдно? Что вам, есть нечего? И это
после Леночки Крыловой, после Франчески?» (Донецк). «Теперь вы все в ресторанчиках
поете. «Взорванный ад» смотрел — там вы в немецком ресторане, а в «Неуловимых» —
во французском. Наша семья в вас разочаровалась. А ведь «Карнавальная ночь» —
наша молодость...» (Челябинск).
А
я буду, буду играть! Играть в окружении, петь в ресторанчиках! Мне нужно
набирать, набирать, приучать зрителя к себе разной: жалкой, победоносной,
неприятной, легкомысленной, некрасивой, разной, разной... Мне нужен опыт, пусть
такой разрозненный, разбросанный в ручейках, далекий от большой реки, но я должна
его набрать! И опять же что-то внутри мне подсказывало, что я на верном пути.
Первой
удачной работой в моей новой программе была роль Шуры Соловьевой в фильме
Адольфа Бергункера «Дорога на Рюбецаль».
На
съемку я приехала с абсолютным знанием текста, пройдя подробно биографию своей
героини. И от этого на душе был покой. Группа прекрасная, режиссер фильма —
человек добрый, мягкий, интеллигентный. На эту непростую роль он меня утвердил
без проб. Это было важным событием. Потому я и чувствовала особую ответственность.
Потому так и готовилась. Художник по костюму Виля Рахматулина. У нас с ней за
плечами работа в «Балтийском небе» и «Рабочем поселке». Костюм, который мне
предложила талантливая художница, не требовал поправок, перешивок, уточнений —
все было в характере героини. Костюм — полдела в кармане. Грим... Что такое
грим для этой роли? Лицо бледное, глаза «утренние», губы треугольником, чуть
тронутые бордовой помадой, на голове косынка чалмой, как носили в войну.
Короче, грим без грима. В группе снимали добротно, но медленно. Я влетела в
кадр, металась по съемочному пространству, и мне его так хотелось охватить —
целиком! В длинном монологе я все не видела возможности остановиться, чтобы
перевести дыхание и продолжить его в другом кадре. Меня несло все выше и выше,
к душевному подвигу этой, на первый взгляд негативной, женщины. Бились, бились
и сняли сцену одним куском. Войдя во вкус, в тот же день сняли еще и режимный
кадр. За один день группа выполнила четырехдневный план. А я — утром приехала,
вечером могла уезжать. А ведь у меня была командировка от театра на пять
съемочных дней. Целых пять оплачиваемых дней плюс репетиции. Я же отработала
все в одну смену и, счастливая, отправилась восвояси. Спрашивается, к чему
спешка, зачем все в один день? Но зато какой день! Такие дни помнишь всю жизнь!
До чего же не меркантильная наша семья. Ждали, что подработаю, — ведь я главный
добытчик-кормилец. Но, увидев меня такой счастливой, никакого оттенка
сожаления, ни-ни.
Пошли
кинопробы, кинопробы на «Ленфильме». Кинопробы в больших ролях пока так и
оставались пробами. Но ведь они начались! Значит, лед тронулся! Начались съемки
в небольших эпизодических музыкальных ролях, где я купалась, как в живительном
источнике. Начались драматические ролишки, где на выручку приходило близкое,
знакомое, уже пережитое. Да и зрители уже вроде не так беспощадно меня
уничтожали. А кто-то внимательно следил за мной, отмечая в письмах, что видит,
как я «набираю». И круг насмешливых взглядов сужался. Откровенно
недвусмысленные гримасы сменили заинтересованные взгляды. Ну, что вы ко мне
присматриваетесь? Чего вы от меня ждете? Молчите? Ну и ладно. Я ведь теперь
работаю, набираюсь опыта. А разве может что-нибудь сравниться с самым великим
таинством — процессом рождения роли? Эх, если бы вы знали, если бы вы только
знали, как я боюсь хоть на один день вернуться туда, в то время...
Конец
лета 1971 года. Мы получили журнал «Советский экран» № 17. Фильм «Дорога на
Рюбецаль» вышел на экраны, и вот на него в журнале рецензия. Рецензий впереди
будет много, но эту... «я достаю из широких штанин дубликатом бесценного
груза...» Она — первая за долгие годы девальвации и забвения. Ведь это именно
те слова, которые мне были так нужны для того, чтобы убедиться, что избрала
верный путь.
Думаю,
что редко кто может похвастать такой торжественно-траурной параболой внимания
прессы. Она отражала всю мою жизнь в кино, с тех самых первых «карнавальных»
шагов. Меня прославили, захвалили, уничтожили, забыли, припомнили, стали
жалеть, удивились. Начали отдавать должное. Стали писать хорошо. Потом — очень
хорошо. А еще позже — в превосходной степени и очень часто. В какой-то момент я
почувствовала, что надо наивежливейшими словами отказываться от еще и еще
одного интервью, чтобы не вызвать раздражения у зрителей. Ведь частое мелькание
в прессе — это девальвация. Ведь когда-то же кто-то первый начнет: «Сколько же
можно, в конце концов, хорошо да хорошо!» И интуиция не обманула. «...И снова
игра Л. Г., ее порой почти неуловимые характеристики, неистощимое чувство
юмора, которым неизменно наделяет она своих благородных и чистых, а вместе с
тем очень разных героинь, убеждают в жизнестойкости образов, дают пищу
зрительскому воображению, будят мысли...»
Ей-богу,
это приятно читать. И что юмор не истреблен, и что героини «о-чень раз-ные».
Передохнула, мысленно поблагодарила журналиста, а ровно через десять строчек:
«...Думаю, что и саму Л.Г. не может не беспокоить при всей их разности сходство
героинь последнего времени». А, ну вот это и есть самое главное! А разборы
таких «разных» героинь («Старые стены», «Пять вечеров», «Двадцать дней без
войны», «Любимая женщина механика Гаврилова») — это все была лишь уважительная
преамбула. Как только прочла впервые произнесенное вслух, жду: кто следующий?
На этот раз журналист берет интервью у моего партнера по фильму «Вокзал для
двоих». «...Все мы любим талант Л. Г., радуемся ее успеху, возвращению на
экран. Но не кажется ли вам, что режиссеры вновь начинают эксплуатировать ее
новые типажные качества? Вот и создавая яркий образ Веры, она начинает
повторять то, что, мне кажется, уже использовано ею в предыдущих работах».
Защитил
меня мой партнер. Он ведь был внутри того жаркого процесса, и вопрос
журналиста, наверное, расшевелил в нем воспоминания о нашей ох какой нелегкой
жизни в то лето и зиму восемьдесят второго года. Спасибо тебе, Олег
Валерианович Басилашвили! Значит, не забыл. Значит, недаром мы с тобой
встретились на нашем жизненном «вокзале». А как ты относишься к тому, что я
новый типаж? «Типаж новый». Так долго не снимали, потому что не смогла
пристроиться ни к одному типажу. А в зрелых годах попала в типаж, да еще в
новый. Ну да ладно, важно, что автор отметил: «Мы радуемся ее успеху и
возвращению на экран». А ты? Ты рад? Можешь не отвечать. Я тебе верю.
К
сожалению, редко чувствуешь у человека по профессии критик ту располагающую
интонацию, когда хочется распустить натянутые струны, все ему выложить,
забросать историями, восхищением талантливыми людьми или поделиться своим
тайным, о котором порой и близким-то не расскажешь. Но такие люди есть. Когда я
читаю, что много ролей-ретро и я в долгу перед зрителями, что надо сыграть
женщину сегодняшнего дня — это точный намек-перспектива. И пусть никто не даст
мне адреса, где лежит и ждет меня такой сценарий. Но если уж он попадется мне —
этот своевременный намек заставит меня совсем по-другому начать подготовку к
роли, осмотреться: из чего же состоит женщина именно сегодняшнего дня — даже если
мне придется пройти через конфликт с режиссером. Я только поняла одно:
отношения актера и журналиста очень во многом напоминают отношения актера и
режиссера. Если нет взаимопонимания и любви, нелегко.
А
чего это я так долго о прессе? Да просто наболело за долгие годы
«полузабвения», как красиво определили журналисты мое время безролья, те мои
годы «иллюзий и грез»...
...На
столе стояла бутылка шампанского и фруктовая вода для папы с Машенькой. В той
статье все, что касалось меня, было жирно подчеркнуто красным карандашом. А на
полях стояло несколько крючкообразных старомодных папиных автографов. Аж сердце
щемит, когда гляжу на этот старый, драгоценный пожелтевший номер. Папа читал
статью уже в десятый раз. Теперь читал ее вслух.
—
Так, слушайте, уся моя семья, про дочурку з усем сердцем. «Только эпизод». —
Ето название. — «Что запоминается в этом фильме? По-моему, несколько эпизодов.
И прежде всего отличная эпизодическая роль Людмилы Гурченко». — Ето, дочурка,
означаить, што золото и в ... блистать. Тут я з им целиком согласный, а куда против
правды денисся? Читаю дальший: — «Велика ли роль, если отпущено актрисе всего
два эпизода? Актриса сумела много рассказать о «такой войне» за эти несколько
минут на экране. В двух сценах она сумела развернуть целый характер — от низшей
границы отчаяния до взлета благородства и решимости. Такая актерская щедрость и
убедительность о многом говорят. Во всяком случае, с обидной повторяемостью
«голубой певицы» для Людмилы Гурченко, я уверен, покончено». — Хочу от чистага
сердца выпить за писателя, товарищ Вадима Соколова, якой про мою дочурку
написал правду и у самое яблочко. Спасибо тебе, дорогой товарищ, жизнь тебя за
ето отблагодарить, ето як закон. Ну, за честь, за дружбу!
ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
ДЕЛОВОЙ И АКТРИСЫ
Баку
— Терскол, Таллин — Новгород, Одесса — Рязань, Краснодар — Минводы и, конечно,
Москва — Ленинград. «Красная стрела». Это маршруты и места съемок моих картин.
Ого, сколько появилось сил и энергии! И сон был, и никаких снотворных. Организм
как будто сидел в засаде, в долгой спячке, готовился к прыжку и вскочил! Роли в
фильмах: «Белый взрыв», «Мой добрый папа», «Дорога на Рюбецаль», «Дверь без
замка», «Цирк зажигает огни», «Табачный капитан», «Тень», «Летние сны». И
пробы, пробы... Время началось боевое. А главное, было легко от принятого
решения «начать с нуля». Ну и что же, что не утвердили? Чем я лучше? Эх, папа,
папа, зачем ты мне с детства внушил, что я особенная? Видишь, как я долго шла к
простой мысли — отдавай все и не жди никакого чуда и никакого «сверх». Это
труд. Порой серый, будничный. И лепи, лепи роль, не бойся, что повторишься. Вон
сколько людей, и все разные. Поменьше проблем вокруг — «я и моя популярность»,
«я и мой авторитет». Убрать слова «индивидуальность», «личность» и всякие «в
своем творчестве я стараюсь»... Все для меня открывалось более простым и
будничным, заключенным в слове «труд». Я наконец-то тружусь. Так слава же
труду!
Обидно,
что самое простое приходит поздновато. И удивляешься тому, как серенько это
простое выглядит рядом с предыдущими твоими прожектами, мудреными идеями и
ракурсами. Вот оно, простое. Оно и есть самое верное, ибо в нем правда, в нем
пережитое. Постоянная нужда полезна. Она заставляет работать и работать. Но с
другой стороны, нужда опасна — становишься менее разборчивым. Но всегда ведь
хорошо задним умом... И на то время, естественно, пришлись ошибки, перегибы —
результаты слишком горячечного броска в материал, где не всегда умела влиться в
общую партитуру картины. Иногда в оркестре только начиналось «крещендо», я же
влетала со своим никому не нужным «форте», да еще с «до» третьей октавы. Мне
почему-то слышалось звучание оркестра совсем в другой, более высокой
«температуре». Нет чтобы прислушаться, подстроиться, дождаться своего соло, не
вылезать. Но что поделаешь, когда истрепаны нервы от ежеминутной готовности
вступить в бой. Она, эта боевая готовность, невольно ищет себе выхода. Снято, и
ничего не исправишь. Стыдно за какие-то эпизоды, интонации, за некоторые, в
фильмах этого времени, сцены. Я пополняла свой опыт, еще во многом работая
вслепую, инстинктивно. Несмотря на то что я в то время набирала внутрь очень
интенсивно, внешне, по инерции, еще долго «ломала Ваньку», кривлялась и часто
вела себя несолидно. Ах, думаю, умный ведь поймет, что это я так... от
профессиональной радости. Некуда силы девать, вот я и несусь... Если говорить
по высокому счету, мои радости и успехи были как буря в стакане воды. Это были
мои «радостишки» и «победки» — радость «для дома с оркестром». Роль, роль,
большая, крупная, масштабная, где ты? Не минуй меня стороной! Столкнись со мной
где-нибудь!
Это
были не масштабные, но значительные роли с непрямыми и негладкими судьбами —
речки с затонами, топями и завитками. А новые партнеры? А встречи с
режиссерами? «Открытая книга» Владимира Фетина. Красавица Глафира, прошедшая
дозволенным и недозволенным манером огонь и воду в достижении главного — жить
роскошно в ореоле всеобщего восхищения и поклонения. Позднее прозрение,
свершение подвига. От этой избалованной жизнью женщины не ждешь, что она одним
махом выбьет у себя из-под ног почву и повиснет в воздухе... Не повиснет —
разобьется о холодный мрамор мрачного подъезда. Роль? Да! Судьба? О! Есть что
играть? Безусловно. Как кропотливо Владимир Фетин выстраивал ту тяжелую сцену
перед самоубийством. Странное поведение Глафиры ни в коем разе не должно было
предварить страшного финала.
Я
не помню, как вышла из «Красной стрелы», как добралась домой, в мираже, через
пелену слышала испуганный шепот моих родителей:
—
Лёль, што ето з ею, а? Я етага режиссера поеду у Ленинград на куски порежу, от
тебе крест... До чего дочурку довёв!
—
Марк, котик, ты почитай сценарий, там же смерть...
—
Так што ж, теперь усем умирать? Ну тихо себе притворилася, брык об землю и тихо
лежи, глаза заплющи и молчок. А режиссер хай себе знимаить...
А
через несколько дней опять вижу солнце, чувствую запахи, хочу жить! Несколько
прекрасных писем после «Окрытой книги» храню. Они мне дороги. Зрители так чутко
разобрали переливы души героини — почувствовали даже то, что я пыталась, но так
и не смогла сыграть до конца. Это дорогие письма. Большинство же ругали
Глафиру: «Натура не цельная, брать пример с нее нельзя».
«Дети
Ванюшина»... Роль Клавдии — самой старшей и некрасивой дочери Ванюшина, женщины
расчетливой, скупой и сварливой, не пришлась мне по душе. Хоть и невозможно
было представить на то время, что я могу отказаться от роли, но я была близка к
этому. А режиссер Евгений Ташков настоял на встрече. Она все и решила. И очень
скоро. Евгений Ташков. «Адъютант его превосходительства», а еще раньше —
«Приходите завтра» с непревзойденной Екатериной Савиновой в главной роли. Вот
он какой... Он артист, это видно сразу. Артист в каждом жесте, в каждой
интонации, в живом, нервном блеске серых глаз, в неспокойных руках. Он сразу
отменил в Клавдии некрасивость и физическое уродство — чего я, кстати, и не
боялась, — просто уж очень какую-то тоску вызывала эта роль. А он мне так ее
проиграл, что я эту Клавдию увидела чуть ли не самой интересной во всем
сценарии. В роли он нашел и элементы драмы, и трагедии, и даже комедии. И я
вошла в картину. Вошла осмысленно и работала с удовольствием. Потому что была
под надзором талантливого человека. А это так важно.
В
фильме произошла долгожданная встреча с актрисой, с образом которой еще с
детства, с войны, связано самое светлое и что-то хрупкое и женственное. В
фильме она играла небольшую роль, и наше общение было недолгим. Валентина
Серова. Она для меня была идеалом женской красоты и нежности. Глядя на нее, мне
всегда хотелось плакать, не знаю почему, может, от счастья видеть ее красоту.
Она уже была немолодой. Но осталась тоненькой, как девочка, с прозрачной кожей,
голубыми жилками на висках. В каждом слове было много важного для меня. В синих
огромных глазах было так много грусти, терпения и боли. Я бежала на работу,
чтобы увидеть, как она входит в гримерную, как мягко и естественно здоровается,
как спокойно, даже равнодушно, смотрит на себя в зеркало. Как от крошечного прикосновения
гримера меняется ее лицо. Как светится вокруг ее головы нимб тонких золотистых
волос. У нее был самый редкий талант актрисы — быть на экране женщиной. Недаром
ее любили великие и отважные. Это так понятно. Я не могла, не могла оторвать
глаз от этого неземного существа. И, будучи уже взрослой, я понимала то, что
поразило меня тогда, в детстве, когда я смотрела «Сердца четырех», «Девушку с
характером», «Жди меня». «Жди меня»? Да, я люблю эту картину. «Знаете, самое
главное в жизни иметь голову на плечах, всегда... и стойкость. А я... Я... нет.
Не смогла. Сама. Только сама...» Через несколько лет этой необыкновенной
женщины не стало.
Этими
двумя ролями начинался 1973 год. Съемки, концерты, спектакли, дом. Дома меня
всегда ждали. И к каждому возвращению папа и мама с гордостью демонстрировали
новое стихотворение в исполнении моей Машеньки. Одиннадцатилетняя дылда
забиралась на стул, «руки назад», «глаза широко распростерты», точно как я в
детстве. Дедушка сиял от своей режиссуры. Только теперь он обучал свою
«унученьку» стихотворениям «исключительно на патриотическую тематику». И моя
стесняющаяся дочка под восхищенными взглядами дедушки и бабушки читала:
Был трудный бой, все нынче как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут — забыл его спросить...
И
жизнь текла хорошо, и раны подживали. Дедушка чувствовал себя в ответе за всех.
За меня, за маму. А для Маши был всем на свете: дедом, отцом, самим господом-богом.
И
вот... Как-то февральским, а может, мартовским вечерочком, все того же 1973-го,
я играю в театре все ту же безрадостную «Дурочку». В антракте за кулисы ко мне
вскакивает второй режиссер с «Ленфильма» — человек живой, артистичный, с острым
умом, легкий в общении, мгновенно ориентирующийся в любой обстановке. В общем,
образ стопроцентного, незаменимого кинематографиста. И фамилия красноречивая —
Беглов, Геннадий Беглов.
—
Мадам, привет! Лихо пляшете, народ ликует... м-да... Скоро пожалуете на родную студию-с?
О! Это хорошо, хорошо... м-да... Мадам, а вы не хотели бы сыграть в фильме о-у
лу-ю-бви?
И
в моей голове с ходу засела мелодия любви из фильма «Мужчина и женщина». И вот
я уже танцую с каким-то загадочным мужчиной в усах и бакенбардах. Вокруг тесно
прижавшиеся пары. Плывет сладкая музыка. Все млеет и слабеет под напором любви,
моря, шампанского и одурманивающего зноя... Ну кто же не мечтает сыграть в
фильме о любви? Наивный вопрос. «Ген, оставь сценарий». Он как-то странно
засуетился, еще раз недвусмысленно бросил взгляд на мою коротенькую юбочку
девочки-дурочки: «О, мадам!» Что-то потрогал на моем столике с гримерными
штучками, попрыгал на месте, попел мелодию дурочки, только что слышанную в
зале... «М-да... Вот когда приедешь в «Открытую книжку»... будет тебе и
сценарий. Роль — на унос! Публика будет рыдать и плакать! Целую, мадам!» И он
исчез. Не давать волю фантазии до наступления реальной ясности, что шлагбаум
открыт! Мелодия любви смолкла. И я пошла во второй акт перевоплощаться из
дурочки в хитромудрую девицу.
«Для
этой сцены я тебе еще больше разведу глаза, пусть они падают по бокам, а? И
брови домиком, здесь же у нее горечь, которую ты скрываешь, ты веселая, а эта
деталь в контрасте, это хорошо, так... — говорила гример Людмила Елисеева. — Да,
да, наперекор привычной выдержке и веселью пусть в лице сквозит намек на
гримасу душевного страдания. Это то, что надо». В такие минуты для нее на свете
ничего не существовало — ни дома, ни любимейшего сыночка Павлушеньки, ни самых
интересных событий в жизни студии. Вот гример! Работала она тоже не по
традиции. Иногда начинала с прически, иногда с глаз. А иногда «сделает
пол-лица», посмотрит на разные половинки и начинает вторую часть подстраивать
под первую. Такие самобытные, талантливые люди — как возбуждают они желание
жить, работать! В фильме «Открытая книга» у меня один из самых интересных
гримов, который во многом продиктовал именно это решение характера и поведения
Глафиры.
У
меня было «готово пол-лица», и я в который раз с удивлением отмечала, какие они
разные, эти половинки. В гримерную вскочил Геннадий Беглов, сунул как-то
смущенно сценарий, сказал, что проба завтра. О времени созвонимся. И все
скороговоркой, как-то не глядя в глаза. И выскочил. Потом опять открыл дверь и
сказал: «Мадам, советую вам нашему режиссеру про дурочку... ну, лучше совсем не
надо. Лады?» Как, наверное, глупо я выглядела в коротеньком платьице в роли
девочки. Видно, он не остался на второй акт, не увидел моего «повзросления». Ну
да ладно, режиссеру я и не собиралась докладывать про дурочку. Да и зачем он
меня предупредил? Теперь в голову это будет лезть. И я погрузилась в чтение
сценария.
Все
так! Юг. Берег моря. Сладкая музыка. Зной. «Белое танго! Дамы приглашают
кавалеров!» Но героиня никого не приглашает. Молодец, я бы тоже этого не
сделала. Если она чего-нибудь стоит, к ней сами подойдут. О! А вот и он.
Хорошо, очень хорошо. Он ей издали вопросики, она ответики.
Рекогносцировочка... Знакомо, проходили. Но вот они удаляются подальше от
танцующих, ближе к Черному морю — так быстро? Вот он берет ее за талию, на
руках переносит через препятствие. У-у... Как их зовут и кто они — еще не
знаем. Ну и не надо. Главное, что подул сухой горячий воздух и вспыхнула
обоюдная страсть. А значит, есть что играть. Страсть получает свое развитие за
кадром. Вполне достаточно, она ведь в кадре зажглась. А дальше, чего уж, это же
фильм не для детей. На рассвете она уже поднимается по лестнице высоко-высоко.
А вот и ее шикарный номер — э, наверное, она тетенька непростая... Или
чья-нибудь неудовлетворенная жена. Или сама важная птица. А тогда как же быть
со страстью? Но не будем гадать. Какая страница? Седьмая. Только седьмая
страница, а событий-то, событий... Ну сценарист, ну закрутил, аж дух замирает.
Ну дальше, дальше. Так. Утро, солярий, все загорают. Герой ее разыскивает. Она
вроде как увиливает. Вот и в столовой она смотрит на него спокойно и даже
равнодушно. Занятная тетка. Вот она ему говорит: «Не ищите меня». А он: «Все
равно найду, Аня, тебя»... Она, значит, Аня. «Переверну, — говорит, — чуть ли
не весь свет». Во какой! Всем женщинам понравится. Но она уехала. Это на
десятой странице. А на одиннадцатой по коридору какой-то фабрики идет какая-то
женщина. Все с ней почтительно здороваются. Но, видно, эта положительная
героиня, не моя. Мне давай «Глафиру», ту, что была на юге. А эта пусть себе
шагает деловой походкой по длинному фабричному коридору. «Директор Анна
Георгиевна Смирнова». Директор? Во мешанина! Море, любовь, «Глафира», белое
танго, фабрика, директор. Ну, Гребнев, ну Анатолий Борисович, — что же это? Вы
же блестящий сценарист! «А ты думаешь, это мне пришло в голову считать
выполнение плана по фактически реализованной продукции? А у нас ведь никогда не
поймешь, реализована она или нет...» У-у-у... Это на двенадцатой странице
говорит та же, что шла деловой походкой по коридору, Анна Георгиевна Смирнова.
Анна Георгиевна? А мою южную «Глафиру» герой тоже называл Аней… Судорожно
перелистываю сценарий. Глафиры и след простыл. Вот Анна Георгиевна проводит
пятиминутку с начальниками цехов. Вот она в гремящем ткацком цеху. Вот разговор
со взрослой дочерью в доме. Опять цех, прием работниц фабрики, конфликты с
главным инженером... Кругом она, она и она. Она и есть «Глафира»? Интересно.
То-то Беглов так меня оглядывал и топтался. Теперь все понятно. Поначалу я даже
не обратила внимания на название сценария. Ну, стены себе и стены. Да еще
старые. Кому нужны старые стены, когда все хотят иметь квартиру новую? Был
когда-то, правда, прекрасный фильм «У стен Малапаги», но ведь он из другой
жизни... Да-а, вот тебе и фильм «о-у лу-ю-бви». Не знаю, чего у меня тогда было
больше на душе — огорчения или недоумения. Но в единственном я была уверена на
сто процентов: что это ошибка, что эта роль не моя, что это блажь режиссера.
Первая
же встреча с режиссером была абсолютно несовместима с капризным понятием
«блажь». Передо мной стоял красивый русский голубоглазый богатырь. В глазах
бегали смешинки. Эти глаза словно бы удерживали вокруг атмосферу всеобщего
интереса, возбуждения — самую творческую атмосферу. Виктор Иванович Трегубович
— один из самых неоднозначных, самых непредсказуемых режиссеров, с какими мне
приходилось встречаться. Казалось, вот уже все знаешь, ко всему приладилась,
привыкла — ничего подобного! Он преподносит, преподносит, удивляет, загоняет в
тупик, кричит, хохочет, обожает, не разговаривает, приглашает на роль и не
утверждает.
«Вы
простите меня великодушно, товарищ режиссер, но я этого играть не могу. Для
всех это будет прекрасным поводом посмеяться. Представьте себе: моя фамилия
тире директор. Представили? И можно получать приз «армянского радио» за самый
короткий анекдот».
Так
хохотать может только Трегубович. «Слава богу, что вы сомневаетесь. Мне это
нравится. Люблю, когда сомневаются. Я только что видел вас на пробах у Авербаха
в «Монологе», мне понравилось. Давайте, давайте сосредоточьтесь, будем
репетировать».
Теперь-то
что, когда сломлены барьеры амплуа! А тогда, на репетиции? Сижу как притихший
бобик. Ни одной знакомой интонации, ни одного жеста, ухватиться не за что.
Губки ни к селу ни к городу кокетливо вздрагивают. Ну хоть ты умри, такая
пустота. Где же вы, мои «нераскрытые» возможности? Я — красивый стопроцентный
нуль. И, как назло, репетируем именно текст: «А ты думаешь, мне пришло в голову
считать выполнение плана по фактически реализованной продукции...» Да эта
«реализованная продукция» тогда была ах еще как далеко от меня... Начну и
остановлюсь. Начну и засмеюсь над собой. Ничего более неестественного нельзя
придумать. Потом уже злилась. Потом ругала себя вслух папиными словами, не видя
режиссера от беспомощности и бешенства. Уже смеялся режиссер: «Будем, будем
пробоваться, идите в костюмерную. — И вышел, напевая: — Сама тощая, как гнида,
но зато пальто из твида». Это же про меня! Это у меня пальто из твида. Тихо. Не
будем реагировать. Спокойно. Найдите актрису по своему вкусу, товарищ
режиссер... И, точно как у чеховской Душечки, навалились все обиды и
несправедливости моей непутевой жизни. И я как расплачусь... с удовольствием,
всласть, когда не нужно утешений. Когда это как необходимое облегчение.
Поплакала-поплакала, да и побежала в костюмерную.
Одели
меня в простой костюм, какие продаются в наших магазинах. Сделали гладкую
прическу. На ноги надели туфли на небольшом каблучке. И... куда девалась артисточка
в мини-юбочке, в модных туфлях на платформе, с игривой челочкой по самые глаза.
Я смотрела на себя в зеркало и об этой женщине не знала ничего. Ничего.
«Ставили»
свет, готовились к съемке... осветители, рабочие, гримеры, пиротехники,
костюмеры, администраторы — все проверяли свою готовность, прочищали свои
перышки перед командой «Мотор!»...
Когда
нечего терять, кроме своих цепей, наступает недолгое расслабление, безразличие
к тому, что ты и как ты со стороны. Наступает вроде как покой. Кажущийся покой.
В этом состоянии все мозговые клетки задерживаются на одной мысли — той, что
победит. Именно она покажет выход. А если уж не выскочит такая сильная
спасительная мыслишка — тогда, «дочурка, пиши пропало».
Важный
диалог директора с главным инженером. Молодой инженер берет под сомнение святое
понятие «энтузиазм», обрушиваясь на старого мастера цеха Колесова, который
готов для выполнения плана работать без выходных. «Недавно, знаете, старые
стены фабрики ломали, так взрывников пришлось вызывать, вот какие стены». Вот
откуда стены. Это ведь старые и новые традиции. Понятно.
Я
выросла в трудовой семье. Многое в роли должно быть мне знакомым. Разве не на
моих глазах родители для общего дела могли не спать, не есть на благо
коллективу, стране? Так что же? Может, занесли меня роли другого амплуа в иной
мир и «я забыл свой кров родной»? А может, это тот случай, когда не пользуешься
какой-то вещью и она пылится в забвении?.. Или это — как ноги, которые затекли
от сидячей профессии и их надо усиленно тренировать? Как оживить или вынуть на
поверхность важный пласт моего истинного существа, который поможет мне стать самой
собой? А потом все в роли ляжет на меня? Или мое сольется с ролью? Как? С чего
начать?
Ручки
взмахивают, изгибаются, ножки все норовят устроиться привычной восьмерочкой.
Все, проклятое, не оттуда. Да и спасительная мыслишка выпрыгнет и ускользнет —
мол, я тебе путь подсказала, а там уж давай сама. И пальто проклятое из твида
ненавижу, надо его убрать с глаз. «А вы ведь тоже небось не барские детки?»
Откуда это? Во занесло! Откуда-то залетела мысль и закопалась в памяти... Нет,
не вспоминаю, только четко слышу знакомый голос. Нет, ну при чем тут барские
детки, если я сейчас должна быть мудрым сорокапятилетним директором? Господи,
сформулировала это и покраснела от невозможности такого сочетания: я — и
директор.
И
вспомнила! Это голос Бориса Чиркова. Про барских детей он говорил на репетиции
артистам в фильме «Глинка», где исполнял роль гениального русского композитора.
Ведь это была первая русская опера — «Иван Сусанин». До того в России ставились
только иностранные оперы. И у русских артистов был тот, иностранный навык,
жесты, акцент, мизансцены, которые они и перенесли на русскую оперу. Так же
заламывая руки, как и в итальянской арии, Антонида пела: «Были враги у нас,
взяли отца сейчас». А Иван Сусанин в самой роскошной позе пел знаменитую арию:
«Чуют правду». Обидное зрелище, когда русские актеры, выходцы из крепостных,
забыли свое родное. Смешно, но именно об этих крепостных русских артистах я
думала тогда на пробе перед командой «Мотор!». Менее всего мне хотелось
произвести впечатление. И это точно было со мной осознанно в первый раз. И,
может, я совершенно стушевалась и ушла внутрь, чтобы не соврать, тоже
по-настоящему впервые. И уж точно впервые сознательно задумалась о своих корнях.
Тогда, наверное, и началась пора человеческой зрелости. Может, у других она
начинается раньше и при других обстоятельствах. Меня же к этому привела роль.
На
худсовете мнения разделились. «Она актриса эпизода, короткой дистанции,
спринтер, такую роль не протянет. Тут нужен стайер», — говорили одни. Другие
вспоминали опять же «Карнавальную ночь». Это не по правилам — вспоминать. А
какие в актерской профессии есть правила? Главное правило одно: хорошо играть.
Безусловно, в выборе меня на эту роль был все же риск. Потому даже самые
доброжелательные члены худсовета приняли волевое решение Трегубовича осторожно,
думаю — в силу опять-таки этой новизны. Никому ничего не ясно, только одному
ему слышится запах «завтра».
Для
меня же на пороге этой неведомой жизни был спрятан глубокий долгожданный
щемящий смысл уже моей личной жизни, переплетающейся с этой недоступной и
долгожданной ролью. И кто знает, если б не чутье режиссера...
Часто
снимают фильмы о том, как снимается фильм. Но ни разу профессиональный работник
кино, глядя на экран, не сказал: «Да, уж это точно про нас». Наоборот: «Да что
они придумывают, ерунда все это, да ничего подобного». А какой восторг, если
похоже! Почему так? Откуда такие загадочные сложности? Одним примером, правилом
всего не объяснишь. Это целый свод неписаных законов, в которых кинематографист
плавает, как рыба в воде. Несведущий же петляет, как в сказочном лабиринте,
возмущается, теряется, страдает. Жизнь в кино идет по правилам и одновременно
против правил. Это искусство, где бок о бок работают две несовместимые силы:
лед и пламя — искусство и административный аппарат. Искусство со своими
нюансами, настроениями, резкой сменой температур отношений,
непрограммированными капризами и спорами, пиршеством импровизаций и побед. Все
эти «штучки» патрулируются четкой сметой, планом выработанного в смену метража,
количеством израсходованной пленки, лимитом, нормированным днем для рабочих и
ненормированным — для творческих работников и т. д. Какое дело администрации,
если у актера «не пошло». Должно пойти. Группа должна выполнить план, получить
сто процентов зарплаты, желательно плюс премиальные. В общем, математика и
балет.
С
картиной про директора у меня вышел типичный кинематографический казус. Который
опять же понятен человеку из кино и может возмутить несведущего в жизни и
неписаных правилах на «фабрике иллюзий и грез».
Для
этого надо перенестись в то время, когда еще неизвестны были результаты
худсовета по фильму Виктора Трегубовича. А я, «попробовавшись», поплакав,
посомневавшись, с тайным облегчением закрыла «директорскую» страничку и
заканчивала объект «квартира Глафиры» в фильме «Открытая книга».
Допустим,
сегодня вечером заканчиваю съемки этого объекта. И сегодня же уезжаю в Москву
вечерней «Стрелой». Сегодня к вечеру закончится худсовет по картине
Трегубовича. Сегодня вечером в ленинградском Доме кино будут показывать
нашумевший иностранный фильм. И все сегодня, в один и тот же вечер. Брожу по
фойе Дома кино в поисках хоть одного лица из группы Трегубовича. Киваю
знакомым, что-то отвечаю. А внутри... Ну неужели же до сих пор решают? На пробе
«он» был доволен... Или «он» сыграл?.. Или я схожу с ума?.. Ну наконец-то! Идет
редактор. Уж она-то точно была на худсовете. Вот она остановилась. Специально
маячу у нее перед глазами: «Здравствуй, ты моя талантливая девочка, какая же ты
молодец... Хорошо сыграла сцену с Колесовым... Тоже хочешь посмотреть картину?»
Проанализируем. Что означают ее слова? Если утвердили, то почему не поздравила.
Скорее всего, жалеет меня. Отсюда и «талантливая девочка», которую в очередной
раз прокатили. Но что-то внутри приказало: «Жди!» Э, в такие минуты я даже бога
вспоминаю: «Милый бог, если ты есть, сделай так, чтобы справедливость
восторжествовала». Или рьяно верю приметам — поплюю три раза: пронеситесь все
несчастья. Или стою и жду: если первой войдет женщина, значит, сбудется, если
мужчина — с приветом, Дуся! О! Вошел мужчина. И кто! Сам Трегубович! Увидел
меня, как-то сурово кивнул и сосредоточенной походкой — одно плечо выше, другое
ниже — прошел в зал. Ну, теперь все. Можно тоже идти, поискать свободное место.
А народу-то, а жужжит-то как все вокруг, как все смеется и острит... Уже не
выдерживаю этой игры, не могу притворяться, хочу крикнуть: «Люди добрые, братья
мои и сестры! Скажите же кто-нибудь резкое «нет», и станет легче. Я перестану
быть в подвешенном состоянии и стойко приземлюсь на холодный мрамор. Ну же!
Молчите...» Ладно, «пошли дальший». Противный у меня характер, но одно качество
спасало всегда. Мне всегда важно было знать все о себе с самой невыгодной стороны.
Подбирая точные крепкие слова, хихикнув над собой, могла встряхнуться и резко
пойти против течения. Я с вызовом посмотрела в зал, как можно ослепительнее
улыбнулась, подражая кинозвездам моего детства, и приземлилась среди любимых
гримеров: «Приди ко мне, я вся в г... и сс-страсть кэпит во мнэ-е!» — «Ой,
какая же ты веселая, вот молодец, вот держишься». Как только меня похвалили,
нестерпимо захотелось говорить. У-у, как я набросилась на моих дорогих слушателей!
Я извергала на них такой поток информации, шаржей, анекдотов, да на такой
предельной скорости, как будто за мной гнались стаи гончих. А нервишки-то не
выдерживают.
—
Ну... дорогая Людмила Марковна...
—
С каких это пор по отчеству?
—
Теперь ты у нас Людмила Марковна, теперь все...
—
О-у, старость, как известно, не радость, дорогие мои «девчонки»… — болтанула
отпетую банальщину, но и это уже было в «струю». Ведь иногда важна интонация —
все видавшей прокуренной гражданки, например.
—
Да нет, послушайте, теперь Вы, Людмила Марковна, у нас товарищ директор.
—
Хо-хо, Москва — «Динамо» ваш худсовет. Ничего, ребята, прорвемся, как говорил
мой папа: «Твое щасте упереди, ну, а согнесся... хе-хе». — Ну, тут пословица
проверена, реакция обеспечена.
—
Люсь, да ты что? Тебя же утвердили! — сказала девушка-помреж по имени Валечка.
Помреж Валечка Каргазерова сообщила мне эту важную весть. Она была смущена тем,
что я этого не знала. Сама засмущалась: а может, передумали? — «Света
Пономаренко! Ведь Люсю утвердили? — переспросила она у редактора, что назвала
меня «талантливой девочкой». Света ей утвердительно кивнула головой, а мне
послала воздушный поцелуй... Медленно стал меркнуть свет... На экране появились
первые кадры черно-белой заезженной копии иностранного фильма. Названия его я
не вспомню никогда.
Я
осторожно выбралась из зала. Тихо ступая, прошла по фойе, боясь услышать
одинокий стук своих каблуков. Этими перепадами от надежды до отчаяния, от
моторного веселья до полуосознанной радости я была абсолютно выпотрошена и не
чувствовала ничего. Состояние большого счастья приходилось наживать сначала.
Вот
вам одна из нетипичных, но естественных ситуаций в кипучей жизни
кинематографических событий. Нет-нет, никто не забыл про меня. Все рады тому,
что меня утвердили на роль. Но жизнь в группе «Старые стены» шла до этого
вечера своим чередом. Для них я в Москве, как и все, кто пробовался в этой
картине. Кто знает, что я здесь, в Ленинграде, заканчиваю «Открытую книгу» — это
как на другом острове, — что я жду, надеюсь. Люди закончили свой беспокойный
день, не пообедав и не заскочив домой, после худсовета побежали в Дом кино. А
вот завтра... Так вот, я уже прихожусь на завтра. На следующий день мне придет
поздравительная телеграмма. На студию придет сообщение, что такая-то артистка
худсоветом «Ленфильма» утверждена на главную роль. Количество съемочных дней
такое-то, сроки съемки такие-то. С уважением — подпись директора картины.
Иногда подпись и режиссера. Конечно, в этой истории можно найти момент
невнимания. Но это не так. Этот факт объясняется одним словом, и человек,
который давно работает в кино, догадается, что это за слово, и, может, даже
улыбнется ему: «киностудия». И все.
На
улице была мартовская слякоть. Я пошла к гостинице «Октябрьская» по улице, что
налево от Дома кино идет параллельно Невскому. Более всего в тот момент
хотелось быть одной на всем белом свете. Наступило расслабление. И заиграла
фантазия, зашевелились мыслишки. А в них обозначились всякие соображения по
поводу моего «директора». И тут же попробовала деловую походочку. И вроде
ничего — не стала себе смешной. И, опершись на металлические перила моста, что
около цирка, глядя в мутную воду с плавающими черными льдинами, говорила кому-то
по телефону доверительным тоном: «Э-эх, милый мой, а ты думаешь, что это мне в
голову пришло считать выполнение плана по фактически реализованной
продукции...» И... тоже звучит. Звучит! Как прекрасно жить! Какой солнечный и
зеленый этот вечер! Как будет счастлив папа!
Вот
и кончилось время разрозненных опытов. Сейчас все, что столько лет копилось,
сольется воедино и начнет работать на большую и ответственную стройку. Сколько
лет я ремонтировала квартиры и клеила обои! Сколько лет мечтала и готовилась к
такому капитальному строительству!
Моя
энергия несла меня вперед, азарт захлестывал. А внутри что-то шептало: мало, не
то. Придумай что-нибудь эдакое, экстраординарное, не «як у людей. Хай усе
будуть як люди, а ты як чёрт на блюди». Не могу, не могу, не могу ничего
придумать! Хочу сказать, закричать, поделиться наконец-то радостью — ведь это
уж точно, уже не передумают... Эта роль — моя... Вот идет маленький милиционер,
он сейчас самый близкий: «Добрый вечер! Простите, вы не беспокойтесь, ничего
нигде не произошло. «Карнавальную ночь» смотрели? Это я там была... Не узнали?..
Ну, не в этом дело, у меня сегодня... Сегодня у меня, понимаете, ах... очень
счастливый день!»
1973-й...
Наверное,
у каждого человека есть такой период, такой отрезок времени, в течение которого
происходит нечто... ну... фатальное, такое, что нельзя не расценить как
неизбежное, неотвратимое. У меня это 1973 год. В нем все — работа, смерть,
любовь.
Ранняя
теплая весна и три разнообразнейших роли. Спала в поездах, самолетах, калачиком
на задних сиденьях в «киносъемочных» машинах. Домой вообще не попадала.
Здоровье распределилось — главные силы на съемку. Все остальное вчетверть ноги,
вполголоса. С тех пор сама собой стала выстраиваться теория экономии физических
сил.
Несмотря
на то что я была утверждена, роль директора все еще оставалась для меня как
дверь, от которой нет ключа. Я еще далека была от героини и так беспомощна, что
руки сами тянулись к сценарию, как к спасению. И я поставила себе задачу —
читать сценарий Гребнева «Старые стены» два раза в день. Интересно, но каждый
раз я открывала для себя новые, еще буквально утром пропущенные детали. И мало-помалу,
по чуть-чуть, по зернышку внутри стал выстраиваться каркас будущего здания. Но
совсем не типовой. «Хочу приттить до своего директора з душой нараспашку».
Здесь папа прав. «Нараспашку»? Значит, никакого начальственного, директорского
тона, властных интонаций. Так: вышла из низов, на родной фабрике прошла все
службы, выросла от ткачихи до директора. Она не из «барских деток». Откуда же
могут взяться властные и приказные интонации? Тише, все тише, скромнее, глубже
и человечнее.
Мое
лицо, фигура и походка сами собой изменялись, перестраивались, перерождались. И
порой ощущала раздвоенность между той — в мини-юбочке, не отстающей от модных
веяний, какой я была в жизни, и той — в простом костюме, в удобных туфлях, с
гладкой прической, какой я была в роли.
И,
пожалуй, впервые я пришла к мысли, что самое сложное в актерском деле — сыграть
роль современника. Я не знаю, какими были люди сто, двести, триста лет назад.
Автор запечатлел свое время в диалогах, ремарках, замечаниях, иногда в
заметках, обращенных к актерам. Актеры могут здорово это почувствовать,
особенно талантливые. Но это все равно будет правдоподобием — ведь узнаваемость
никак и ничем проверить нельзя. А все, что окружает, — мебель, костюмы,
реквизит — ведь всего этого остается все меньше и меньше. Это уходит вместе со
временем, оставляя очаровательный запах прошлого, чего-то прекрасного,
наверняка лучшего во всех отношениях, чем то, что сохранилось на сегодня.
Короче, роль современную играть страшно и опасно, потому как персонажи на
экране — это люди, сидящие в зале. Узнаваемость, узнаваемость, сиюминутная,
ответственнейшая узнаваемость. «Неправда, — говорит ткачиха, глядя на актрису,
суетящуюся у ткацкого станка, — я не такая, да и никто из девчат нашего цеха не
похож на эту артисточку, врете!» Вот и приговор. А если еще и директор, да еще
и в моем исполнении, да еще и с моей «трюллялистической» биографией? В каком
состоянии я была тогда, на пороге новой жизни в профессии? Его трудно
зафиксировать в точных словах. Но сейчас знаю — те сложности, о которых я могла
догадываться, были лишь легким облачком по сравнению с давшими знать о себе
сразу, как только началась работа.
Сцену
разговора с дочерью снимали прямо в жилой квартире. Гостеприимная семья
предоставила для любимого кино свое уютное жилье. Соседи по дому им открыто
завидовали, и все наперебой приглашали нашу администрацию посмотреть свои
апартаменты. Но только поначалу. Когда же, через этажи, люди в промасленных
комбинезонах потянули толстые провода, кабели, электрические приборы, штативы,
тележки, «бэбики» и реквизит; когда обитателей квартиры выселили на кухню и
обязали не очень-то шуметь и поменьше разговаривать по телефону; когда ненужная
для съёмки мебель была вынесена на лестничную клетку и на балкон, а в передней,
ванной и коридорах скромно расположилась половина группы, человек двадцать, —
все соседи прикрыли свои двери и только в щель, через цепочку, с любопытством
наблюдали: кино... как же это происходит? И когда же наконец появятся актеры?
На такой случай есть точное кинематографическое выражение: «Там, где студия
пройдет, трава три года не растет».
«Не
понимаю, — говорит мать-директор, — хороший парень, без пяти минут инженер, ну
что еще нужно?» Это место в диалоге с дочерью, где мы добираемся до проблем ее
личной жизни. Все было нормально. Шла себе репетиция и шла. Но на меня как
накатилась вдруг тяжесть — ноша не по плечу, ну просто тупик, и мое
бессмысленное пребывание вот здесь, в этой квартире, в этом костюме, рядом с
молодой актрисой, которая должна быть моей взрослой дочерью. А я — сама ни
черта не смыслящая в этой жизни — должна ее поучать с высоты своего жизненного
«директорского» опыта и авторитета. Чушь все, вранье! Стыдно. Не могу! Я всем
существом воспротивилась произносить этот монолог и сказала об этом режиссеру.
У него побелело лицо: «Мне абсолютно безразлично, что вам лично этот текст, эти
слова несвойственны. У себя дома вы будете говорить как хотите и о чем хотите.
А героиня фильма Анна Георгиевна — не вы, понимаете? Не вы! Она человек другого
поколения, другой судьбы, она выросла в стенах этой гремящей фабрики и — уж
извините — трюллялизмом никогда не увлекалась. Ее действительно интересует
выполнение плана, прогрессивка и обрывность нити. Это она, а не вы». Уж лучше
бы он кричал. Можно было бы ответить. А то говорит холодным, ледяным тоном, ой
как жутко. «Не буду говорить этот текст». «Перерыв десять минут», —крикнул
режиссер. И, чтобы снять неприятную атмосферу, стал что-то весело и возбужденно
рассказывать. Как будто ему плевать на меня. Сижу за столом на кухне, соображаю,
за что бы схватиться, чтобы не расслабиться. По углам кухни, стараясь быть
незаметными, сидели хозяева квартиры. И тоже молчали. Как тянется время. Минута
длиною в год. «Может, вам чайку?» — тихо предлагает хозяйка. Что делать? Жила
себе худо-бедно, снималась, ну и ладно. Куда занесло, куда полезла, дура...
Директор!.. О, какая мука внутри. Не подчинюсь, не буду произносить то, чего не
чувствую. Могу обмануть, в конце концов, — наиграть. Но это не выход. Да лучше
в форточку вылечу, чем выйду, и после такого уничтожающего тона «заиграю».
«Трюллялизм»?! А ты попробуй поставь картину с «трюллялизмом». Ну что же
делать, что делать? Сейчас уже нельзя сказать «не буду». Уже прошло время. Надо
было сразу хлопнуть дверью или что-то ответить умное.
А
ведь даже наедине с собой не хочу, боюсь сама себе признаться в главном. У
героини в тексте: «Он без пяти минут инженер». А все в том же разнесчастном
фильме «Карнавальная ночь», в запетой-перепетой песне про «пять минут», я пою:
«...Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер». Для того чтобы объяснить
режиссеру это «без пяти», мне нужно переворошить, приподнять так много...
Может, отчасти и прояснилось бы, почему я так боюсь этих слов. Наверное, он бы
понял. Но нет, я ему не объясню. Мы слишком далеки от такого откровения. Пусть
это будет «каприз актрисы». Ах, если б это была другая роль, я бы переступила
через эти «минуты». А режиссер как будто и не слышит, и не чувствует, и ни с
чем не ассоциирует эти «пять минут». Я для него вроде как самый настоящий
директор. «Боже ты мой, какая же у вас тяжелая жизнь. Я все смотрю на вас,
смотрю. Как же вы нервничаете, как кипите. Ну-у нет, теперь кино буду
по-другому смотреть. И что, всегда так?» — «Что? Да нет, всегда по-разному». —
Не переживайте, мы все вас так любим, так любим в «Карнавальной ночи».
Анна
Георгиевна Смирнова — ткачиха, мастер цеха, директор. Она могла, даже не один
раз, видеть ту же «Карнавальную ночь». И точно так же, как хозяйка этой
квартиры сейчас, могла мне, актрисе, сказать где-нибудь за круглым столом,
после моего выступления на этой же фабрике: «А знаете, сколько раз мы с
девчатами бегали на «Карнавальную ночь». Спойте нам, пожалуйста, про «пять
минут». Режиссер прав. Но я уже «сижу в бутылке по самое горлышко». Тяжело,
очень тяжело играть в таком противном состоянии... А я вот как сделаю. О,
прекрасно! Сейчас, назло ему, сыграю изо всех сил. Завтра же официально откажусь
играть эту роль. Напишу заявление, мол, извиняюсь, но роль не моя, товарищи из
худсовета были правы. И туту домой, к папочке. Уж он-то поймет. Прощай, товарищ
директор! Добровольно отдаю вас более достойной актрисе. «Усё, шо бог не
делаить, усё к лучиму». А то потом душевного позора и насмешек не оберешься.
«Актрису в кадр, пожалуйста». Ко мне подошел второй режиссер Аркадий Тигай и очень
душевно, с пониманием ситуации, сказал: «Людмила Марковна, пойдемте».
О!
Такой тишины не помню ни в одном зрительном зале. Ни в самой глухомани, в самую
кромешную темную ночь. Аж в ушах зазвенело, и сразу в обоих. По сто стрекоз в
каждом. Только бы не расплакаться! «Мотор!» Дубль я провела с ощущением, что
это в последний раз. «Сто-о-о-ап!!! — вскричал Трегубович, подпрыгнул на пол
метра, сдавил мою руку. — Молодец, снято! Смену закончили». И пошел, напевая
очередную свою прибаутку: «Очень соблазнительна Наташенька Левитина». Он очень
в чем-то похож на моего папу. И очень, ну просто очень понравился моей маме.
Когда, будучи в Москве, звонит нам, он громко и весело с ней разговаривает:
«Это Леля? Привет. Как дела?» Мама вся рдеет и, улыбаясь своей довоенной
улыбкой, раз десять мне говорит: «Звонил Виктор Иванович, и все мне Леля,
Леля... Он очень... забавный, очень непростой, правда?» Моя мама его хорошо
могла наблюдать на съемках фильма «Обратная связь», куда мы ездили с ней
вдвоем. Нет, втроем. Я, мама и мои костыли. В фильме «Мама» я сломала ногу, а в
1977-м, зимой, я начну сниматься у Трегубовича — совсем больной и беспомощной.
Но он будет со мной работать, не обращая внимания на мое состояние, как ни в
чем не бывало. Он мне даст почувствовать, что жизнь продолжается, что я
действую, работаю, живу. Конфликтов у нас больше не будет никогда. Он умный и
сильный. И я ему доверяюсь. Он для меня из тех режиссеров, за которым пойду, не
читая сценария. Когда зрители спрашивают, какая моя роль самая любимая, перед
глазами у меня проходит так много... Я вижу и «пробу», и ленинградский Дом
кино, и на мгновение пронизывает холод того конфликта, и заливает такое тепло к
этому человеку, который через много лет оживил во мне то, что уже все
похоронили. И еще многое, многое вижу, что случилось в том же 1973 году. Я
думаю, что надо быть благодарной тому случаю, той роли — всему, что помогло на
экране стать самой собой. Несмотря на то что эта роль внешне так далека от
меня, она — моя. Она моя по человеческим и чисто женским нюансам. Вот что
оказалось самым странным и удивительным. Вот какие открытия для меня принесла с
собой эта роль. В ней мне жилось тревожно и счастливо. «Думаю, что моя любимая
роль в фильме «Старые стены», — и всегда этот ответ зрители тепло
приветствовали.
Съемки
были в разгаре. Худсовет перестал придирчиво следить за моим исполнением роли
директора. Приближался самый ответственный для меня «объект» — кабинет
директора. Мы его снимали в настоящем директорском кабинете одной из ткацких
фабрик Ногинска. Эта сцена, когда я провожу с начальниками цехов утреннюю
пятиминутку. Знаю, что у меня на фабрике будет план. Знаю, что энтузиасты в
моем коллективе есть. И они моя опора. За длинным столом моего директорского
кабинета, вперемежку с актерами, сидели настоящие начальники цехов. Но мысль о
том, чтобы я после смены спела им что-нибудь из «Карнавальной ночи», даже не
обозначилась в атмосфере. Мы только сфотографировались на память, но без
подчеркивания «ненастоящести» происходящего. Все отнеслись с уважительным вниманием
ко мне, как будто я и в самом деле — ну, не директор, конечно, но какой-то все
же начальник. Это были самые замечательные съемки. Для души!
17
июня 1973 года. Был жаркий летний день. Июнь — самый любимый волнующий зеленый
месяц. В этом месяце идеальное состояние природы для влюбленности. И этого
месяца я почему-то ждала уже в тридцать восьмой раз с тайными надеждами. В этом
прелестном ногинском июне я только работала и любила свою семью. И больше
никого. Во Дворце культуры снимали свадьбу молодоженов. Снимали ночью, потому
что днем во Дворце своя запланированная культурная жизнь. Закончили работу в
четыре утра, быстро на машину — и в Москву. Короткий сон, а в девять утра у
дома «киносъемочная» со студии «Мосфильм». Еду на съемку к Ташкову, где снимается
главная декорация — «квартира Ванюшиных». В 17.30 у студии стоит такси из
Ногинска. Снимается режимный кадр: директор Анна Георгиевна Смирнова приходит к
работницам в старые казармы-общежитие. Эх, сцена! Снимались сами работницы
фабрики и только две актрисы. Все эти женщины годами стоят в очереди на
квартиры, кому же, как не им, по-настоящему известно, что это такое. Они забыли
про съемку, они обступали меня со всех сторон, они так пытливо всматривались:
обманет или доведет дело до конца... Ах, я бы им все-все отдала, всем-всем
квартиры, через все невозможные пути, ходы, просьбы, прошения — так на меня,
актрису, играющую их директора, смотрели люди, не актеры, у которых актерская
задача была их насущнейшей жизненной потребностью. Это одна из самых сильных и
достоверных сцен в фильме Виктора Трегубовича. Режим кончился. И опять
ногинское такси повезло меня в Москву. Мертвая, прямо в гриме и одежде,
повалилась на кровать. Было начало девятого. Звонок. Ах, надо было выдернуть
штепсель.
—
Дочурка, ето папусик! Як ты? Вже пять дней тибя не видев, моя ластушка, мой
труженичек. Ты ж не забивай себя так, а то ты... Ты як я. Не могу сидеть без
дела. Мы ж з тобою не то што она. Ей усё спать и есть, во порода, ты скажи на
милысть.
—
Папочка, как ты, как чувствуешь себя?
—
Наверна, скоро помру, а она всё не верить. З утра, знаешь, дочурка, так серце
прихватило, ну, думаю, всё, девки, во́йна и смерть моя. Потом понапивсь разных
лекарств, вроде полегчало. Пошли з Машую и з Лёлюю на выборы. Ну, честь по
чести исполнили священный долг. Пообедали. Знаешь, дочурка, она як захочить,
усё зможить — такой справила укусный борщ — я сам змолов полных две тарелки. А
каклеты полинилася. Каклеты есть отказавсь наотрез — хай ценить мужа. Дочурка,
я тибя як отец прошу, ат чистага серца, поговори з Эдикум! Тут кала меня усе
мои друзья — и Чугун, и Партизан, ты их знаешь, я тибе за их гаварив, дочурка,
будь ласка, поговори з Эдикум!
«Поговорить
с Эдиком». Что это значит? Собака — карликовый пинчер — черный, с рыжими
подпалинами. Для нас с мамой — Федя, для папы — Эдик. Этот пинчер — профессор,
соображающий феномен — был приучен папой разговаривать по телефону. Мама, Маша
или я на одном конце провода кричим: Фэ-э-дю-у-у-у-у-у-шшш! — на другом конце
провода, где бы этот второй конец ни находился, наш умный «мальчик» отвечал песенными
руладами, перемежающимися с коротким отрывистым лаем: понял, эту интонацию
исчерпал, жду следующего вопроса. Трюк? Безусловно. Вы идете по улице и
натыкаетесь на толпу заинтригованных людей. Протискиваетесь ближе к будке и
видите, как человек со счастливым лицом держит голенькую черненькую собачку,
просит ее поговорить с какой-то «Люсюю», и собачка, припав ухом к черной
телефонной трубке, вылезая из кожи поет, кричит, говорит: «Бов, бов, бо-о-оррр,
вав!» Кто же там его слушает? Кто объект? Собака, человек? «Ну форменный
идиотизм, Марк, котик», — возмущалась довольная мама. Да, папочка уже не мог,
как раньше, крутиться, вертеться, развлекать, «быянчик — чечёточка». Ему было
уже 75 лет и два инфаркта. Но он был не тот человек, чтобы притихнуть,
заскучать, опустить руки, поддаться унынию. Это было одно из его новых
московских развлечений, и многие его на улице знали: «Это тот добрый человек, у
которого собачка разговаривает по телефону? У него еще дочь вроде актриса...» Обо
мне он давал всем — хотели того люди или не хотели — самую подробную информацию
с демонстрацией моих фотографий. Про свою дочурку «З усем серцем у самую первую
очередь». Редко за последние месяцы нам приходилось быть вдвоем. И у меня
болела душа. Но зато, когда выдавался день, мама говорила: «Пусть папа приедет
к тебе, мы вам мешать не будем».
—
Поговори з Эдикум, дочурка, милостью прошу, я вже тут людей пособрав.
—
Папочка, милый, не могу. Я еле живая. Я же ночь работала, спала три часа,
сейчас ничего не соображаю. За день сжевала три пирожка — поесть некогда, а ты
со своим Эдиком. Ну нельзя же так, пап, зачем тебе людей собирать, скажут, что
мы ненормальные какие-то...
—
Да нет, они хлопцы хорошие, Эдика усе любять. Хотев людей уважить... Ну, усё,
ладно, прости, прости меня, дочурка...
Это
было в начале девятого, а в десять вечера я стояла в маленькой комнате, которую
родители выменяли на нашу харьковскую квартиру. На тахте лежал мой папа и
чему-то счастливо улыбался. На груди у него стоял ощетинившийся, ощеренный Эдик
и никого не подпускал к папе и близко. Так мы и стояли: мама, я и Эдик. А папа
лежал и улыбался. Умер наш папа. А подойти к нему мы не можем. Эдик был такой
воин, такой защитник, такой друг. В людях, которые не чтут собак, есть незнание
ощущения, что тебя не предадут никогда. Эдик чувствовал, что случилось
непоправимое. Когда же мама исхитрилась и кое-как ухватила его, Федечка вдруг
на наших глазах обмяк, сник, стал тяжелым-тяжелым и покорно лег на свое место,
глядя на нас пустыми, равнодушными глазами. Да и вообще, он больше никого не
любил. Исполнял свои сторожевые обязанности исправно, иногда «говорил по
телефону», но недолго и безо всякого удовольствия. Зарабатывал себе на жизнь, и
все. А потом и он ушел вслед за своим любимым хозяином.
Безусловно,
требуется время, чтобы разобраться в происшедшем, в своих эмоциях, в себе.
Просто удивительно, какое же количество второстепенных, ненужных мыслей
проскальзывает в час трагедии. Именно в тот момент, когда весь организм
сотрясается горем. Ведь потрясение, казалось бы, должно придавить все мелкое и
постороннее. Ничего подобного... Почему они закрыли крышку гроба? Подумаешь,
законы: стоит автобус — открываем, поехал — закрываем. Скорее бы расстаться с
этим автобусом. Зря эта тетка надела голубое платье — все в темном, какая
бестактная, неужели она нравилась папе? А я сама, тоже вырядилась — во все
черное, и все со штучками, оборочками, все непросто, как будто на чужих
похоронах замуж собралась милая вдовушка. Правильно папочка говорил: «Поший
себе хоть одну солидную вещь...» Пошью, теперь пошью, даю тебе слово, папочка,
теперь у меня все будет солидное... Не забыть бы тропинку, что ведет к могиле.
Завтра одна приду сюда, поплачу, поговорю... Какая погода, как назло. Что?
Троица? Да, да, папа говорил, что бог на троицу призывает к себе всех лучших
людей. Но мне от этого не легче. Почему я не плачу? Ведь надо плакать... Да,
надо вот с этими молодыми могильщиками расплатиться пощедрее, а то скажут,
работали у артистки, что снималась в «Карнавальной ночи», а она пожмотничала.
А-а! Бросать землю. Так положено? Да- да, помню. Значит, фотографию, где мы все
на коленях у папы, я положила, крестик положила, платок моей школьной подруги
«Милашки» с ее инициалами положила... Вот папин сын, мой родной брат Володя произнес
нужные по такому случаю слова. Папа сам сколько раз их говорил: «Хай земля ему
будить пухум...» Ну, все идет пока как у людей. А завтра я все, что у меня
есть, — раздарю. Деньги раздам друзьям на угощение, этим старичкам, что стоят у
церкви, — пусть помолятся за усопшего раба Марка. Папа будет доволен. А
послезавтра он воскреснет и снова будет с нами. И в это я верила абсолютно. Да
кто же тогда на этом свете должен жить, если такого чистого, моего доброго папы
не будет! Нет, в тот момент у меня даже мысли не было, что это навсегда.
А
назавтра я блуждала-блуждала по кладбищу, искала-искала дорожки и, казалось бы,
неизвилистые тропинки... Не помню. Ничего не помню. Стемнело. Кладбище вечером
пугает. В голову лезут страшные детские сказки. Ухожу по главной аллее
кладбищенского парка, все оглядываясь и проверяя, где же я сбилась... Навстречу
идут подхмелевшие вчерашние могильщики — спросить бы, но по их настроению
чувствую неуместность своего вопроса. У них похоронный рабочий день кончился,
началась светлая земная жизнь. Сама, сама отыщу своего папу! Накануне всю ночь
шел дождь. Свежая могилка была размыта дождем. Цветы завяли. Тихо. Холодно.
Мертво. Да нет его здесь, нет! Моего папы здесь никогда не будет! Здесь пусто,
а он — жизнь! Он свет! Он оптимизм! Нечего мне здесь искать. Папа во мне. Папа
в нас! Он хотел, чтобы я работала, чтобы я несла людям радость. Он хотел
гордиться мной. Он хотел, чтобы я была счастлива! Я буду работать, ты будешь
мною гордиться, я буду счастлива!
...А
на следующий день я стояла перед камерой. Три дня отпуска в связи с «непредвиденными
обстоятельствами» кончились. И хорошо. Какое коварное изобретение — кинокамера.
Она способна куда с большей пронзительной, безжалостной точностью, чем
литература и самое прекрасное фото, зафиксировать переливы и вибрацию души!
Когда я смотрю те кадры, после свежей раны... Не-ет, не сыграешь, не
загримируешь, не срежиссируешь. Сокровенное идет из глубины — оно и есть
подлинное.
Больше
всего в то время я боялась оставаться одна, наедине со своими мыслями.
В
«Старых стенах» предстояло озвучание. «Дети Ванюшина» были уже позади. Кончится
озвучание «Стен», а что дальше? Ну хоть бы не было свободного времени. Я же не
выдержу. Ну подвернись же какая-нибудь работенка! Несколько раз на встречах со
зрителями я робко говорила про роль директора. Мой рассказ так и повисал в
воздухе, все кончалось «Хорошим настроением». Со стороны мои метания, мое
наэлектризованное состояние на двести вольт — лишь бы не грусть, и не дай бог
тишина — мало были похожи на страдания преданной дочери. Ну, да ладно — люди
есть люди, как говорит моя любимая героиня Анна Георгиевна Смирнова. Мне бы
дышать без остановок. Ну когда же я перестану дергаться? Когда же у меня
появится хоть какой-нибудь надежный островок покоя? Есть же у других актрис
семья, заботы. Их встречают, провожают, в кассах берут билет на «Стрелу».
Кто-то им открывает двери, спрашивает, что нужно купить, а может, подарить... А
мне не надо ничего покупать и дарить ничего не надо. Я сама себе подарю. Мне бы
только на кого-то положиться, в конце концов. Только и всего. Наверное, что-то
не так во мне самой. Скорее всего...
Этот
молодой человек — музыкант. Я его не замечала, хотя в концертах он играл в
оркестре на сцене рядом со мной. Но тогда, в те дни, ничего не видела. Я неслась.
У меня умер папа, кончилась прошлая жизнь. И уже не для кого было расшибаться в
лепешку и лезть из кожи вон.
Для
человека, а для женщины особенно, пусть она и актриса, безусловно, главное в
жизни — найти свою половину. У одних эта половина появляется в юности, у других
— в зрелости. Счастье? Да, если ты искренен, расслаблен, понимаешь, что
«половина» примет тебя и поймет в любом «неконцертном» и непраздничном
состоянии. С того времени, как не стало папы, потребность в такой понимающей и
преданной «половине» выросла до невероятных размеров. И я абсолютно верю, что
этого скромного и доброго человека — моего мужа — послал папа. Ведь папа знал,
что для меня главное — верность. Случайно мы очутились за одним многолюдным
столом, но ровно через «пять минут» я подумала: неужели — тот самый? Если он
исчезнет из моей жизни... А это главное, чтобы человек постоянно был рядом. Это
самое главное. Главнее, чем страсть, вздохи и восторги любви.
Так кончился этот особый в моей жизни год. Отныне я буду не одна. Рядом со мной моя любимая семья, которая будет помогать мне жить и работать. И работа впереди будет — за все незабываемые годы терпения и ожидания. Именно с 1973 года начнется моя вторая жизнь. И будет казаться, что все улеглось, утихло и уравновесилось. А на самом деле ничто не уравновесилось и не утихло. Оно кричит, мучается, сомневается, болеет. И никогда больше самый родной на свете сипловатый голос не скажет: «Дуй своё, иди уперёд, дальший, моя богинька, моя клюкувка, твоё щастя упереди, вже вот-вот, усем своим серцем чую. Ну, а я пошёл на покой. С богум, дети мои!
[1] Советский экран, 1982, № 16.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





