ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
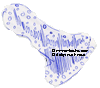


рекомендуем читать:
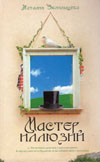
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кузнецова Галина 1989
Как всегда, в марте с утра холодно-колко, но в воздухе не повторимый ни
в какое иное время года запах свежести и обновления. Никогда больше не бывает
такого кустодиевского зелено-розового неба. Оно едва ли не с января начинает
чуть-чуть розоветь, зеленеть и, наконец, заполняет все пространство над
головой.
Здесь, за городом, неба много. Оно стоит над обширным, хотя и новым,
кладбищем, почти уже заполненным, однако не стесненным домами и улицами и
потому все еще просторным.
Сразу от центральных ворот, где еще десяток лет назад толпились нищенки,
старушки-побирушки, а теперь исчезли, начинается липовая аллея, ныне пышно
разросшаяся. В конце нее огромная клумба, до которой у кладбищенских работников
иногда вообще не доходят руки, а в лучшем случае ее засадят осенними цветами в
самом конце лета. От клумбы расходятся лучи-дорожки к участкам. Участки
пестрые, то прекрасные, то ужасные. Здесь в равном добрососедстве скорбный
благородный мрамор и холмик, обложенный кафельной плиткой. Рядом с низко
висящими цепями на чуть приподнявшихся столбах, чтобы только обозначить контур
места, высокий частокол разноцветных оград, на котором приварены: то красные
звезды, то подобие пламени, золотые олимпийские кольца, странные завитушки или
скромные крестики.
Четыре зеленых креста по четырем сторонам зеленой ограды и пятый на
дверце — могила матери Валентины. Не надо только замечать горы мусора у дороги.
Можно и заметить, возмутиться или пренебрежительно повести плечами. Тогда и
кафель, и завитушки тоже надо вспомнить. И поговорить о вкусе и показателе
национального достатка.
Как бы там ни было — здесь всему хозяйка Таисия Семеновна, которую
многие в глаза не видели, но случается, что без нее не обойдешься.
Этот тополь Валентина помнит небольшой палкой-веткой, которую Михаил
Михайлович когда-то поставил в ведро с водой. На девятый, а может быть, на
сороковой день они с ним ездили навестить еще свежую, из янтарно-желтого песка
могилу матери. Тополь отчим захватил с собой и посадил в изголовье. Тогда
кругом были такие же желтые свежие холмики и ни одного деревца. Валентина в свои
двадцать лет почти не бывала на кладбищах, и о тополях ей как-то не приходилось
ни разу думать.
Что она тогда думала, что чувствовала? Но что могла она чувствовать,
если не жила, хотя и дышала. И что могла думать, если ее настоящее было так
печально и одиноко. Не думать и не чувствовать тогда был единственный способ
выжить, не испугаться жизни.
То была ее первая жизнь, бездомная, сиротская, в сущности, невыносимая,
поскольку тут же появилась Антонина, вторая жена отчима. Глядя на ее ярко
накрашенные губы, уже безнадежно больная мама говорила, кротко улыбаясь: «Моя
замена...» После похорон Валентина превратилась в кочевницу: поживет у
двоюродной сестрицы, потом у одной подруги, у другой, потом придет пораньше домой
(пока не заперли двери на четыре замка) и заночует «дома». Добрые люди
предупреждали: выпишут, а второй раз в столице, где ты родилась и выросла, не
пропишешься. Антонина в домоуправлении — большой человек, не забывай.
Ни тогда, никогда потом, кроме одного момента, о котором речь впереди,
Валентина не ездила к матери чаще одного раза — весной, в годовщину. Но всегда,
всегда знала: там, на другом конце города, на окраине, лежит ее мать. Порой все
становилось призрачным. Но это — мама и ее могила — было всегда самым реальным
из того, что она твердо знала. В те неприютные годы первой своей жизни она
разговаривала с ней так:
«Здравствуй, мама...
...Ведь тебе здесь хорошо, тихо? Ты всегда любила тишину и хотела иметь
четыре стены, в которые никто не ворвется. Смотри, какие у тебя стены: вроде их
и нет, но за них никто посторонний не зайдет. Никакой пышности, как ты велела,
только белый православный крест, как на церковных главах: две поперечины, еще
одна наискось. И просьба твоя исполнена, написано, как ты велела: «Господи,
прими дух ее с миром». И крест, и дощечку из стали заказали, конечно, на
заводе. На кладбище изготовляют какое-то жалкое подобие вензелей старинных
городских оград.
Я знаю: тебе здесь хорошо, ты довольна своим обустройством, ведь ты
приготовилась на долгую, до самого Страшного суда, заземленность своего праха».
Про себя ей тогда ничего хорошего не придумывалось. Может быть, с живой
мамой она и не стала бы откровенничать. Дочерям часто кажется, что их матери
смотрят на них немного свысока: ну-тка проживите с мое, добудьте отца детям,
себе любимого. Но Валина мама уже не боялась, что заденет самолюбие дочери (ей,
пугливой, уже ничто не угрожало), и дочь не таилась от спящей вечным сном
матери.
«На работе ко мне относятся неплохо, то есть все устроены лучше меня, и
должности у всех выше, и у всех кто-то есть, и потому ко мне относятся неплохо,
ведь у меня все хуже, чем у других. Но всякую минуту не это меня занимает, хотя
я свою работу делаю старательно, ведь я в тебя, такая же исполнительная.
Во всякую минуту я хочу любить и быть любимой, и это какой-то замкнутый
круг, из которого ни мне выйти, ни ко мне зайти. Какая простая вещь: компании,
спорт, деловые отношения. Сначала люди приглядываются друг к другу, потом
сближаются. Головы думают, сердца во власти разума. А тут бестолково,
безадресно рвется куда-то сердце, мыкается неприкаянное, а в голове никакого
плана, никакой личной цели к кому-то приблизиться, стать кому-то необходимой,
помочь себе самой, пробудить к себе интерес. А внешний вид всегда и постоянно
такой бодрый, такой жизнерадостно-тупой, ни истомы в глазах, ни скорбно
изогнутых губ, подкрашенных помадой, ни манящей походки.
Мамочка, меня не видят, меня не замечают! Я отчаиваюсь, я исхожу слезами
— большая, как слониха, грустная, как корова, неуклюжая, как бегемотиха. Мамочка,
как мне быть?!»
Вулкан, что кипел внутри, здесь затихал. Успокаивающе молчала земля, из
которой смело торчали сабельки молодой травы. Там, под ней, под ее корешками,
под разрастающимися корнями тополя, лежит добрая, незабвенная, в голубом новом
байковом платье, в синих суконных тапочках и белом платочке. Синее да белое —
самое чистое, самое материнское.
В жизни не дождешься призов ни случайных, ни справедливых. По
справедливости приз можно получить, если поумнеть, и Валентине пришлось
поумнеть. Через отчаяние, через ошибки, через боль и преодоление себя —
искореняя в себе слониху, корову и бегемотиху. Не сразу и, может быть, до
самого конца — все равно не до конца, но всегда, постоянно, с переменным
успехом борясь за себя с собой, уходя от себя, чтобы понять хоть что-то в себе
и в других. Какая это была кротовая работа! На нее ушли и юные, и молодые годы.
На нее, в сущности, уходит вся жизнь, пока самодисциплина не становится
естественным состоянием.
Вторая Валентинина жизнь и была временем рождения не только ее детей, но
и началом собственного перерождения, еще не осознанного, еще стихийного и
потому еще пока прекрасного.
«Здравствуй, мама. Нам с тобой не верится — правда? — а у меня уже и
Поленька растет, и Павлик родился, и даже отец у детей есть, а ты
догадываешься, что это значит для женщины, у которой вместо отца был отчим. Муж
— вот что самое удивительное. И нет у меня только времени, вовсе его нет ни на
что — ни на рассуждения, ни на что-либо, не касающееся моих детей. На работе
мне надбавили пятнадцать рублей, относятся ко мне хорошо: двое детей у женщины,
какие к ней сейчас особые требования, потом отработает, когда детки подрастут.
А я и в самом деле не помню, во что утром оделась, что съела. Вечером
ложусь, пятки у меня горят, словно я десятки километров отмахала: по дому как
челнок, на работу, и в детсад, и в магазины бегом. И мир ко мне добр, как мне
кажется, — ведь у меня дети. И чувствую я себя уверенно — ведь у меня защита
есть, муж.
Но как же мне тебя не хватает, мамочка моя родная! Ведь ты бы мне
помогла, не осталась бы в стороне, правда? Не на всякий крик Павлика я вскочила
— ты бы встала, а я бы сделала вид, что крепко заснула и не слышу. А Павлик
очень кричит по ночам да и днем тоже — из-за сыпи. Поленька болела обычными
детскими болезнями, какими всегда болели все дети. И я у тебя ими болела, это
нормально.
Но у Павлика какое-то нарушение, и мы об этой болезни с тобой сейчас бы
вместе впервые узнали. Полечке я ежедневно натирала морковный или яблочный сок,
так что у меня кожа на пальцах махрилась от терки, а ему нельзя. Все для него
отрава: и фрукты, и овощи, и воздух, и вода. И весь мир, как единый сосуд,
разносит над ним и другими такими же несчастными детками и под ними, глубоко в
подземных водах, и в мировом океане, и в ближайшей реке химические отходы. И
как это позволяют сами люди, должно быть тоже отцы и матери, — не может понять
женский материнский ум. И кто же, если так будет продолжаться дальше, рискнет
рожать детей. Им на муку, себе на отраву?
И вот, мамочка, чуть что — покрывается наш Павличек сыпью, и изнутри
тоже, словно внутренняя поверхность варежки. Нет, мама, вы так не страдали, как
нынешние матери страдают. Если они, конечно, матери, а не шалавы, которые, как
везде говорят и пишут, повадились отказываться от своих, зачатых по пьянке,
безотцовых детей; только эти несчастные дебильные дети и перспективны. Их будет
все больше, если так и дальше пойдет дело.
А Полюшка обижается — почему я не смеюсь? И Леня обижается — не уделяю
ему внимания, а все детям да детям. А и правда, в отношении Лени только и
хватило меня, чтобы ему поверить и пойти за ним бездумно. Уж и не знаю, как это
на меня просветление тогда нашло. Видно, срок мой пришел. А теперь я его почти
не замечаю, и он от этого что-то важное теряет, — может, я, мама, об этом
когда-нибудь пожалею?
И стал у меня, мамочка, портиться характер, стала я преувеличивать обиды
и беды и преувеличенно на все реагировать. Мне всегда было стыдно за всех
женщин, что про них говорят: все девушки нежные, откуда берутся жены-ведьмы? Я
не хочу стать ведьмой. Мне стыдно за то, что я такая слабая и обидчивая. И я
очень устаю от постоянного чувства раскаяния, а Лене нравится делать меня
виноватой.
И все-таки, все-таки — я теперь счастливая, я этого до конца еще не
понимаю, я только потом до конца пойму, что и нет другого счастья женщине, чем
дать жизнь и исполнить свое предназначенье. Я так сейчас живу, как растет трава
и деревья, как живут лошади и собаки: не оценивая себя, не заглядывая вперед,
не желая иного, чем повторялось вчера и сегодня, не зная крайностей. Это
искусство просто жить некоторым счастливцам дается от природы. Мне удалось его
испытать временно, как подарок, как молодость и здоровье, — вручено вместе с
детьми и уйдет от меня вместе с ними...»
Но случались на могиле матери и иные беседы.
— А вот и наш тополек, Антонина, гляди, как листья навострил, так и
рвется из почек, значит, опять весна. Кыш, дармоеды! — Михаил Михайлович
отогнал воробьев, налетевших на куски пасхального кулича, разложенного им на
могиле. — Ну, здравствуй, Мария, разреши к тебе войти, посидеть возле тебя.
Вот, моя миленькая, встретились мы с тобой весной, и потерял я тебя весной.
Сняв кепку, обнажив седую красивую голову, Михаил Михайлович низко в
пояс поклонился могильному холму и сел на скамеечку, заняв ее целиком; та предупреждающе
скрипнула, но он этого не заметил. Положил на колени кепку и глубоко задумался.
Антонина с сурово-скорбным лицом осталась у входа, держа в руке бумажный
венок. Все идет обычным путем, все у них так, как полагается двум пожилым,
берегущим друг друга супругам: Михалыч помолчит, посидит как бы наедине с
собой. Тут она скромно-тихо перекрестится, шевеля губами без слов, повесит
венок на белый крест Марии и снова отойдет к дверце ограды — двум большим телам
тесно внутри нее. Вот и стоит Антонина с прутиком, что вынула из колец дверцы.
Надо бы замок повесить, а как навесишь — ведь ограду и крест Валька ставила, у
нее, конечно, свидетели найдутся. Но, конечно, все сделала без ума: Михалыч
говорит, тогда можно было сколько угодно земли занять, а Валька, ей все
нипочем, совсем не думала, что здесь, возможно, другим понадобится место.
Все-то не успеешь, не доглядишь, не до того было: вон у других в полтора, а то
и в два раза больше землицы огорожено.
Ну, положим, теперь уж и не так важно — после пятнадцати лет можно
производить захоронение в ту же могилу. В случае чего, к примеру, скажем,
вместе умрут или вскорости один за другим, она и под скамейкой не загордится —
ляжет. Заходили с Михалычем к директору кладбища — очень обходительный человек,
— выпили, конечно, мужики, ну что с них взять, к тому же вполне культурно, не
до сшибача. Директор по регистрационной книге проверил: могила на них,
Скворцовых, записана, и еще раз подтвердил, что только они имеют на нее право.
Вот удача, что, когда хоронили, Михалыч на себя записал. А как же — законный
муж, иначе и быть не может.
И как все отлично сложилось, словно заново жить начали: квартиру получили
отдельно для себя, отдельно Тамарке. С замужеством поспешили, нечего говорить,
спился, в могилу лег зятек до времени, пусть Тамарка, если охота, к нему ездит.
А не выдай ее тогда мать замуж, ни в жизнь бы им не жить порознь и Тамарке не
видать отдельной квартиры как своих ушей: в столовых работать сытно, однако
квартир у них не строят.
А им с Михалычем как повезло: кладбище рядом, есть куда прогуляться,
свежим воздухом подышать, покойницу навестить. Никто не посмеет сказать, что
вторая жена не чтит памяти первой. Она женщина самостоятельная, она себе не
позволит никакого бесчестия. Вон и Михалыч как ее уважает, почти и не пьет, с
годами уж вовсе от дружков отбился. А с Марией — господи! — до чего дошел. Да
тут любой запьет, не тем будь покойница помянута, так поставила, так мужика
запугала, что после нее, как после Сталина, казалось, жизнь остановилась, всем
в гроб ложиться и помирать. Однако выжили и эвон сколько прожили, и даже очень
неплохо жили, всем бы так, в награду за войну и отъелись, и отоспались.
Теперь бы еще жить да жить и чтоб здоровье не подводило. Но хотя и опасно
перенапрягаться для ее сердца, она сейчас, пока муж в задумчивости брови сводит
— не ровен час, давление повысит, — она не побрезгует, листья рукой огребет; у
этой Вальки и лопаточки не припасено, да и бывает ли она здесь? Вот кто-то
цветы живые приносит, похоже, она, кому бы еще мусор разводить.
Да и когда Вальке о матери помнить, к чему в такую даль ездить? Опять
же, только ее смерти дождалась, на утаенные от дома — на какие же еще? —
денежки Михалычевы кооператив построили с мужем. А теперь поди докажи! Да
ладно, бог с ней, пускай пользуется, пускай бы только сюда не тыркалась.
Научили их грамоте, чтобы они не хуже аферистов нас облапошивали. Все-таки
скучно, когда муж вот так задумывается о далеком прошлом. Ведь и они уже почти
столько прожили в законном браке, сколько он в первом состоял. И разве она
менее достойна? Мужа убили — только и успела Тамарку родить. А потом двадцать с
лишним лет одна с дочерью — ну-ка, кто это испытал? А ее все уважали — в
домоуправлении работала, с милицией полный контакт, всегда всех на виду
держала, как приказывали. И полный был порядок! Не то что теперь.
Михаил Михайлович вел с прошлым свой разговор. «Ну что, Мария дорогая,
успокоилась? Сколько хлопотала о своем месте под солнцем, а оно — вот оно. Три
аршина всего и надо. И больше ни о чем ты меня не умоляешь и ни к чему не
призываешь. Навеки замолчали твои уста, закатились глазыньки. Никогда мне
больше не услышать твоего ангельского голоса. А все передо мной, как сейчас,
твоя русая головка, ты и есть та самая пряха, о которой пела: «Русая головка,
думы без конца. И о чем вздыхаешь, пряха ты моя?..»
Теперь-то ясно: баловала ты меня, все мне прощала. Не было в тебе Антонининой
основательности да крепости. Та уговаривать не станет: у нее враз с сердцем
плохо, тут уж решай, или и вторую жену хочешь уморить, или кидайся к домашней
аптечке. Вся моя родня покойницу уважала, но Антонину еще и побаивается.
Только вот что: не щемит больше мое сердце с тех дальних пор и не
хочется больше никого положить за пазуху и отогреть. Хоть сколько ни проживи на
свете, ни молодости не воротишь, ни тех сладких объятий, ни той незабвенной
несмелой улыбки.
А уж доверчива была: вот кого на первое апреля обмануть — одно
удовольствие. Всему верила! Конфет шоколадных и в получку не надо. «Снежок»,
«Лимонные», «Рот-фронт» — ее конфеты. Рулет «Весенний» тоже уважала. Ну,
Антонина, конечно, лакомка: то шоколадки захочется, то булочки. Прямо под нами
булочная, свежие — как не умять. Однако за давлением следим, друг у друга
проверяем, лимонный сок пополам со свекольным приготовляем. И творог свой из
кефира делаем.
Все у нас не хуже, чем у людей: ковер, мебель. А теперь вот — кто мог
поверить? — займы сталинские начали выплачивать. А мы на них давно уж крест
поставили. Хорошо — сохранились. И Валька не взяла. Документы материны и
удостоверение кладбищенское взяла — только ей это не поможет! — а облигации не
взяла. Вот ученая, а тоже просчиталась. Знать бы точно, коробчила она деньги
потихоньку или нет, а как теперь узнаешь... Да, облигации-то и оставила, а деньги
немалые. Я ж тогда как бригадир такелажников хорошо зашибал, и мне уж не надо
было повторять, чтоб записался на полтора оклада, я и на два, было дело,
подписывался.
Да, были времена, прокатилися. Грозные, несправедливые, внушительные. А
я что ж, я стреляный воробей, подмосковного Грай-Воронова мещанин когда-то, а
потом лишенец. Теперь, конечно, все быльем поросло, жизнь хорошая настала.
Особенно если не с чем сравнивать, а только слушать, что в телевизоре скажут и
покажут.
Но я-то и другую, совсем другую жизнь помню и застал. Гражданская
кончилась, со всеми замирились, земля у крестьян, только работай. Хорошо
зажили, справно, конюшню держали, дом двухэтажный. Конечно, один бог без греха,
и с соседом воевали за спорную землю, так что дед, бывало, молится: «Отврати,
господи, от греховного наваждения», — через ночь ему снилось, что
соседа-«землееда» убивает. Ну, и золотишко, конечно, водилось, и полно всякой
утвари да рухляди. Но долго еще потом, в ссылке, как закрывал глаза — видел я:
курчавится ранняя капуста, вымахал лук, прет из земли редиска.
И как подумаешь: что на том месте теперь? До войны разбили там
футбольное поле. И после войны еще там играли. А нынешние перестали
интересоваться мужскими играми. То есть смотреть — пожалуйста, а чтоб самим —
нет, жиром заплыли, от всякого физического усилия отучены. И стадион тот в
полную ветхость пришел, трибуны поломаны-проломаны. Говорят, морально устарел,
возле завода, где Дом культуры построен, там и стадион разобьют. Ну, кому это
надо? Женщины, может, в секцию пойдут?
И никому-то теперешним невдомек, сколько на этом одичавшем месте пролито
нашего с конягой пота и сколько потом пролито слез. А какие планы с дедом
строили, как прочно мы себя ощущали на нашей землице! В столицу-матушку дед
любил ходить пешком. Любил все торжественное: Кремль, исторические песни, стихи
любил и молитвы. Как сейчас вижу, держит в руках книгу и вслух нам читает:
Зачем я шел к тебе, Россия,
Европу всю держал в руках?
Теперь с поникшей головою
Стою на огненных стенах.
И для всякого-то случая у него были припасены то вопрос: «Кому живется
весело-вольготно на Руси?», то и вовсе присказка к случаю:
Птица делает на ветке.
Баба бегает в овин.
Разрешите вас поздравить
Со днем ваших именин.
И поздравлял. Щедро поздравлял, потому как себя человек уважал. И место
у него на Рогожском кладбище в семейной ограде было уже приготовлено, черный
мрамор должен был лечь и на его прах, и меня со временем придавил бы надежно.
Закрыто наше кладбище. А то разве я повез бы тебя, Мария, сюда? Подожди, скоро
и я к тебе приду. Ну, и Антонина рядышком, куда ей деваться, не к беспутному же
зятьку?
А вот она как раз смотрит, озябла, должно. Я и сам что-то застыл.
Немудрено: уж все мои лопаты и лебедки давно проржавели, а кости мои все
скрипят. Вот только одно меня гложет: неужто это я тебя тем ночным ударом в
пьяном бреду загубил? Быть того не может. Но ты меня все равно простила, я же
тебя знаю. Ты же добрая, не то что теперешние, вроде Тамарки, злющие да хищные.
Все-таки хорошо, что все тревожное и порождающее боль позади. Я отчего
пил-то? Вечно меня сосал какой-то червь: о своей земле думал, за деда было
обидно и за себя, и унизительно было с нищими сравняться и на нарах молодые
годы проспать. Теперь все отболело, что точило душу. Хочется просто жить и
любопытствовать — до чего еще додумаются, до какой диковины? до какой дурости?
А мы что ж, нас не спросили, с нами не посчитались, нас силой
немереной-непомерной переломили. Какой с нас теперь спрос?
А любовь? Уж и это вопрос. Так, молодо-зелено, огневицей жгло. Жгло-пожгло,
да перестало. Все прошло-прокатилося, меня не спросилося. Ничего нет, сына нет.
И слава богу, меньше хлопот. Пусть теперь другие — как хотят.
Ну ладно, Мария, пойду я. Ты меня прости, христа ради, если это я тебя
погубил. Кто в чем прав, кто в чем виноват, я, может, всю жизнь над этим голову
ломал. Но только голову ломать — это ж не мое было предназначенье. Свое-то
предназначенье я бы даже очень хорошо выполнил, если бы мне дали с землей моей
управляться. А вот те, кому было предназначено голову ломать, — как же это они
со своим делом не справились, а?»
От капели с крыш и ручейков под ногами, от плачущих сосулек, от солнца,
что весело искрится в льдинках и воде, в душах людских должен бы тоже засветиться
огонь. Но нет — они спешат, обгоняют друг друга, второпях обегают лужи или
досадливо перемахивают через, не всегда допрыгнув до сухого места. И особенно
глубоки лужи именно перед дверями: у входа в магазины, в метро, в учреждения.
Большой город — не для радости, не для спокойной прогулки или неторопливых любовных
взглядов вокруг себя. Достать, добиться, найти, выхлопотать — при чем тут
весенняя капель?
Валентина наконец отыскала очередную подворотню, попала в еще один
замкнутый, как колодец, двор и по козырьку из целлофанированной стружки догадалась,
что это вход в управление коммунального городского хозяйства. Линолеумный пол,
выбитый сотнями ног, как-то сразу пресек все надежды. И пластиковое покрытие на
стенах пригнано кое-как, рейки на стыках не смогли прикрыть косые широкие щели
между листами. И голубые, в черных трещинах, пластиковые стулья на раскоряченных,
неустойчивых черных ножках. И ни одного указателя — где канцелярия, приемная
или как она тут называется. Уверенность в бесполезности визита росла и росла.
Собственно, на что она надеется? На кладбище, правда, с третьего захода
— а это три поездки через весь город, три потерянных дня — Валентине удалось
поймать директора в обозначенные часы приема.
— У нас нет частной собственности на землю. Тот, на кого записана
могила, в дальнейшем распоряжается ее устроением.
— Но там моя мать, и хотя участок записан не на мою фамилию, никто же не
возражал, когда мы с сестрицей ставили ограду и крест? Теперь я должна договориться
с Михаилом Михайловичем об одном, быть может, странном на первый взгляд
вопросе: тополь, который он посадил когда-то, разросся уродливо, напирает на
ограду и скоро ее просто выломает. Надо же что-то предпринять, надо решить. Но
мне не удается с ним созвониться, он, похоже, избегает меня, жена бросает
трубку, все это просто дико...
— Ну почему же дико? — Директор засмотрелся в окно на липовую аллею. —
Знаете, какие страсти вокруг нас накаляются? — Он опять сделал многозначительную
паузу. — Одни родственники хотят произвести захоронение, другие возражают: наша
могила, на нас записана, без нашего ведома ничего вам не удастся, мы же — не
разрешим! А покойник в это время — не ждет. — Директор совсем важно посмотрел
на Валентину и развел руками. — Мы, работники коммунального хозяйства,
подчиняемся правилу. А как же! Иначе начнется хаос.
Валентина в короткий миг поняла то, что не могла понять столько лет. Ей всегда
казалось, что отчим избегает ее потому, что рак начался у мамы от ушиба: пьяному,
ему приснилась драка, и он со всего маха ударил спящую рядом жену по груди...
Сейчас, разыскивая приемную управления, Валентина вновь и вновь содрогалась:
эти двое надеются, во-первых, отвадить ее посещать родную мать и, во-вторых,
улечься по-семейному в мамины косточки. Она долго плакала, и Леня ее утешал и
обещал подумать, как быть, но он ничего пока не придумал, и вот она здесь.
Ей удалось найти одну незапертую дверь. Неправдоподобно истощенная
девица сказала, что начальство на совещании и сегодня не будет, а у юриста
неприемный день. Но это уже не имело значения. Валентина уже точно знала, что
толку, во всяком случае здесь и сегодня, не добьется. Что ж, каждый гражданин
имеет право выяснить интересующий его вопрос в юридической консультации.
За рабоче-крестьянский рубль Валентина получила подтверждение уже ей
известного: иск в судебном порядке по этим делам не принимается, суд подобными
делами не занимается. Чувствуя себя мухой, бьющейся о стекло, Валентина
взмолилась:
— Так если, скажем, я завтра помру, они и меня не разрешат похоронить
рядом с матерью?!
— Могут не разрешить, — вполне приветливо и привычно монотонно ответила
юристка предпенсионного возраста.
Не отдавая себе отчета, в отчаянии Валентина вынула пять рублей и
попросила подумать, как ей быть. Юристка вроде бы денег не заметила. Но
помолчала.
— Вы сами-то в какой области работаете? Вот если бы вы работали в газете...
Знаете что, попробуйте написать в «Правду», или в «Известия», или в «Труд». Может,
там вам помогут?
Тополь пилили частями. Сначала боковые, такие же мощные, как ствол,
ветки, потом верхний ярус веток. Взобравшись по стволу, их отпиливал старшой,
Кряжистый, как его условно назвала Валентина, потому что на вопрос, как его
зовут, он ответил: «Зовуткой». Зато были преисполнены достоинства и имели имена
два его помощника, сыновья Таисии Семеновны. Она-то и посоветовала: за деньги,
мол, надо пилить, без спросу, никто не видел, никто ничего не знает, и зачем
было ходить рассказывать про дерево, кому какое дело, ох уж эти интеллигенты!
Сыновья, в отличие от маленького крепкого Кряжистого, большие, белые, с
животами, использовались им там, где была нужна сила, но не голова. Кряжистый,
почти слившись со стволом, отпилил вершину, и даже она, падая, сильно прогнула
ограду. Оставшийся обрубок все еще был очень мощный, даже еще больше устрашал
своей толщиной, уходящей в небо. С ним могли бы сравниться разве что каменные
столбы на острове Пасха, куда приплыл Тур Хейердал на своем плоту «Кон-Тики».
Валентина успела прочесть эту книгу до того, как родились дети. Теперь бы времени
не нашла.
— Так что, хозяйка, видишь, какая работа, ведь и свалиться мог. Мог?
Мог. Ты же посмотри, инженерное ведь дело, тут без расчета всему делу хана.
Такого гиганта вырастили, и хотите за просто так чтоб его не было! А куда он
упадет, если я недогляжу, ты догадалась? Ага, именно, он сломает еще не меньше
пяти таких оград, чужих оград. Ты представляешь, сколько тебе придется хозяевам
платить? Ну то-то же. Так что для начала накинь десятку.
Честно предупредил: для начала. Позже, когда напряжение достигло
неимоверного предела, он еще два раза накидывал, но Валентину трясло все сильнее
не по этой причине. Она, хотя и решилась спилить и выкорчевать этот проклятый
тополь, хотя возненавидела эти тополя уже давно, с тех пор как приходится
каждый июнь вывозить Павлика в деревню из-за тополиного пуха, от которого
ухудшалось его состояние и зуд невозможно было ничем снять, — несмотря на
решение, принятое ею совместно с двоюродной сестрой, она сейчас, увидев воочию,
как тряслась и дыбилась вокруг тополя земля, поняла, что не стала бы ничего
трогать, если бы знала и видела все это заранее.
Но и сейчас Валентина продолжала сходить с ума от мысли, что там, глубоко-глубоко
под землей, в оранжево-янтарном песке жирные тополиные корни прорастают сквозь
маму. И так из года в год, там, внизу, — сплошная сеть корней.
Напрасно утешал ее Леня, ссылался на ее воспаленное недосыпами и
тревогами воображение — она была безутешна. Только то, что он с приятелем нашел
все же общих знакомых, и кто-то сидел на письмах в газете, и там поступила
жалоба о взятках на их и на других кладбищах, внушало какие-то неясные надежды.
Но исполнятся они или нет, она уже не могла остановиться: тополю здесь не быть.
Она даже хотела, чтобы ее привлекли к ответственности за осквернение праха
собственной матери, пусть наконец суд заметит ее дикое положение. Когда она
что-то такое в этой связи произносила вслух, во время предварительных переговоров
с Таисией, та презрительно-насмешливо скривила губы: в Америке они, что ли,
чтобы тут налетели журналисты, брали, как их там, интервью и так далее. Да тут
хоть бульдозер проедет, еще вопрос, разберутся или нет...
Теперь, пока пилили частями ствол — оглушительно визжала электропила, —
пока отвозили на тележке, что подкатила сама Таисия, куски ствола, и когда
остался один только комель и начали подрывать, раскачивать и обрубать его
главные корни, Валентина уже не помнила себя. Она же нарушила вечный покой
собственной матери. Да есть ли большее наказание, чем смотреть, как
здоровенные, налитые пивом и «чернилами» Таисьины сыновья раскачивают,
выворачивают пень!
Это и есть — невзвидеть божьего света: зачем, зачем она все это
затеяла?! Зачем ей невозможно с этим безумным тополем, стеснявшим воздух и
небо, ее собственную грудь и земные глубины! И зачем она должна была это все
брать на себя?!
В то же время с некоторым удивлением и даже облегчением Валентина
отметила, что ни Таисия, ни все трое рубщики не видели здесь ничего особенного:
дело житейское, чего не насмотришься на кладбище. Если бы Таисия Семеновна умела
писать романы, их бы зачитывали до дыр. Но довольно и того, что жизнь кошмарнее
самого кошмарного романа. Словом, с тех пор как она здесь работала, она
почувствовала себя человеком: ведь кругом столько грязи, и подлости, и греха, и
страстей...
...Когда хрястнул и повалился наконец корень, запрокинув в небо
обрубленное и обпиленное корневище, на дне огромной воронки в желто-янтарном
песке Валентина увидела белые-белые, чистые-чистые косточки...
— Не хотела тебя беспокоить, Михалыч, уж сколько раз Валька звонила.
Сначала чушь какую-то городила про Кенигсберг, про медаль.
— Что — про Кенигсберг?
— Да разве ее поймешь. Ты же знаешь, строчит как из пулемета. Говорит,
попалась ей какая-то книжка, там про то, как наши брали Кенигсберг. И что,
кажется, воздушную армию обслуживала твоя автоколонна, ну, в которой ты всю
войну недалеко от Москвы шофером служил, и с энского завода вы возили туда
бомбы для наших самолетов.
Михаил Михайлович вспомнил: при Вальке не раз удивлялись, почему дали
медаль «За взятие Кенигсберга». Вот оно что. Но это ладно. Узнала, сообщила,
это ладно. А что еще?
— А вот еще. По-моему, врет, воровка несчастная. Говорит, директор
кладбища дрожит, как бы не сняли за взятки. И по распоряжению коммунхоза вписал
ее в регистрационную книгу, и ты получишь уведомление о том, что у вас с Валькой
одинаковое право распоряжаться могилой.
«Будь она неладна», — злобно подумала Антонина не то о могиле, не то о
Вальке-аферистке.
Не стала бы, не стала бы она ничего говорить мужу, никак нельзя тревожить
его гипертонию, но ведь спустится за «Вечеркой», увидит в почтовом ящике официальный
конверт, еще больше, неподготовленный, расстроится. Может, и врет Валька. А
вдруг не врет?
— Да провались она со своей могилой. К Томкиному мужу будем ездить.
Все-таки зятек. Свет клином не сошелся! — Антонина сомкнула высохшие, растянутые,
когда-то пухлые, сочные губы.
Михалыч молчал. Седые брови (как их, черные, любила когда-то Мария!)
сошлись на переносице. «Вот оно как. Нет у меня моего личного права. Вот оно
как, — мрачно, медленно ворочалось в уставшем, сразу отяжелевшем мозгу. — Так
на каком же трехаршинном пространстве закопают меня? Не увижу. И хорошо, что не
увижу. Все равно. Скорей бы. Теперь уж никакой разницы, где лежать. К Вальке с
поклоном не пойдем. Умереть бы только раньше Антонины — пусть как хочет».
С годами Валентина не стала ездить чаще, чем прежде, кроме того
страшного случая. У нее по-прежнему ни на что не хватало времени. Как ни
странно, повадилась ездить к бабушке, без мамы, подросшая Поленька. О чем она
там думала, о чем советовалась — не говорила, становилась все более трудной,
дерзкой и критиканствующей, — неужели и дочери так же неуютно в ее неповторимой
молодости?
Что касается Валентины, она была в вечном замоте: и работа, и дом, и в
нем два мужика — большой да маленький, а можно сказать — оба маленькие, сидят
перед телевизором и ждут маму с авоськами, с продуктами. Придет — накормит.
У нее не было времени смотреть телевизор. Честно говоря, она и не хотела
его смотреть. Телекамера осторожно оглядывала храмы, умея не показать мерзости
разрушений и запустения. Она не сомневалась, что вместе с ней многие миллионы
женщин хотели задать телевидению вопрос: неужели им самим нравится слушать
одних и тех же безголосых певиц, по году исполнять одни и те же песни одних и
тех же авторов, а потом снова тех же авторов, но другие, так же быстро уходящие
в забвение песни? Колосились на экране колхозные поля, а у них на работе, как и
двадцать лет назад, осенью посылали на картошку, и там все гнило, и половина
оставалась в земле. Показывали образцовые поточные линии. А у них на заводе
кончался третий месяц первого квартала, и все еще не был спущен из главка план
наступившего года. Денег она теперь получала в два раза больше, чем после
института. Но купить на них можно было в два-три раза меньше — с ценами тоже
творилось что-то странное.
Больше всего ее раздражало в телевизоре, как разъезжают высокие
официальные персоны в черных лимузинах по столицам и странам, как они беседуют
между собой то в интимном уголке на диване из штофного шелка, то дают аудиенции
в громадных, переполненных залах.
Не понимала она и мужа с Павликом, и всех тех, кто на это смотрит. Ей в
ее бесконечных, незаметных и незначительных заботах все-таки казалось, что решительно
ничего существенного рассмотреть было невозможно: везде блестящие лимузины,
повсюду толпы людей. И если были какие-то государственно важные результаты
переговоров, далеко идущие последствия от встреч высоких лиц, то ведь это как
раз не становилось всеобщим достоянием, граждан о конкретных результатах
информировали в общих словах, уловить что-либо дельное ей не удавалось.
Наблюдая телезрителей, скажем, в санатории, куда она возила Павлика, она
разделила их на несколько категорий. Одни рассматривали трансляции как занятный
спектакль: кто в чем одет, с женой или без, почему и кому подмигнул и т. д.
Другим казалось, что их посвящают в нечто значительное и важное, что они
принимают участие в чем-то, имеющем некий смысл, пусть им пока и не очень
ясный. Третьим все было ясно и понятно именно так, как им предлагалось
понимать, в тех же словах и выражениях, когда-то одних, потом в других.
«Здравствуй, мама.
Прости меня, прости меня за все и особенно за то, что я потревожила твой
вечный покой. Я так и не знаю, права ли я была с этим тополем. Но ведь я была
еще довольно молодой и уже очень усталой. Казалось, разорвусь, взорвусь,
запалюсь-сгорю, если не восстановлю справедливость.
Я знаю, ты любила дядю Мишу. Так ведь и я хотела с ним по-хорошему. Это они
меня избегали, вот я и запаниковала. Я и потом пыталась объяснить ему, что против
него ничего не имею, что только он, но не он с Антониной, вправе, как и я,
когда-то прийти к тебе навсегда. Он так и не поговорил со мной ни разу, так и
не поверил мне, что и я его, ради тебя, простила. Ведь недоказуемо это — отчего
с нами приключаются болезни. И мало ли мы наносим друг другу невидимых ран. Кто
знает, когда, от какого слова, взгляда, поступка в нас что-то рушится или,
напротив, укрепляется, что, по правде сказать, бывает реже. Нет у нас больших
врагов, чем мы сами себе и своим близким. Самые страшные раны — от самых
любимых...
Как у тебя здесь хорошо. Совсем хорошо стало. Вот только крест надо бы
подремонтировать. Или лучше новый заказать, да нигде нет у нас таких
мастерских, а либо заказывай пошлый стандарт в мастерской при кладбище, либо
ищи какие-то обходные пути. Наводи связи с кем-то, кто занят совсем другим, но
на своей базе может изготовить требуемое. Как это все надоело, мама, когда
однажды обнаружишь, что жизнь была обременена совершенно лишними хлопотами, на
которые ушла лучшая ее часть и лучшие силы. Всегда и все поискать, выхлопотать,
тысячу раз сделать тысячу попутных усилий, чтобы найти что-то тебя устраивающее,
хотя бы сносное, или так и не найти.
Должно быть, я очень устала, мне все лучше и лучше у тебя, и не хочется
никуда от тебя уходить. Так бы и сидела в твоей последней обители: столько
неба, такая незаметная зеленая ограда, словно трава поднялась выше обычного, а
в ней кресты зеленых цветков. Все как ты хотела.
И даже больше не виснут хомутами полуистлевшие искусственные венки на
кресте. Но лучше всего, конечно, весной: этот неповторимый дух земли и корней,
это зелено-розовое небо. Почти бескрайнее после наших натыканных один к другому
городских кварталов.
И сама не пойму, мама, что так гложет мое сердце: и дети, и Леня — все
как всегда. Зачем я так устала? Словно наши теплые дома, уставшие от вечного
освещения. Ночью лампы дневного света аж гудят от перенапряжения, но их все
равно не выключают. И мне бы пора выключить себя. Или переключить? На что? Чего
мне надо? Не потому ли я так всполошилась, что идет к концу моя вторая жизнь, полная
тревог и волнений, но и молодости, но и силы.
Сижу возле тебя, а будто делаю к тебе первые шаги; ведь скоро я
сравняюсь с тобой в возрасте и, только подумать, начну, наверное, становиться
старше тебя. И меня это нисколько не пугает. Разве я не получила все то
немногое, что мне полагалось получить? На какой взгляд, может, и немногое, а
разберешься — как раз столько, сколько и было единственно возможно.
Чего-то я всполошилась, а чего — сама не пойму. Словно опять вокруг меня
намечается круг одиночества, как в первой жизни. А в нем только я да
незабвенная моя, в голубеньком платье и белом платочке. Вот все еще живое во
мне и страстно затаенное, как всегда было, все, да не все, не знаю, как
объяснить: дети будто птицы вырываются из рук. Леня отрешенный какой-то, что-то
с ним происходит. Спросишь, о чем задумался, — ни о чем.
Вот опять нас становится двое, ты да я. Если не будет увеличиваться
озонная дыра над Антарктидой, если дети опять начнут болеть только детскими
болезнями, тогда и Поленька повторит нас с тобой, проживет все, как положено, и
однажды почувствует: есть только я да она. Нас, женщин, в конце концов
оказывается двое. И снова ты и я. Если нарушится этот закон, некому будет
продолжить цепочку.
Как здесь хорошо! Над вечным покоем всегда две души: матери и ее
ребенка».
…………………………………….
«...Здравствуй, мама...»
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





